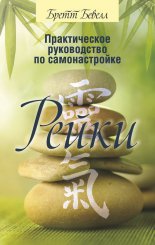Одиночество зверя Аде Александр

Глаза Николая гаснут, трезвеют: он узнает меня. Взгляд его наливается тяжелой ненавистью, губы дергаются в злобно-презрительной усмешке. Рука привычно тянется к стакану. Он высасывает водку до капельки, вытаскивает пачку сигарет, чиркает спичкой, закуривает. Спрашивает:
– Ну, чего тебе еще?
Продолжение разговора бессмысленно.
Ухожу.
Он остается сидеть за столом, словно прикованный незримыми цепями.
Когда – едва ли не ощупью – выбираюсь из этой гниющей, обреченной на снос норы в морозный угасающий мир, кажется, что за спиной – странное зазеркалье, где все в прошлом и нет будущего.
А разве у меня самого есть будущее?
Усаживаюсь в «копейку». Голова раскалывается, трещит. Слава Богу, на холоде хмель из меня выветривается, но ехать все равно нельзя. Надо где-то пристраивать машинешку.
На мое счастье совсем неподалеку обнаруживается платная автостоянка. Сую сотенную сторожу – худосочному, гриппозно хлюпающему хлопчику – и оставляю «копеечку» куковать в новом для нее обществе. И мне почему-то кажется, что она стесняется, робеет в компании важничающих иномарок.
Прощаясь, нежно и виновато поглаживаю ее капот. «Ты уж, пожалуйста, потерпи, ладно?..»
Издает электронный вопль моя мобила.
– Насколько помнится, ты интересовался бизнесменом Карповичем, он же Старожил, – Пыльный Опер как бы нехотя, без выражения выговаривает слова.
– Было такое, не отпираюсь. Что-то случилось?
– Его жена Людмила покончила с собой. Отравилась. Оказывается, она была с прибабахом. Помешанная. Не знал?
– Слыхал краем уха.
– Да, не позавидуешь мужику. Но с чего бы это вдруг она решила счеты с жизнью свести? Ты не в курсе?
– Нет.
– Жаль. Ну, бывай…
На следующий день, едва рассвело, отправляюсь за своей машинешкой.
Сметаю с «копейки» выпавший за ночь снег, засовываюсь в ее холодное, непрогретое нутро – и меня пронизывает тягостное ощущение тревоги. Точно упустил нечто важное, может быть, решающее. Такое у меня бывает.
И все-таки, есть в этом деле любопытная деталька.
О том, что Анну убил Француз, мне сообщили по мобильнику, отнятому у мальчишечки второклассника. А Николаю звонили по трубке, украденной у некой студентки.
Похоже на систему. Эти два телефончика не дают мне покоя.
Нет, недаром кричали бессонные мыслишки в моем черепке: «Надо что-то делать, Королек!..»
Пора действовать, птичка божья!
Автор
– Даренка, – кричит из прихожей баба Настя, – тебя к телефону. Какой-то мужчина.
Потягиваясь, Даренка выходит из гостиной, берет трубку, жестом веля бабе Насте удалиться. Та, недовольно бурча, грузно отправляется на кухню.
– Ал-ле, – небрежно протягивает Даренка.
– Здравствуй, Даренка. Выслушай меня внимательно. Это говорит твой отец.
Голос жесткий, размеренный.
У Даренки подкашиваются ноги. Ее так и подмывает спросить: «А вы не прикалываетесь?», но боится спугнуть этот голос: а вдруг навсегда исчезнет?
– Ты слышишь меня? – спокойно и властно интересуются в трубке.
– Да, – отвечает она одними губами.
– Никого, кроме тебя, у меня нет. Со мной может случиться всякое, но – пока жив – я никому не дам тебя в обиду. Не ищи меня. Если появится такая возможность, сам приду… Слышишь?
– Слышу, – тихо откликается Даренка…
Королек
– Вот что мне на днях подумалось, – говорит Гудок. – В нашем доме из ребят жили только мы с тобой. Я на первом этаже, ты – на втором. А в доме напротив проживали Верка, Серый, Щербатый и Чукигеки. Итого – семеро. Теперь считай. Верки, Щербатого, Серого и младшего Чукигека нет на свете. Осталось трое. Из семи! И учти, сгинули все за последние десять лет. Один за другим. Как корова языком слизнула. Я даже чуть было стишок не сочинил. Только первую строчку придумал: «Прошлась смертяшкина коса по нашему двору». Дальше как-то не выходит… Кстати, ты в этом домике поселился… ну, в котором Верка, Щербатый и прочие обитали. Нехороший домишко. Как будто прокляли его. Заметь, все четверо погибших – оттуда. Может, Королек, тебе в другое место перебраться?
Разговариваем в кабинете Гудка, который (имею в виду кабинет) ничуть не изменился, точно он экспонат музея.
– Слушай, Гудок. Мне нужен пистолет. Боевой. Ты у нас тертый калач. Посоветуй, к кому обратиться?
– Ну вот, – расстраивается Гудок. – Окаянный домишко. Теперь и тебя прикончат, приятель. Кто ж тогда останется? Я да Чукигек. Но… Со многими большими людьми общался – вот как с тобой. И ручкался, и даже выпивал. А с Чукигеком, как стал он олигархом, – не довелось. Робею перед ним, честное благородное, на такую гору парень взобрался. Рядом с Чукигеком я – клоп.
– Так что, Гудок? Есть у тебя на примете человек, который продаст мне оружие?
Гудок задумывается.
– Вроде имеется один такой. Автослесарь от Бога. Мог бы заколачивать деньжищ – немерено. Но – вот беда – за воротник сильно закладывает.
И тут же набирает номер.
– Привет. Ты дома?.. Хочу направить к тебе своего приятеля. Поговори с ним. Я за него ручаюсь, как за себя…
Он произносит еще пару-тройку лаконичных фраз. Заканчивает словами:
– Понял. Скоро будет.
И – мне, подавая руку:
– Постарайся остаться живым, Королек. Я лично тебя ценю и уважаю… Да, и запомни: я тебя к этому мужику не посылал. И адреса не давал. Ты сам его нашел…
Окраина района, возникшего вокруг железнодорожного вокзала. Здесь в глухомани, от которой до вокзала, пожалуй, километров пятнадцать, чудится мерный гул поездов.
Это одно из самых опасных мест города. Вокруг, в основном, тоскливые «хрущобы», а жители делятся на два типа. Одни стараются быть как можно незаметнее, слиться с окружающей средой, прошмыгнуть, проскользнуть, не обратить на себя чьего-либо внимания. Другие, наоборот, открыто вонзают в тебя наглый и злобный взгляд, точно ищут повод придраться, выхватить нож.
Нужный мне человек живет бобылем в двухкомнатной квартирке. Едва появляюсь на пороге – он тут же выставляет на стол двухлитровую бутыль с пивом. А когда отказываюсь, произнеся дежурное «за рулем», добродушно заявляет:
– Без проблем. Один выдую.
Маленький, юркий, жилистый. В спортивном костюме цвета индиго. Лет под шестьдесят. Череп абсолютно голый. Лицо составлено из борозд, впадин, холмиков и напоминает кусок метеорита с двумя смышлеными блестящими дырочками глаз.
Он припадает к громадной кружке с пивом, словно целый день изнывал от жажды. Отпадает. Икнув, заслоняет рот ладонью.
– Ну так чего тебе надо, парень?
– Пушку.
– Круто. Я не любопытный, мне по барабану, для чего понадобилось мое изделие. Может, ты решил на зайчиков поохотиться, а? Верно?
Он внезапно ржет, демонстрируя вставные челюсти.
– Мне бы что-нибудь попроще и подешевле. Одноразовое, – говорю я.
– Такое не держим-с, – хмурится он. – Я ведь больше для себя стараюсь, душеньку свою грешную балую. Это как стих сочинить или музыку. Сердце радуется, когда такую красоту сработаю. Да еще и действующую.
– Адская убойная сила мне не требуется. Согласен на дамскую пулялку.
– Дамскую, говоришь?.. Погоди…
Он удаляется в комнату и возвращается с тупорыленьким пистолетиком, здорово смахивающим на игрушку. Длиной сантиметров десять, не более. В кухонном скупом свете поблескивает сизо-серый металл. Черные рифленые щечки рукоятки украшает вензель: переплетенные буквы F и N.
– Браунинг образца девятьсот шестого года, – констатирую я.
Мужик поднимает вверх заскорузлый палец.
– Вижу знатока.
– Куда там, рядовой дилетант.
– Не скромничай… Ну, какова мортирочка? Представь, когда купил сие чудо за пузырь водяры у одного там… алконавта, это была ржавая железяка неопределенной формы. А теперь – а? Зацени.
– Ты просто сотворил невероятное, – искренно говорю я. Меня вообще восхищают мастера, чем бы они ни занимались.
Беру пистолетик в руку. Удобный, точно сделан на заказ. Взвешиваю на ладони. Легкий. Засовываю в карман джинсов – в самый раз.
– Эх, не могу показать малыша в работе, – печалится оружейный мастер. – Пристреливал в лесочке, а тут, в квартире, не пальнешь. Ты уж сам пушечку тестируй. Будет мазать или сбоит – вернешь. Я не магазин, поверю на слово. У нас ведь с тобой полное доверие… или как?
Пристально вглядывается в меня антрацитовыми, слегка затуманенными пивом глазками.
– Сколько стоит? – интересуюсь я.
– Я, вообще-то, не для продажи эти штучки мастачу, – уклоняется он от ответа. – Мне его и отдавать-то не хочется. Привык. Хорош, шельма!
Любовно поглаживает пистолетик. У меня возникает неприятная мысль, что он набивает цену.
– Ну а все-таки. Почем вещь?
– Ты, парень, похоже, так и не понял. Я еще ни единой своей работы не продал. Ни единой! По двум причинам. Первая: не хочу париться на нарах за изготовление и сбыт оружия. А вторая такая: если из моего детища, которое я своими руками создавал, человека грохнут, вовек себе не прощу. Смекаешь? Мне Гудок говорил, что ты вроде сыщик. А теперь скажи как на духу: зачем тебе понадобился ствол?
– Собираюсь поквитаться с убийцей моей жены.
– Серьезная причина. Значит, ты его из этого браунинга…
– Только в самом крайнем случае.
– Ага. А, допустим, пришьешь его – куда пушку денешь?
– Выкину. Если, конечно, меня первого не прикончат. Тогда не смогу.
– А меня – если в живых останешься – не выдашь?
– Не сомневайся.
– Я Гудку верю как самом себе, а Гудок – как самому себе – верит тебе. Ну, и я… Пять кусков, – с неожиданной решимостью произносит он.
– А не дешево? Я бы и больше заплатил.
– Вот тебе к нему маслятки, – на его огрубелой ладони, латунно блестя, лежат маленькие патроны. – Шесть в магазин. И еще пять. Для пристрелки…
Когда захожу домой, Даренка (которая, должно быть, поджидала меня) с места в карьер выпаливает:
– Мне сегодня звонил один человек. Представляете, заявил, что он – мой отец! Мама Вера говорила, что папа погиб на Дальнем Востоке. Вроде бы он был командиром подводной лодки. А я ничуточки не верила! Мама врала так неумело! Соврет – и покраснеет, как вареный рак. Я почему-то была уверена, что он жив!.. А может, меня кто-то разыгрывает?
В ее глазах отчаяние и надежда.
– Он сказал, чтобы я его не искала. Если нужно, сам объявится. А вы не можете его найти?
– Давай подождем. Если это действительно твой отец – придет…
На другой день, около десяти утра отправляюсь в лес, точнее, в лесопарк – первозданное продолжение более-менее окультуренного городского парка. Здесь – на излете ноября – хозяйничает зима. То и дело проваливаясь в снег, забираюсь в глухомань, кое-как устанавливаю в треугольнике, образованном раздвоившимся стволом березы, порожнюю бутылку из-под пива и стреляю с метров с семи или восьми. Большее расстояние не требуется, не в снайперы собираюсь. Раздается четкий в стылом воздухе выстрел. Бутылка разлетается вдребезги. Цилиндрик пустой гильзы вылетает вправо и теряется в снегу.
На мгновение на меня накатывает морок. Точно наяву вижу мартовскую тьму, сияющий серпик нарождающегося месяца и рядышком – Мою Звезду. Вижу стволы сосен и берез. И Арсения, кричащего исступленно: «Уничтожь меня, брат, я приношу только зло!»
Стреляю еще пару раз по пустым бутылкам и убеждаюсь, что браунинг действует исправно.
Надышавшись свежестью ноябрьского леса, качу в банк, где закрываю счет и получаю в кассе несколько запечатанных пачек с купюрами.
Засовываю пачки в сумку и еду к маме.
Как она будет без меня, если что?..
Когда вхожу в ее квартиру, мой голос деловит, физиомордия бодрая. В первый раз замечаю, как мама постарела. Я привык не обращать внимания на ее лицо, на морщинки: это же мама, родное пятно света. Я даже не замечал, какого цвета у нее глаза. И – вдруг – вижу перед собой немолодую женщину, волосы покрашены кое-как, полным-полно седины. И у меня щемит сердце.
Первым делом протягиваю сумку с баблом.
– Спрячь.
Мама не спрашивает, что в сумке, совсем не любопытна. Если со мной случится… нечто, она (не сразу) вспомнит про сумку, достанет и обнаружит (кроме бабла) записку, в которой прошу прощения за все зло, которое когда-либо ей причинил, и сообщаю, что деньги в сумке принадлежат ей. И никто другой на них права не имеет.
Передаю ей – с рук на руки – кота Королька.
– Пускай побудет у тебя денек-другой, ладно?
Вырвавшись, кот удирает куда-то и не показывается. Обиделся. Еще бы: из квартиры Анны его перевезли в берлогу Финика, потом – к бабе Насте, и вот опять незнакомое жилище! Да тут вообще рехнуться можно!
Мама тут же принимается за старое.
– Ты совсем ко мне не приходишь.
На ее глазах выступают слезы.
Она так и не вышла замуж, хотя очень надеялась, и в этом определенно есть моя вина: я по дурости высмеивал претендентов на ее руку (наверное, из ревности), в чем сейчас глубоко раскаиваюсь. Сколько горя я принес близким людям!
– Извини, мамочка. Ты у меня самая лучшая.
Обнимаю ее, тычусь губами в щеки, в виски. Она вырывается, подходит к окну, отворяет форточку. В кухню врывается свежий, пахнущий морозом, воздух. Примерно год назад, напуганная неприятными ощущениями в горле, мама бросила курить, и теперь наверняка испытывает невыносимое желание затянуться.
– Я отдам тебе лучшую комнату, пожалуйста, только живи здесь! Но ты почему-то предпочитаешь снимать жилье у каких-то… Ну, объясни, наконец, что ты потерял у этой Насти? Насколько помнится, она работала санитаркой в кардиоцентре. Причем, надо отметить, к водочке и мужичкам была крайне неравнодушна. Тебе приятно ее общество? Или нравится ее внучка?.. Забыла имя…
– Даренка.
– Даренка. Назвали тоже. Дарья, вот кто она… Да-рен-ка! Бабка родила дочку без мужа, дочка родила Даренку без мужа. И эта родит, уж поверь мне. Яблоко от яблони…
Мама говорит и говорит, а я заставляю себя слушать и не перечить. «Ты, – твержу себе, – никакого добра ей не принес, так уж постарайся не огорчать ее перед расставанием, которое может оказаться вечным».
– Кстати, у тебя еще не появилось желание на этой Даренке жениться? С тебя станется.
– С чего вдруг, мам. Даже если бы я и влюбился, она для меня слишком молода.
– Молода… По-моему, для человека, жена которого была старше его на одиннадцать лет, понятий старый и молодой просто не существует… Ну, не буду, не буду… Эта Даренка школу-то хоть закончила?
– Учится на первом курсе экономического.
– Совсем еще сопля зеленая. А то возьмешь и женишься. Ты как нарочно выбираешь женщин, которые тебе не подходят… Не спорь. Я лучше знаю…
А ведь мы (мама и я), если не лукавить перед самим собой, совершенно разные люди. Родные, потому что она – это мое детство, ссадины, болезни, ее бессонная тень на потолке, когда томился в огне ангины, ее необыкновенно вкусные пирожки и удивительный борщ. Ее натруженные руки, стирающие мое детское бельишко.
И все же чужие, и говорить нам, по сути, не о чем, разве что вспоминать далекое прошлое.
Когда качу от матери домой – звонок.
– Это Карпович. Заедь ко мне.
Усмехаюсь про себя (богатый – не значит грамотный: «заедь»).
– Само собой, – отвечаю почти весело.
Разворачиваюсь и направляюсь к офису Старожила.
И вот – снова стою перед ним. И снова в тускловатом свете, озаряющем кабинет, меня охватывает ощущение, что нахожусь в комиссионке. Вроде бы и мебель вокруг вполне новая, и одежда на Старожиле – будто только что из магазина для респектабельных горожан, а кажется, что и мебель, и одежда, и он сам – подержанные, залежалые, секонд хенд.
– Слыхал, ты вокруг Даренки вьешься, – цедит Старожил, глядя в стол.
– С чего это ты решил?
– Учти, – таким же ровным голосом продолжает он, точно я не произнес ни слова, – она не для тебя. И не надейся. Понял?
– И давно ты стал заботиться о ее судьбе?
– А уж это не твое дело, – отрезает он с холодной сдержанностью.
– Ты, должно быть, для родной дочурки припас молодого, денежного и перспективного?
– Не суй нос туда, куда тебя не просят. И запомни: держись от Даренки подальше.
– Постараюсь не забыть.
– А забудешь – напомним… Иди.
Как? Он отпускает меня с миром?! И даже не угрожает переломать ноги, оторвать башку и сказать, что так и было?! Похоже, сегодня он милостив как никогда.
Поворачиваюсь, чтобы уйти, – и останавливаюсь.
– Да, чуть не забыл. Слыхал, погибла твоя жена. Позволь выразить свои соболезнования.
– Принимаю, – произносит он, уставившись сумрачными глазами в стол. – У тебя все?.. Прощай.
С самого утра не высовываю носа из своей комнатенки. То мотаюсь от стены к стене, то присаживаюсь за стол или валюсь на кровать, – и все время пытаюсь подражать голосу Николая. Когда мы пили водку и общались тет на тет, я украдкой записал папашу киллера Арсения на диктофончик.
Теперь прокручиваю запись, внимательно прослушиваю и (опять же на диктофончик), как могу, наговариваю фразы. Я не лицедей, копировать кого-то мне невероятно сложно, но стараюсь изо всех силенок, пользуясь платком, расческой и прочими подручными средствами.
Мучаюсь долго. К вечеру начинаю чувствовать: что-то получается. Хоть и далеко не всегда. Мало того, вхожу в роль.
Около одиннадцати вечера заглядывает Даренка.
– Можно?
– Входи.
Она появляется – в огненно-алом коротком халатике. Ноги вполне себе длинные, с искусительными коленками, способные привести в неадекватное состояние любого нормального мужика.
– Извините, – невинно хлопает глазками. – Вы повторяете одни и те же слова. Все время – одни и те же слова. По всей квартире слышно, как вы тут бубните. Это что, упражнение такое?
– Тренируюсь. Хочу поступить в дикторы телевидения. Говорят, хорошо платят.
– А по-честному? – она кокетливо поводит плечиками.
На секунду задумываюсь… А почему бы не проверить?
– Сейчас я прокручу тебе кое-что… Слушай.
Включаю диктофончик, и в комнатке, заполняя все ее уголки, раздается медленный тягучий голос Николая: «Не бойся, не отравлена. Ты ведь, небось, сказал своим, а то и ментам, что идешь ко мне…»
Потом повторяю эти слова, прикрыв губы платком. И спрашиваю:
– Похоже?
– Вроде, похоже, – улыбается она, наивно вздымая бровки.
Потом неожиданно становится серьезной. Лицо напряженное, строгое и встревоженное.
– Зачем это вам?.. Послушайте. У меня очень нехорошее предчувствие.
Вяло усмехаюсь.
– Брось, сестренка. Все самое страшное, что могло со мной когда-нибудь случиться, уже произошло. Впереди только безудержная радость.
– А у меня ощущение, что вам предстоит какое-то ужасное испытание. Я просто уверена… Ой, у меня даже мурашки по коже пошли!
Господи, Анна предсказывала будущее, и эта туда же!
– Ты что, экстрасенс? – спрашиваю беззаботно.
– Не знаю, почему, но я уверена, уверена!
С трудом выпроваживаю ее, пообещав быть внимательным, осторожным и переходить дорогу только на зеленый свет.
Около полуночи звоню Акулычу.
– Не спишь, пивное брюхо?
– Не сплю, ежели отвечаю, – бурчит он. Должно быть, я его разбудил. – Нарисовался, пташка божья. А я аккурат сейчас о тебе подумал. Где, думаю, ентот охламон? Чевой-то его чириканья не слыхать? А он тут как тут, явился – не запылился. Чего тебе на ентот раз от папы Акулыча надобно?
– Слушай сюда, Акулыч. Я сейчас назову тебе данные одного мужика, а ты запиши.
– Ладно… Погоди… Счас ручку возьму… Ну, диктуй.
Называю фамилию, имя, отчество и адрес Николая. И добавляю:
– На всякий случай.
– На какой ишо случай, а? – встрепенувшись, басит Акулыч. – Енто што, завещание твое, птаха?
– Можешь воспринимать и так.
– Ты чевой-то там задумал, монте-кристо хренов? А? Давай прямо сейчас обсудим. В пасть какому такому тигру собираешься башку свою неразумную засунуть?
Понимаю, что сглупил. Вздумал покрасоваться, напустить туману перед возможной смертельной развязкой. Чего уж там скрывать, есть у меня такой мелкий, но поганенький недостаток: обожаю намекать на опасность, которая меня ждет. Я, бывший сыч по кличке Королек, – просто-напросто стареющая кокетка.
Пытаюсь отыграть назад:
– Да я пошутил, Акулыч. Слегка разыграл тебя. А ты и клюнул.
– Поклянись, – сурово требует он.
– Клянусь, – вру с легкой душой.
Ох, припомнят мне это клятвопреступление на том свете, где, возможно, скоро окажусь!
– Эх, намылить бы тебе загривок, пижон! Но мы, акулычи, вспыльчивые и отходчивые. Енто наша родовая черта…
Акулыч свирепо бурчит, костерит меня самыми последними словами, но постепенно успокаивается, его недовольное бульканье умолкает.
Нет, Акулыч, ни тебя, ни милицию-полицию я вмешивать не стану. Это мое личное дело. Моя – личная – месть. Мне помощники без надобности.
С утра кукую возле хибары Николая.
Постепенно тьма отползает на запад. Светает. Гаснут фонари.
Я возбужден, сердце колотится, нервы предельно напряжены, и в то же время отчаянное праздничное чувство разрывает меня напополам. Ощущение близкой развязки.
Только бы Николай вышел из дома!
Бывают такие периоды жизни (иногда они длятся считанные минутки), когда тебе фартит несказанно. Все, что ни делаешь, фантастическим образом обращается в твою пользу. Даже если уронишь на пол часы – не разобьются, наоборот, начнут показывать абсолютно точное время. Похоже, такой период для меня, наконец-то, настал! Бог услыхал мои мольбы: Николай возникает на пороге избы и движется вдаль, похожий на черно-серый бесформенный куль.
Ну, теперь мой выход, пацаны! Покидаю «копейку», шагаю к развалюхе, поднимаюсь по ветхим деревянным ступенькам, без особого труда открываю отмычкой дверь.
Я так усердно подражал голосу Николая, так старался – хоть на какое-то время – стать этим немногословным горемыкой, что кажется, будто вернулся домой, в сумрачный сыроватый гроб, заставленный старыми вещами.
Снимаю трубку бледно-серого дискового телефона. Набираю номер. И замираю. Решается моя судьба.
В трубке звучат гудки. Долгие, медленные, мучительно высасывающие сердце. Потом умолкают, сменившись звенящей потрескивающей тишиной. Тот, чей номер я набрал, не торопится открывать рот.
Мой смятенный мозг пронизывает чудовищная мысль: а что, если у них есть пароль, и теперь тот, на другом конце провода, ждет, когда я произнесу ключевые слова?
А, теперь уже все равно, будь что будет!
– Слушай, – говорю сиплым голосом Николая, приложив платок ко рту. – Надо встретиться. Срочно.
И – точно при погружении на глубину – задерживаю дыхание. Сейчас он ответит!