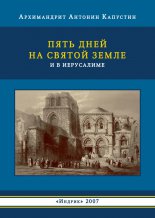Осень надежды Аде Александр

Анна по-прежнему неподвижно сидит в кресле. Просто сидит и смотрит в темный экран телевизора.
Становлюсь на колени, целую ее безвольно лежащие на коленях руки.
– Прости меня, идиота! Я люблю тебя! Никто, кроме тебя, слышишь!.. – бессвязно кричу, пытаясь пробиться к ее наглухо затворившейся душе.
По окаменелому, как маска, лицу Анну ползут слезы. Она не утирает их, а я ощущаю себя последней скотиной, которой нет прощения…
После покаяния и непростых дипломатических переговоров заключается пакт о дружбе и сотрудничестве. И вот уже я, помилованный, возбужденно и радостно тарахчу о чем-то постороннем, виновато заглядывая в глаза Анны и ожидая, как милостыни, ее улыбки.
Наконец, осмелев, заявляю:
– В печенках у меня эта «Неизвестная». Пялится, подлое создание. Фря расфуфыренная. Можно, я ее истреблю?
В умных глазах Анны появляются ирония и боль.
– Она твоя. И в твоей власти поступить с ней по своему усмотрению.
– О’кей.
Снимаю репродукцию со стены, больно уколовшись булавкой, и рву на части.
– Ты с ума сошел, Королек! – вскрикивает Анна и смеется. – Лучше бы отдал кому-нибудь, глупыш.
Но я нутром чувствую, как она довольна.
– От этой поганки одни проблемы. Нет уж, умерла, так умерла.
* * *
Сегодня, под самый занавес октября, вдова отца справляет сороковины. Пригласила меня.
И вот мы вчетвером: она, ее дочь Лиза (моя, стало быть, сестра по отцу), Лизин муж (мой, стало быть, зять) Ленчик и я сидим за столом. Едим блины, пьем водочку. Мы уже помянули отца «тихим, добрым словом», и разговор, как подбитый истребитель, срывается в крутом пике с заоблачных высот на грешную землю.
– Что ж это Анна твоя не приехала? – язвительно спрашивает сестра. – Я ведь ее позвала. По-человечески, уважительно. Может, ей западло общаться с нами? Так мы не бомжи. Я работаю экономистом в солидной фирме, Ленчик – художник. Или она стесняется того, что не расписана с тобой?
Краснею и принимаюсь оправдываться:
– Дело не в этом. Анна домоседка. Ей бы только возиться по хозяйству, слушать музыку да рисовать.
– Ладно, больше не позову. Охота была навязываться, – в голосе сестры звенит обида.
– Ребятки, давайте не будем ссориться, – мягко говорит вдова, пухлыми, в темных пятнышках руками ставя на стол новую порцию горячих блинов.
В беседу влезает прилично окосевший Ленчик. Долговязый, с висящими жидкими сальными волосами и слегка свернутым набок носом, он с обычной своей ухмылочкой отваливается на спинку заскрипевшего стула.
– Ладно, поговорим о приятном. Теперь можно с полным правом загнать марочки покойного. Они все равно никому в семье, кроме него, на фиг были не нужны. А что? Он бабло на них тратил? Тратил. И немалое. А сегодня они нам послужат. Хоть польза от них будет… какая-то…
Контрабас Ленчика еще не умолк, а его уже перебивает скрипочка Лизы:
– Послушай, Королек. Папа не оставил завещания. Мы вместе подумали и решили так: продаем марки (а это, кстати, еще нужно суметь сделать, ведь мы понятия не имеем, сколько какая стоит, правда, Ленчик?) и третью часть вырученных денег отдаем тебе. По-честному, без обмана. Доля маме, доля нам с Ленчиком и доля тебе. Думаю, папа на том свете будет доволен.
– Делайте, как хотите.
Я бы с удовольствием не взял от этих людей денег. Ни единой копейки. Но взять придется. Представляю, как они ссорились, деля будущее богатство, однако побороли жадность и решили выделить треть какому-то Корольку, и теперь горды своим бескорыстием и чувствуют себя почти святыми. Отказом я оскорблю их смертельно.
Странно устроены люди, особенно женщины. Вот и моя сестра – сначала жила с Ленчиком в гражданском браке, и был он ее временным спутником, а теперь они самые что ни на есть родные человеки, потому как жилплощадь и башли у них – совместные.
Наверное, так в подавляющем большинстве семей. Общее бабло. Общие дети. Общая постель.
А что связывает меня и Анну? Должно быть, общая душа. Нечто зыбкое и в то же время незыблемое.
И на фоне этих двоих вдруг ощущаю себя счастливчиком.
Возвращаюсь домой в трамвае. Сижу рядышком с вертлявой девчонкой, а она глядит в окно, за которым скользит, сигналя огнями, город, и стрекочет по телефончику, хохоча и нежничая.
Внезапно в моем заднем кармане принимается вибрировать мобильник. Вытаскиваю его – устаревший и покарябанный, как морда мужа-изменщика. Что делать, привыкаю к вещам и уже не в силах их предать – и «копейку», и «командирские», и сотовый. Все они – мои друзья, с которыми разговариваю, ворчу на них – и люблю.
– Ты уже три недели не появлялся, – врывается в ухо агрессивный голос мамы. – Забыл, что я существую на свете?
– Через час буду, мам, – отвечаю миролюбиво, на ближайшей остановке вываливаюсь из трамвая и пересаживаюсь в автобус.
Мама нарядная и веселая. По всему видать, в квартире околачивается ее новый ухажер.
А вот и он сам, насколько возможно живо при его (на вид) семидесяти с лишним годочках, вышагивает из комнаты в прихожую.
Упасть, не встать! Дед явно принадлежит к богеме. Костюмчик на нем, правда, обыкновенный, черный, лоснящийся и далеко не новый, но в вырезе бордовой рубашки пылает цветастый шейный платок.
Физиономия старичины как-то не очень соответствует наряду: широкая, морщинистая, с утиным носом, с маленьким женским ртом – и неожиданно большими светлыми размытыми, словно акварельными, глазами. Он смутно напоминает дядюшку Скруджа из диснеевских мультяшек.
Дед крепко, по-дружески стискивает мою ладонь, улыбаясь от уха до уха и демонстрируя отсутствие половины зубариков. После чего заявляет, что не станет мешать встрече матери с сыном, напяливает черную драповую куртку, прикрывает плешь беретом, лихо надев его набекрень, обматывает шею алым шарфом и ретируется.
– Художник, – с уважением, почти торжественно говорит мама, затворив за Скруджем дверь.
И выдает довольно путаный рассказ о его тернистом жизненном пути.
Суть повествования сводится к тому, что старикан (еще в годы туманной юности) прибыл из глухого сельца в наш расчудесный городок. Живописцем мечтал стать, и не иначе как великим, вроде Леонардо, Микеланджело… или того же Крамского. Закончил художественное училище, в котором считался суперзвездой, и с блеском поступил в питерскую, а тогда еще ленинградскую Академию художеств. И ждала его – по его же словам – мировая слава, но… Как у всякого гения завелись у Скруджа подлые дружки-товарищи. Льстили, именовали Брюлловым двадцатого века, а сами спаивали потихоньку.
Короче говоря, однажды в пьяной драке дедок – а тогда пацан двадцати с небольшим годков – саданул кому-то под сердце финский нож и загремел в кутузку, из которой вышел солидным дядькой. От безденежья подрабатывал, где придется, потом стал рисовать картинки и успешно загонять на «арбате». Вроде завелись деньжата. А вместе с ними и давняя болезнь – склонность к выпивке и закуске. Но теперь он в рот не берет спиртного. Ни капельки. Ему стукнуло шестьдесят пять, и главное для него – найти верную подругу жизни и провести остаток дней в мире, согласии и любви.
– А где он живет, твой непризнанный гений?
– Признаться, об этом и речи не было, – говорит мама, покраснев. – Уж не думаешь ли ты, что он позарился на мою жилплощадь?
– Ни в коем случае! – торопливо отвечаю я. – Это твоя личная жизнь, я на нее не посягаю.
– То-то же, – смягчается она.
Но ненадолго. Учуяв запах моей алкогольной ауры, заявляет сурово:
– Небось, на сороковинах был? У нее? Тогда и мы выпьем! Водки у меня нет, а вино найдется.
Похоже, мама до сих пор внутренне соперничает со второй женой отца. Его уже нет в живых, а она как будто продолжает неоконченный спор: с кем ему было лучше?
Влив в себя сладкую наливочку, заявляет почти вдохновенно:
– Наконец-то я освободилась! Столько лет он мучил меня тем, что у него другая семья. Даже когда умер, просто физически ощущала его присутствие. Сегодня великий день: душа твоего отца покинула пределы земли. Отныне я свободна, сынок!..
Ой, мама! Что-то не сильно верится.
* * *
Автор
С детства Магистр привык быть лидером. Он не отличался ни умом, ни талантом, ни трудолюбием, но до девятого класса верховодил ровесниками, уважавшими его как крутого пацана.
Но затем ребята стали взрослеть. «Ботаников» по-прежнему презирали, но и он перестал быть кумиром. Никто не желал ему подчиняться. У него уже не было морального авторитета, а его ненасытная жажда подавлять вызывала раздражение и ненависть. Он попытался силой вернуть власть, показательно, с двумя верными вассалами избив пацана, посмевшего ему противостоять, – и едва не оказался в колонии для несовершеннолетних.
Спасла мать, растившая его одна. Умоляла, валяясь в ногах у родителей искалеченного мальчишки, чтобы пожалели, не губили ее родного сыночка, и вымолила, выплакала прощение. Но с этого времени и до самого окончания школы ребята стали сторониться Магистра, как чумного.
На какое-то время он притих, но продолжал управлять своим маленьким «войском»: двумя малоразвитыми, убогими умом пацанами, слушавшимися его беспрекословно.
В 91-м поступил в финансовый институт, но вскоре бросил: учиться он не любил, а повиноваться ему студенты не собирались, что приводило его в ярость. За стенами вуза правил бал уголовный беспредел. Он понял: наконец-то настал его час. С двумя своими рабами, которые и после школы остались ему преданы, совершил первую кражу. Будучи крайне мстительным, взломал квартиру родителей того самого парня, которого когда-то изувечил. Его даже не заподозрили. Значит, фарт на его стороне, и нужно, пока не поздно, хватать все, что само плывет в руки.
На третьей краже воровская троица засыпалась – из ухарства, щенячьей самоуверенности оставив явные следы.
Срок Магистру дали немалый – как главарю. Привыкший не отказывать себе ни в чем, гулять в ресторанах, спать с дорогими девочками, он очутился в забитой уголовниками тесной душной камере. В первый же день его хотели опустить, но заступился старый вор в законе, которому приглянулся похожий на девушку юнец, корчивший из себя главаря мафии. При таком покровителе он сразу почувствовал себя уверенно, покрикивал на других зеков, и когда к ним попал новенький, молоденький пацан, первый опустил его.
Когда выходил на волю, авторитет дал ему «маляву» к Французу. Так он встретился с президентом компании «Аргонавт», который сам недавно обрел свободу. Французу наглый красавец-вор полюбился сразу, как брат-близнец: они были одной – волчьей – крови.
И бывший зек услышал неожиданное предложение.
– Это власть, парень, – говорил бандит, уставив на него сладкие глаза. – В тебя будут верить, как в самого Иисуса Христа, который сошел на землю, дабы изречь истину. А называть будем тебя… – Француз на миг задумался и, ликуя, щелкнул пальцами. – Магистром! Для быдла в самый раз.
В помощники новоявленному богу дали двух шестерок, принадлежащих к знаменитой банде «заборских»: молодого по кличке Пруха и постарше, лет сорока пяти, когда-то работавшего столяром и откликавшегося на прозвище Верстак.
После чего для Магистра наступило время самоусовершенствования. Он прошел курсы гипноза и ораторского искусства. И был готов стать богом.
* * *
Королек
Последнее утро октября обещало голубонебый день. Но нет, сползлись тучи, напрочь закрыли солнце, и все вокруг скорчило гримасу меланхолии.
Около двух часов после полудня доставляю в центр города пассажиров: увесистую мамашу с двумя хулиганистыми ребятишками. Паркую «копейку» возле улочки имени Бонч-Бруевича. Тяжко вздыхая, мамаша расплачивается со мной, пацанята показывают мне язык, и троица удаляется. А я заглядываю в забегаловку, где, бывало, сиживал со Сверчком.
Взяв свою порцию, шествую с подносом к окну. Приземляю усталый зад на высокий стульчик и принимаюсь поглощать пищу.
Слева от меня сидит охранник, зорко следя за посетителями, а справа… бамба-баламба… мамин старик-художник, дядюшка Скрудж!
Одет так же, как и вчера. Жилистая шейка обернута кумачовым шарфом. Восседая на стульчике, дедок посасывает из бокала пиво. По окутывающему его аромату понимаю, что он уже дербалызнул приличную дозу спиртного.
Должно быть, ощутив мой любопытный взгляд, он долго рассматривает меня расфокусированными глазами – и не узнает.
– Дозвольте обратиться… – начинает витиевато. – Я сразу разглядел, что вы… человек интеллигентный… Я… между прочим… тоже… Интеллигент… Не потомственный… в первом поколении… Если хотите знать… перед вами несостоявшийся великий художник… Рафаэль!..
«И, чудо! (как сказал когда-то поручик Миша Лермонтов) из померкших глаз слеза тяжелая катится…» Дедок плачет. Чистые слезинки принимаются петлять по бороздам и закоулкам его продубленной кожи.
Пошмыгав утиным носом и высморкавшись в красный грязный платок, Скрудж распахивает передо мной свою пропитанную винными парами душу. Ничего нового не сообщает: и про мерзавцев приятелей, и про тюрягу я уже слышал в мамином изложении. Похоже, это выступление отработано у него до мелочей, как выходная ария мистера Икса.
Старикан с превеликим трудом выговаривает последнее слово исповеди – и тотчас его башочка безвольно падает на грудь, беретик сваливается. Дед отключился. Тормошу его, спрашиваю:
– До дома дойдешь самостоятельно?
– Н… ну… – ответствует он, вынырнув на миг из блаженного небытия. И отрубается снова.
Трехэтажно матюкаюсь в душе и, проклиная свою бабью жалостливость, кое-как сволакиваю Скруджа со стула, тащу к выходу и запихиваю на заднее сиденье «копейки». Он тут же норовит погрузиться в безгрешный сон дитяти. Принимаюсь довольно невежливо его трясти, приговаривая:
– Эй, ты где живешь?
В ответ он долго мычит, потом телится:
– В о… а… о… абщаге…
– В какой общаге?
– С… С… Строителей.
– На Менделеева, что ли?
– А… га.
Везу деда в общежитие. Мне оно более-менее знакомо, поскольку здесь обитают два занятных мужичка: Муся и Веня.
Прибываем. Волоку Скруджа, изображающего из себя тряпичную куклу, в вестибюль. Спрашиваю у вахтерши, куда доставить груз? И по ее наводке, надсаживаясь, плетусь с раскисшим стариканом на третий этаж. Нашарив в кармане деда ключи, отворяю дверь его комнатенки и опрокидываю Скруджа на кровать. Он лежит на спине, неотрывно глядит на меня, и глаза его – или это мне мерещится? – вполне осмысленны. В мою головенку закрадывается подозрение, что дедок совсем не так пьян, а просто-напросто придуряется.
– Хочешь, напишу твой портрет? – подает он голос, продолжая валяться навзничь поверх покрывала. – Портреты еще в художественном училище мне удавались. Сейчас, конечно, не то. Сгубили, гады. Такой талантище – через колено. Но рано еще меня хоронить. Воскресну и всем докажу! Вот – пример. Когда-то, года три назад, попалась мне на глаза репродукция «Неизвестной» – картины Ивана Крамского. Что там говорить, совершенство. Чудо. Шедевр. А я взял да и написал голову этой бабы! Богом клянусь, лучше вышло, чем у самого Крамского. Даже подпись скопировал. Дескать, мы на равных.
– И куда эта голова девалась? – спрашиваю с обмершим сердцем.
– А? Ты о чем?.. Пропала. Я на одного общежитского грешу. Веню. Как-то был он у меня, побазарили о том о сем. Выпили. А потом гляжу – нет моей Неизвестной. Веня божится, что не брал. Да хрен с ней, с картинкой. Просто я хотел доказать, что гения могу превзойти. И превзошел!..
На этом, похоже, завод кончается. Серые, в пол-лица, прозрачные глаза Скруджа смыкаются, он каменеет, точно мертвый.
Выбираюсь в коридор, защелкнув английский замок.
Смешно и грустно, господа. Старый пьянчуга – впрочем, художник явно не без таланта – срисовал со знаменитого полотна голову красотки, состарил картинку и поставил на ней подпись Крамского – для пущего понта. Мелкий жулик Веня свистнул творение Скруджа и загнал президенту банка Ионычу. А тот, не разбираясь в живописи, решил, что за гроши приобрел сокровище.
И началась маленькая клоунада, в которой отведенные им роли сыграли Ионыч, шалая актрисуля, Сергуня и сыч по прозвищу Королек. Представляю, как бы хохотал пьяница Скрудж, если бы увидал, какие кренделя выделывали мы из-за его картинки!
Сергуня, тот вообще вдохновлялся, глядя на «шедевр» алкаша. Вот она, магия славы. Подпиши фамилией прославленного художника любую мазню – и на нее будут молиться. А какой-нибудь Сергуня станет чувствовать, как от этой картинки струятся флюиды гениальности, и, глядишь, действительно начнет лучше рисовать.
Пожалуй, все-таки надо выяснить, впарил хитрован Веня лоху Ионычу липовый этюд к «Неизвестной» или нет? Или информация пьяного Скруджа – голимое вранье? Хотя, признаться, это уже ничего не решает.
Протопав по длинному коридору, заглядываю в комнатку Муси и Вени. Вени не обнаруживаю, зато Муся в наличии – торчит возле окна, спиной ко мне. Он оборачивается, видит меня, едва не подпрыгивает от неожиданности – и тут же выражение его мордочки меняется самым удивительным образом. Теперь Муся – воплощенное чувство собственного достоинства.
– Привет, – обращаюсь к нему. – А Веня где?
– На работе, – заявляет он, внушительно кашлянув.
Что это с ним? Точно подменили. Был забитой несчастной зверушкой, а теперь – ну вылитый император Наполеон, только треуголки, мундирчика и сапожек недостает.
– Что, – интересуюсь, – в должности тебя повысили?
Шмыгая носиком, он в недоумении уставляет на меня блестящие черные глазки, еще сильнее напоминая стареющую жирную мышку с пушком серо-седых волос на черепке.
– Изменился ты, брат, – поясняю. – Вот я и решил, что начальником тебя сделали.
Муся мелко, по-старушечьи смеется, потом опять становится серьезным и самодовольным.
– Это очень большой секрет.
– Неужто тебя завербовала американская разведка?
– А, понимаю, вы… ты шутишь. – Муся скалится, обнажив выдвинутые вперед желтоватые верхние зубки. – Но это, правда, важная тайна. Я клятву дал и не могу ее нарушить.
– Да я и не настаиваю. Клятва – это святое… Кстати, что у тебя за цацка на шее висит? Уж не орден ли за выдающиеся заслуги… Перед кем? На кого работаешь? Колись! Важные государственные тайны продаешь?
От моей незамысловатой шутки Муся снова принимается трястись, как желе, и вновь серьезнеет.
– Это тоже секрет…
Ишь ты, какой законспирированный, с головы до самых ног в клетчатых домашних тапках. Раззадоренное любопытство тотчас вылезает из меня, как белочка из дупла, и принимается шустро озираться кругом: что? где? когда? Но я усилием воли заталкиваю его обратно. Лично мне жизнь уже объяснила доходчиво и жестоко: не суй нос не в свои дела.
Вечером долго мучаюсь, раздумываю, как поступить: сообщить Ионычу пренеприятнейшее известие насчет поддельного Крамского или не стоит? И решаю: надо. Пускай отдаст этюд на экспертизу: вдруг и впрямь подлинный?
Скорбно меня выслушав, Ионыч не голосит от горя, мужик волевой, но его обычно напористый голос словно бы жухнет, хиреет. Мне немного жаль этого человечка, которому деньги – причем немалые – не приносят счастья. Произношу еще несколько соболезнующих фраз – вроде тех, что говорят на похоронах, и мы разъединяемся.
Ближе к ночи, лежа в кровати, гляжу в окружающую тьму и размышляю о Мусе. Заинтриговал он меня. Что за метаморфоза произошла с мужичком? И отчего таким ореликом глядит? И кому клятву дал?
Пытаюсь вспомнить заинтересовавший меня «орденок», что тускловато поблескивал на Мусиной рубашке в сине-черно-серую клетку, – золотистый металлический кулончик размером с пятирублевую монетку… Погоди… это был треугольник, а в нем – солнце, каким его изображают художники: круг, от которого расходятся волны-лучи. Где-то я уже видел такую висюльку…
Уже наполовину погрузившись в сон, продолжаю размышлять о медном солнышке на Мусиной грудке… и вдруг, отбросив одеяло, слезаю с кровати, нашариваю тапки и выбираюсь в гостиную. Включив свет, торопливо роюсь в письменном столе…
Вот оно! В моей руке фотография Гоблина, отморозка, убившего моего отца, Стеллу и Кима, – этот снимок дал мне Акулыч. Кажется, у Врубеля есть картины «Демон сидящий» и «Демон поверженный». Я бы назвал эту фотку «Гоблин веселящийся». Хлопец снялся на фоне кроваво-красного восточного ковра. Гнусный, длинноносый, ликующе скалящий звериные зубки. Шакалий торс обнажен. На цепочке – чуть пониже яремной ямки – висит золотистого цвета треугольничек с солнышком внутри.
Это уже интересно, ребята. Засыпая, даю себе обещание понаблюдать за преобразившимся Мусей – и сновидение разом заглатывает меня, как собака Баскервилей зазевавшуюся муху…
* * *
Очнувшись ранним утром, с изумлением открываю глаза. Тяжелый сон не рассеивается. Сидит, как гвоздь, настолько реальный, что кажется дурной явью.
Я лежу в ослепительно белоснежной больничной палате. Рядом со мной, на соседней койке – некто, с ног до головы накрытый простыней. Сначала я думаю, что это Гоблин, а потом понимаю: отец. И простыня тотчас сползает сама собой, и я вижу застывшего на кровати отца – в черном костюме, белой рубашке, зеленом в полоску галстуке и черных полуботинках: в этой одежде его похоронили. Руки сложены на груди, а лицо повернуто ко мне. Открытые зеленоватые глаза глядят насмешливо и лукаво. «Так ты жив?» – спрашиваю, ничему не удивляясь. Он не отвечает, только рот морщит потаенная улыбка.
Внезапно на рубашке отца оказывается мышка с остренькими, умными и печальными человечьими глазками. Она спрыгивает на пол и, быстро семеня лапками, кидается вон из палаты. На ее жирной шейке болтается крошечный золотистый «орденок». Я – за ней. И вот уже мы несемся по моему городу с диковинными домами, точно вырезанными из огромных цветных леденцов.
Пролетаем этот невероятный город и оказываемся во дворе, где прошло мое детство. Даже не успеваю удивиться тому, что родной домик в два этажа не снесен, – мышка влетает в подъезд. Рву на себя подъездную дверь, которая отворяется медленно, как бывает во сне, скачу по ступенькам на второй этаж, влетаю в бывшую свою квартирку – почему-то уверен, что мышь именно там. В комнатах ее не обнаруживаю и тут же догадываюсь: наверняка юркнула в норку в кухонной стене.
Мчусь на кухню и вижу: на стульях, лицом ко мне, сидят мама и Анна и смотрят горестно и тревожно. Анна держит на коленях котенка по прозвищу Королек. Она говорит – а я не слышу, точно слова относит ветер. А в зеленых глазах котенка такое горе, будто он сейчас заревет, как младенец.
Снова бегу в комнату и гляжу в окно – на домик, что стоит метрах в ста от моего. В детстве я часто пялился на это зданьице, точнее, на большущую темно-коричневую трубу котельной рядом с ним. Особенно почему-то меня волновали скобы на трубе, уж очень хотелось по ним взобраться.
И вдруг перед домиком загорается красный свет, и раздается беззвучный трезвон. Догадываюсь, что это семафор, вижу, как поднимается шлагбаум, и двухэтажная халупа, превратившаяся в старинный паровоз, несется на меня, дымя громадной трубой…
Немудрено, что пробуждаюсь в холодном поту. Что означает этот сон? Похоже на предупреждение. Как бы то ни было, Анне о нем не рассказываю, отправляюсь к мусе-вениной общаге и жду, не вылезая из «копейки», сам не знаю чего.
Суббота, первый день ноября.
Примерно в половине пятого (сейчас загну красиво), когда светловатый мир примеряет вечерний наряд, Муся и Веня выпадают из общаги и деловито шагают вдаль. Моя «копейка» не спеша трогается за ними.
Кореша садятся в трамвай. Я следую параллельным курсом.
Они вылезают в знакомом мне с детства окраинном районе, застроенном низенькими домишками сталинской поры.
И у меня явственно екает сердце. Так и кажется, что приятели заглянут в мой двухэтажный домик, который уже не существует в природе, разрушен до основанья. Такой вот у меня маленький бзик: давнее соплячье прошлое никак не желает умирать во мне, наоборот, с каждым годом становится все ярче и разноцветнее. И воспоминания даже порой затмевают реальную жизнь.
Но Муся с Веней, совсем немножко, метров около ста не дойдя до моего старого двора, сворачивают вправо и отворяют дверку низенького строения, чьи окна – среди множества других – горят в угасающем мире… Господи, да ведь именно этот дом я видел во сне!..
Совершенно очумев, остаюсь в «копейке», не зная, что и подумать.
Через какое-то время прихожу в себя – и обнаруживаю, что памятной с детства высоченной трубы нет и в помине. Что вполне объяснимо: домишки перевели на газ, и котельная стала не нужна. Но отсутствие трубы почему-то тревожит меня. Уж лучше бы она была, угольным силуэтом врезаясь в небо. Мне было бы как-то спокойнее.
Только теперь замечаю, что домишко стоит углом, буквой Г, у которой «перекладина» раза в два короче «ножки». И эта дисгармония (или попросту уродство) тоже неприятно царапает душу…
Что-то я совсем раскис, как кисейная барышня. Включаю авторадио и по макушку погружаюсь в мешанину новостей и махровой попсы, как комаров отгоняя назойливо жужжащие мыслишки, напрямую связывающие недавний сон и нынешнюю явь.
Так проползает час… второй… медлительно тянется третий…
Ага! Из подъезда выскальзывают около десятка привидений и исчезают в темноте. Каждого – на короткий миг – озаряет лампочка над дверью, точно пересчитывает. Обнаруживаю среди фантомов Мусю и Веню, тихонько качу за ними, провожаю до общаги и двигаю домой.
* * *
В воскресенье, около полудня подъезжаю к вчерашней лачуге.
Рядовая старая приземистая песочного цвета халупа в два этажа. Крытая кровельным железом покатая крыша, кирпичные печные трубы. В пяти окнах (обалдеть!) цивильные пластиковые стеклопакеты, прочие рамы деревянные, ветхие, рассохшиеся. Двери – либо черные металлические, либо коричневые деревянные, и все оклеены обрывками объявлений, отчего издалека кажется, что они заляпаны снежками.
При свете дня домик напрочь утратил инфернальный ореол и выглядит хижиной дяди Тома и прочих неимущих дядь и теть.
На месте котельной с отсутствующей апокалиптической трубой, которая сейчас могла бы вонзаться в сияющее голубизной небо, скромный газончик со свалявшейся травкой, на нем справляет нужду рыжий котяра.
Мне везет: возле домика на лавочке одиноко восседает большая рыхлая старуха. На ней зеленое древнее, обглоданное молью пальто, такого же цвета мохеровый берет (волоконца шерсти окружают здоровенную бабкину башку наподобие нимба), канареечные рейтузы и черные сапожки.
Плюхаюсь рядом. Старуха уставилась в одну точку перед собой и даже не поворачивается в мою сторону.
Немного подождав, завожу приятную беседу:
– Думаю поселиться в вашем районе. Сам я живу в шестнадцатиэтажке на предпоследнем этаже. Опротивело до чертиков. Не, лифты, конечно, вещь хорошая, но только когда исправно работают. А если нет – прешься пехом аж на пятнадцатый этаж. В гробу я видал такую физкультуру! Осточертело жить в муравейнике, тишины хочется. А на коттедж денег нету, не олигарх. Вот и собираюсь сюда перебраться. Что и говорить, жилье у вас ветхое – серьезный минус. Зато такая квартирка куда дешевле моей. А это плюс. Значит, я еще и денежки срублю…
Тусклые старухины глаза оживают. Она обращает ко мне бородавчатое дряблое лицо, в котором проглядывает что-то жабье. Ей хочется поговорить. А я заливаюсь соловушкой:
– Мы с женой люди тихие. Дочка выросла, школу закончила и умотала в Москву, в университет. Столичной жизни, вишь ли, захотелось. Остались мы вдвоем куковать. Нам бы только, чтобы соседи нормальные были…
То ли в горле, то ли в желудке старухи что-то проворачивается, булькая и скрипя, и она выдает сиплым басом:
– У нас все спокойные. Бывает, конечно, кто и разбуянится, не без того. Но это редко.
Жду, что она начнет повествовать о жильцах дома, но старуха умолкает, поджав губы. Иду ва-банк:
– А еще попадаются секты разные… – и делаю наивные глаза.
– Это точно, – соглашается старуха, внимательно в меня вглядываясь.
– А между прочим, – вздыхаю я, – кто его знает, чего там проповедуют. Сначала они вроде никому зла не приносят, а потом, глядишь, или сами себя спалят вместе с домом, или примутся резать да взрывать, мало не покажется.
– Ну, наконец-то! – неожиданно говорит старуха. – А я уж было решила, что мои сигналы никому не нужны. И я вроде никому не нужная.
Не выдавая своего изумления, заверяю, душевно улыбнувшись:
– Вы еще сами не знаете, как необходимы.
– А все-таки документ покажите, – непреклонно заявляет старуха.
Вынимаю липовое удостоверение, когда-то купленное в переходе возле вокзала и не раз меня выручавшее.
– Эх, очки не взяла, – сетует старуха, подслеповато щуря гляделки. – Но вроде документ правильный… А я уж грешным делом порешила, что родной милиции на мои сигналы начихать. Дескать, из ума выжила бабка, заговоры мерещатся. А нас смолоду как учили: будь бдителен! Враг не дремлет. Я уж хотела в КГБ… или как оно нынче называется?.. обратиться. Чую: вопрос-то очень серьезный. Я ведь прежде сама в органах работала. Это сейчас я такая, а тогда шустренькая была.
– А почему вы их заподозрили?
– И точно, – пыжится от гордости старуха, – никому бы такое и в голову не вступило. Ведут себя скромненько. Правда, шумят слегка, кричат чего-то. А кто нынче не кричит? Время такое. Но я сразу сообразила: тут нехорошее затевается. Они от меня через стеночку. Я уж и так прислушивалась, и этак – жужжат что-то, гундосят, а что – никак не разберу. Слух у меня уже не тот. А чувствую: опасные дела тут творятся. Собираются по выходным. К шести. В девять разбегаются. Тишком. Как партизаны.
– А если они, допустим, китайский язык изучают?
– Скажешь тоже. Какой там китайский – одни мужики.
– Это верно. Не для того мужчины сходятся без баб, чтобы иностранные языки постигать.
– Вот еще что. Всякий раз, ровно в шесть кричат, словно приветствуют кого, то же самое в девять.
– Похоже, и впрямь секта.
– Если не хуже, – подхватывает старуха. – В мое время сразу бы сказали, что шпионы. А теперь говорят, что… эти самые…
– Террористы?
– Вот!
На всякий случай я захватил с собой фотографию Гоблина. Показываю снимок бабке.
– Этот бывал?
– Точно, приходил. Рожа больно приметная. Рубильник, носище то есть, здоровущий. Я про себя этого чудушку гадким утенком прозвала. Правда, в последнее время что-то его не было.
– Кто хозяин квартиры?
– Бабка. Имени не знаю. Андрияновной все зовут. Сама круглый год на даче живет, а квартиру сдает. Квартирант – парень. Лет тридцати. На личико смазливый, ну просто артист. Больно гордый, ни с кем не здоровается, вроде брезгует. Одевается богато, красиво. Машина у него иностранная, вишневого цвета. Девок часто водит.
– Ну, спасибочки. Сведения ваши очень ценные. Кстати, хочу поглядеть на нехорошую квартиру, а номер подзабыл.
– Четвертая, на втором этаже. Парень с утра умотал, нет его дома. Давай, капитан, раскручивай это дело. Помяни мое слово, майором станешь…
Захожу в подъезд, топаю на второй этаж. Дверь квартиры номер четыре ничем особым от других не отличается. Древняя, деревянная, выкрашенная в типовой коричневый цвет, внизу видны бледные следы подошв – похоже, по ней лупили ногами, и никто не удосужился протереть это место тряпкой.
Проведя маленькую рекогносцировку, спускаюсь вниз, переглядываюсь с сидящей на лавочке старухой, впихиваюсь в «копейку» и отбываю.
Но к половине шестого вечера возвращаюсь.
Старуха впускает меня в свою квартиру крайне неохотно. Ее берлога под стать одежке: допотопная и вконец запущенная. Пол не то что давно не мыли – последний раз подметали, наверное, к Первому мая. На бабке голубоватое платье в мелкий цветочек, поверх которого напялена серая кофта.
В шесть часов вечера, шаркая толстыми кривоватыми ногами, обутыми в древние продранные тапки, старуха вперевалку ведет меня к стене, общей с четвертой квартирой.
Приложив ухо к выцветшим желтым обоям, разбираю кое-какие слова. Конечно, хотелось бы услышать побольше, но и этого хватает вполне.
* * *
На следующее утро снова паркую «копейку» неподалеку от домишки, в котором происходят загадочные события. Отваливаюсь на спинку сиденья и жду, рассеянно глядя на подъездную дверь.
Рядом с хибарой дожидается хозяина вишневая «мазда», из чего следует, что интересующая меня персона в квартире, и хрен его знает, когда выйдет.
Ближе к одиннадцати во двор одна за другой выползают старухи. Две из них мне незнакомы, третья – «моя» бабулька в зеленом наряде. Поначалу они общаются, восседая на лавочках, потом поднимаются и совершают променад. Причем «зеленая» старушенция, ковыляя мимо «копейки», таращится в мою сторону.
Ей наверняка не терпится раззвонить обо мне задушевным подружкам, но выработанная в «органах» привычка хранить секреты заставляет держать язык за зубами.
После часу старухи удаляются на обед, ближе к трем появляются снова. А я все кукую в своей машинке.
Около четырех из подъездной двери выскакивает парень лет тридцати с копейками. Мордочка пригожая, каштановые волосы до плеч. В расстегнутой желто-рыжей кожаной курточке, кумачовой рубашке, голубеньких джинсах и милитаристского типа ботинках он кажется то ли голливудской кинозвездой, то ли фотомоделью, позирующей для обложки гламурного журнала на фоне (прикол такой!) советской халупы и окоченевших на лавочке старух. В руке солидный черный портфель.
Не глядя по сторонам, парень целенаправленно движется к своему авто. «Мазда» выплывает из дворика на простор довольно-таки широкой улицы, по которой я в детстве немало потопал своими ножонками, и, обгоняя машины и трамваи, несется в сторону центра города. Моя «копейка» следует за ней, как привязанная.
«Японка» паркуется возле цилиндрической стеклянной высотки. Пацан заскакивает в дверь (над ней васильково поблескивает слово «Аргонавт»). А я опять жду, то и дело позевывая, почесываясь в разных местах и – мимо нот – подпевая авторадио, из которого, как гламурная болоночка и бешеный волк, рвутся в кабину попсятинка и рок.
Долго скучать мне не приходится. Показавшись в дверях «Аргонавта», парень беззаботно шагает к своей «мазде». После чего – со мной на хвосте – его тачка трогается в путь – и вскоре останавливается у крупного городского банка. Здесь пацан ошивается около часа, затем отправляется в ресторан, где зависает уже надолго. И возникает ближе к ночи, когда город растворяется во мраке, оставив вместо себя разноцветье огней.
Теперь пацан не один, с ним – насколько могу разглядеть – молоденькая девчонка, накрашенная и разбитная. Рубиновые и янтарные огоньки «мазды» летят на окраину и стопорятся у двухэтажной лачужки, вернувшись к началу своего пути. Парочка бойко забегает в подъезд и пропадает…
* * *
Автор
Набережная. Ветер. Королек и Сверчок сидят на скамье в центре города. Художник по обыкновению разглагольствует. Королек слушает вполуха, его мысли мечутся суматошно и смятенно, как мелкие волны городского пруда, стремящиеся куда-то с бессмысленной торопливостью.
Когда он вчера позвонил Сверчку и предложил встретиться, поболтать о том о сем, художник впал в замешательство. И сегодня, в начале их встречи, явно ощущал себя не в своей тарелке наедине с бывшим любовником своей жены. Но затем разошелся и принялся философствовать не умолкая.
В этот поток слов Королек время от времени вклинивал парочку-другую фраз – и вдруг, будто бы ни с того ни с сего заговорил о маленьком человеке. Встрепенувшись, Сверчок тут же принялся развивать эту благодатную тему. И теперь его слабый голосок сиротливо разносится в холодноватом воздухе: