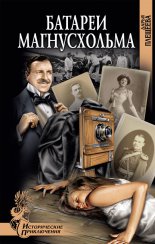Богоматерь цветов Жене Жан

— Черт подери, господа, все-таки я буду королевой!
Когда я сказал, что Дивина была создана из чистой воды, я должен был уточнить, что она была высечена из слез. Но красота ее первого жеста померкла в сравнении с величием, которое ей потребовалось, чтобы сделать следующий: вытащить мост из волос, вернуть его в рот и там закрепить.
Эта пародия на королевское коронование не была для нее пустяком. Когда она жила с Эрнестиной в доме с шиферной крышей:
Знатное происхождение чарует. Самый рьяный приверженец равенства, даже если он не желает с этим смириться, чувствует это и покоряется. В отношении знатности возможны две манеры поведения: уничиженность или надменность; обе являются недвусмысленным признанием ее власти. Титулы священны. Священное окружает и порабощает нас. Оно подчиняет одну плоть другой. Церковь священна. Ее неторопливые ритуалы, отягченные золотом, подобно испанским галионам, исполненные древнего смысла, далекого от духовности, придают ей такое же могущество на земле, какое имеют красота и знатность. Легкотелый Кюлафруа, не способный ускользнуть от этой власти, сладострастно отдавался ей, как он отдавался бы Искусству, если бы знал его. У знатности необычные утяжеленные имена, как у змей (такие же сложные, как имена утраченных древних божеств), странные, как знаки, гербы или почитаемые животные, тотемы древних фамилий, воинственные кличи, титулы, меха, эмали, — гербы, которые скрепляли их владельцев узами тайны, как печать скрепляет пергамент, рукопись, эпитафию, могилу. Она очаровывала ребенка. Ее кортеж сквозь годы — неразличимый и вместе с тем явный, и сущий — суровых воинов, конечным воплощением которых, то есть ими самими, он себя считал — кортеж, смыслом существования которого было единственно достижение этого результата: бледный ребенок, пленник убогой деревушки, — вызывал в нем больше волнения, чем этот зримый кортеж, состоящий из загорелых воинов, во главе которых он будто бы стоял. Однако он знатен не был. Никто в этом селении знатен не был, во всяком случае, ни на ком не было отпечатка знатности. Но однажды среди чердачного хлама он обнаружил старую историю Капфига. Среди тысячи упоминавшихся в ней имен рыцарей и баронов он увидел лишь одно: Пикиньи. Девичья фамилия Эрнестины была Пикиньи. Никаких сомнений: она происходила из знатного рода. Мы приводим отрывок из «Конституционной и административной истории Франции» М. Капфига (447 стр.): «Подготовительное секретное заседание Штатов, проведенное Марселем и эшевенами Парижа». Впрочем, вот как оно проходило. Жан де Пикиньи вместе с несколькими воинами прибыл в небольшой замок, где содержался плененный король Наваррский. «Жан де Пикиньи был губернатором Артуа, и воины, амьенские буржуа, приставили лестницы к подножию стены и застали врасплох стражу, которой не причинили никакого вреда…». Чтобы выяснить некоторые подробности про эту семью, он целиком прочел «Историю» Капфига. Если бы в его распоряжении имелись библиотеки, он рылся бы в них, расшифровывал неразборчивые рукописи, — л именно так возникают пристрастия эрудитов, — но он не обнаружил ничего, кроме этого островка, всплывшего из моря благородных имен. Почему же в имени Эрнестины не было частицы? Где был герб? И что представлял из себя ее Герб? Знала ли сама Эрнестина об этом отрывке и о своем благородном происхождении? Если бы Кюлафруа был постарше и не был таким мечтательным, он бы заметил, что уголок 447-й страницы засален пальцами. Отец Эрнестины знал про эту книгу. Таким же чудесным образом она раскрылась в том же месте и показала ему это имя. Кюлафруа нравилось, что знатность была скорее достоянием Эрнестины, чем его самого, и уже в этом штрихе мы могли бы увидеть знак его судьбы. Возможность быть рядом с ней, наслаждаться ее близостью, ее особыми милостями была ему по душе так же, как кому-то больше нравится быть фаворитом государя, чем самим государем, или жрецом бога, чем самим богом, ведь таким образом он может обрести Благодать. Кюлафруа не мог удержаться и не сообщить Эрнестине о своем открытии, и, не зная, как начать, он сказал ей напрямик:
— Ты благородна. Я видел твое имя в истории Франции.
Он иронично улыбался, дабы уверить ее в своем презрении к знати, о тщеславии которой напыщенно говорил школьный учитель всякий раз, когда мы возвращались к событиям ночи 4 августа[41]. Кюлафруа думал, что презрение означает безразличие. Дети, и в первую очередь ее собственный ребенок, вызывали в Эрнестине смущение почти так же, как во мне вызывает смущение прислуга; она краснеет и думает, что ее разгадали; или думает, что ее разгадали, и краснеет, не знаю. Она тоже хотела быть благородной. Она задавала тот же вопрос своему отцу, который краснел точно так же. Должно быть, «История» находилась в семье давно, играя в какой-то мере роль дворянской грамоты, и, может быть, именно Эрнестина, измученная слишком богатым воображением, превращавшим ее то в несчастную графиню, то в одну или сразу нескольких маркиз с тяжеловесными гербами и коронами, отправила книгу на чердак, подальше от себя, чтобы ускользнуть от ее чар; но она не знала, что, помещая ее у себя над головой, она никогда не сможет избавиться от нее, ибо единственным по-настоящему действенным средством было закопать ее в землю, или же утопить, или сжечь. Она не ответила, но если бы он мог читать в ее душе, Кюлафруа увидел бы там опустошения, произведенные единственно этой непризнанной знатностью, в которой она не была уверена и которая в его глазах возвышала ее над сельчанами и приезжими из города. Она описала герб. Ведь теперь она была знакома с геральдикой. Она добралась до Парижа, чтобы порыться в сочинениях д’Озье[42]. Там она изучила Историю. Мы уже говорили, что ученые почти никогда не действуют иначе, из других побуждений. Филолог не признается (впрочем, он об этом и не знает), что его вкус к этимологии восходит к поэзии (верит ли он, или смог бы поверить, но его побуждает сила плоти), содержащейся в слове «клавиша», где угадываются, если ему угодно, слово «ключ» и слово «колено»[43]. Узнав однажды, что самка скорпиона пожирает своего самца, молодой человек становится энтомологом, а другой делается историком, когда прочтет, что Фридрих II Прусский принуждал воспитывать детей в изоляции. Эрнестина попыталась избежать стыда этого признания — вожделенного желания быть дворянкой, — быстро сознавшись в менее позорном грехе. Это старая уловка: хитрость частичных признаний. По своей инициативе я признаюсь в немногом, чтобы надежнее утаить самое главное. Следователь сказал моему адвокату, что если я разыгрывал комедию, то делал это блестяще: но играл я лишь время от времени. Я преумножил ошибки защиты, и это было прекрасно. Судебный секретарь, казалось, думал, что я симулировал простодушие — мать оплошностей. Судья вроде бы верил в мое чистосердечие. Оба они ошибались. Я действительно указывал на компрометирующие детали, о которых они сперва не знали. (Я много раз повторял: «Это было ночью» — обстоятельство отягчающее в моем случае, как мне сказал следователь, — но я думал также и о том, что опытный преступник не признался бы в этом: мне нужно было показаться новичком. Именно в кабинете следователя мне пришло в голову сказать, что «это было ночью», потому что той самой ночью произошли некоторые события, которые мне нужно было скрыть. Я уже намеревался отвести обвинение в новом преступлении, совершенном той ночью, но, поскольку тогда я не оставил никаких следов, то и не придавал этому значения. Позже значение проклюнулось и стало расти — не знаю, почему, — и я машинально сказал «ночью», машинально, но настойчиво. А на втором допросе я вдруг понял, что недостаточно хорошо путал события и даты. Я все просчитал и предусмотрел с такой точностью, что она сбила следователя с толку. Это было чересчур ловко. Мне нужно было заботиться только о своем деле: у него их было двадцать. Следователь же допросил меня не о том, о чем должен был бы допрашивать, если бы был проницательнее или имел больше времени, и на что я подготовил ответы, — но о деталях довольно крупных, на которых я не останавливался, потому что не предполагал, что следователь может о них подумать). Эрнестине не хватило времени, чтобы изобрести преступление: она описала герб. «На серебряно-лазурном поле, рассеченном на десять частей, червленый с золотыми когтями и языком лев. В нашлемнике фея Мелузина». Это был герб рода Лузиньян[44]. Кюлафруа слушал сию блестящую поэму. Эрнестина досконально знала историю этой семьи, из которой вышли и короли Иерусалима, и государи Кипра. Их бретонский замок был якобы построен Мелузиной, но Эрнестина не довольствовалась этим: это была легенда, а ее рассудку для ирреальных построений требовались более прочные материалы. Легенда — все равно что ветер. Эрнестина не верила в фей — созданий, посланных для того, чтобы сбивать с прямой дороги дерзких мечтателей; волнение охватывало все ее существо при чтении хроник:
«…Заморская ветвь… Герб, который воспевает…»[45]
Она знала, что лгала. Желая прославиться древним происхождением, она уступала зову ночи, земли и плоти. Она искала свои корни. Она хотела ощущать за собой могущество оплодотворяющей династической силы. Словом, геральдические изображения впрямую прославляли ее.
Говорят, что скрюченная поза «Моисея» Микеланджело была задана компактной формой мраморной глыбы, которую он должен был обработать. Дивине постоянно попадаются причудливые куски мрамора, заставляющие ее создавать шедевры. Кюлафруа представится такой случай, когда, уже после побега, он окажется в городском саду. Он брел по аллеям, пока в конце одной из них не увидел, что должен вернуться, чтобы не ступить на газон. Разворачиваясь, он подумал: «Он сделал резкий поворот», и слово «поворот», схваченное на лету, заставило его выполнить легкий полуоборот. Он вот-вот должен был начать танец со сдержанными, еще не продуманными до конца движениями, существующий лишь в замыслах, но подметка его дырявого башмака протащилась по песку и произвела постыдно вульгарный звук (ибо необходимо еще отметить: Кюлафруа, или Дивина, с присущим им утонченным вкусом, то есть претенциозным, куртуазным — ведь мысленно наши герои разыгрывают сцену влечения молодых девушек к чудовищам — всегда в конце концов оказывались в ситуациях, которые им самим были отвратительны). Он услышал звук скребущей по земле подметки. Этот призыв к порядку заставил его опустить голову. Он тут же принял задумчивый вид и медленным шагом возвратился назад. Гуляющие по саду смотрели на него, и Кюлафруа знал, что они отмечали его бледность, худобу, опущенные веки, тяжелые и круглые, как шарики. Он еще ниже склонил голову, шаги его еще более замедлились — настолько, что, казалось, будто он горячо взывал к кому-то, и он — не подумал, но проговорил кричащим шепотом:
— Господи, я — среди избранных вами. За мгновения, в которые он делал эти несколько шагов, Господь подхватил его и поставил перед своим престолом.
Дивина — вернемся к ней — стояла на бульваре, прислонившись к дереву. Здесь не было никого, кто не знал бы ее. Три прохвоста из местных направлялись в ее сторону. Сперва они шли, посмеиваясь над чем-то, возможно, над Дивиной, — затем поздоровались с ней и спросили про успехи. Дивина держала в руке карандаш; она машинально провела им по ногтям, нарисовав сперва какое-то неровное кружево, потом, уже более сознательно, ромб, розетку, листок падуба. Негодяи стали ей хамить. Они говорили, что это, верно, очень неприятно — члены, которые старики… что в женщинах больше очарования… что они сами сутенеры… и тому подобное; конечно, они говорили без злобы, но их слова все же ранили Дивину. Ее смущение растет. Они совсем молоденькие, а ей уже тридцать лет, она могла бы заставить их замолчать одним ударом наотмашь. Но они мужчины. Еще молодые, но с крепкими мышцами и твердым взглядом. Вот они стоят, все трое безнадежно непреклонные, как Парки. Щеки у Дивины горят. Она делает вид, что всерьез увлечена рисунком на ногтях и ничем больше: «Вот какие слова, — подумала она, заставят их поверить, что я ничуть не смущена». И, протягивая ребятам руку с выставленными ногтями, улыбаясь, говорит:
— Я заведу новую моду. Да-да, новую моду. Вы увидите — это будет премило. Женщины-мы и женщины-другие будут заказывать себе кружевные узоры на ногтях. Из Персии выпишут художников, и они будут рисовать миниатюры, которые можно будет рассматривать в лупу! Ах, Боже мой!
Парни пришли в замешательство, и один сказал за всех троих:
— Чертова Дивина. Они удалились.
Именно в этом месте и в этот день родилась мода украшать ногти персидскими миниатюрами.
Дивина думала, что Миньон в кино, а Нотр-Дам изучает витрины в каком-нибудь большом универмаге. Ближе к вечеру Миньон в американских ботинках, мягчайшей шляпе и с золотой цепочкой на запястье спускался по лестнице. Стоило ему пересечь порог дома, как его лицо утрачивало мраморную твердость и голубоватый стальной отблеск. Глаза размягчались настолько, что в них исчезал взгляд, и они превращались в два отверстия, в которые проникало небо. Но при ходьбе он, как и прежде, продолжал раскачиваться. Он шел до Тюильри и садился там в чугунное кресло.
Невесть откуда возникал Нотр-Дам; он что-то насвистывал, ветер трепал его волосы. Он устраивался в соседнем кресле. Начиналось:
— Так на чем ты остановился?
— Само собой, я выиграл битву. Теперь предстоят торжества. Офицеры устраивают праздник в мою честь. А я раздаю награды. А ты?
— Ну, я… Я по-прежнему всего-навсего король Венгрии, но ты устроишь, чтобы меня выбрали западным императором. Просекаешь? Миньон, это же клево! И я остаюсь с тобой.
— Ну конечно, корешок.
Миньон обнял Нотр-Дама за шею. Хотел было его поцеловать. Вдруг из Нотр-Дама выскочили восемь молоденьких дикарей: плоские, они, казалось, отслаивались от него, как будто составляли его толщину, саму его плоть; они кинулись на Миньона, словно желая его прикончить. Это был сигнал. Он отпустил шею Нотр-Дама, а сад притих, он (сад), не храня зла, простил. Беседа императора и короля возобновилась. Нотр-Дам и Миньон накручивали Друг на друга свои фантазии, которые сплетались, словно мелодии двух скрипок, так и Дивина наматывала на ложь своих клиентов свою собственную ложь, так что получался некий невероятный клубок, скрученный туже, чем заросли лиан в бразильской сельве, и ни один из собеседников уже не был уверен в том, что продолжает собственную тему, а не тему другого. Эти игры велись сознательно, не для того, чтобы обмануть, а для того, чтобы очаровать. Начинаясь в тени деревьев парка или перед остывшим кофе со сливками, они продолжались до самого дома свиданий. Там шепотом произносят имя и тайком показывают документы, но клиенты неизбежно утопали в той чистой и коварной воде, какой была Дивина. Без усилия она распутывала ложь одним словом или одним движением плеча, взмахом ресниц и вызывала сладостную растерянность, чем-то подобную волнению, которое я испытываю, когда читаю книгу, смотрю на картину, слушаю мелодию, когда, наконец, ко мне приходит вдохновение. Так изящно, неожиданно, ясно и светло разрешается конфликт в моих глубинах. Доказательством тому служит душевное умиротворение, которое возникает следом. Можно сравнить этот конфликт с теми морскими узлами, которые моряки называют «бабскими».
Как мне объяснить тот факт, что Дивине сейчас тридцать или даже больше? Ведь нужно, чтобы она была одного со мною возраста, чтобы я в конце концов унял свою потребность говорить о себе, жаловаться и стараться, чтобы читатель полюбил меня! Минуло то время между двадцатью и двадцатью семью годами, когда Дивина изредка появлялась среди нас, ведя сложную, зыбкую, запутанную жизнь содержанки. То было роскошное время. Она совершила круиз по Средиземноморью, затем побывала на Зондских островах: нескончаемое путешествие на белой яхте с любовником — молодым американцем, скромно гордящимся своим богатством. Когда они возвратились, причалив яхту в Венеции, Дивиной увлекся какой-то кинорежиссер. Несколько месяцев они прожили в огромных залах полуразрушенного замка, которые скорее сгодились бы для гигантских стражников или закованных в латы всадников.
Затем — Вена, роскошный отель, свернувшийся клубочком под крыльями черного орла. Ночи в объятиях английского лорда в кровати с пологом и балдахином. Прогулки в лимузине. Возвращение в Париж. Монмартр и тамошние ее подружки. Визит в изящный дворец в стиле Ренессанс в обществе Ги де Робюрана. Она — владелица замка. Дивина не забывала о своей матери и о Миньоне. Миньону она посылала денежные переводы, иногда драгоценности, которые он носил один вечер и тут же продавал, чтобы оплачивать ужины своих приятелей. Возвращения в Париж, новые путешествия, и всегда жизнь среди теплой, золотистой роскоши. Роскоши такой, что мне достаточно время от времени воскрешать в памяти образы ее нежного уюта, чтобы неприятности моей жалкой арестантской жизни исчезли, чтобы я утешился; утешился при мысли, что эта роскошь существует. И поскольку мне в ней отказано, я вызываю ее в памяти с таким отчаянным рвением, что иногда (и не раз) я верил, что довольно будет какого-нибудь пустячного, легкого, неуловимого смещения плана, в котором я живу, и эта роскошь окружит меня, станет реальной, и по-настоящему моей, что довольно легкого усилия моей мысли — и я отыщу те волшебные слова, которые откроют путь все затопляющему потоку.
И изобретая для Дивины самые уютные апартаменты, я располагаюсь в них сам.
Наконец, возвратившись, она все глубже погружается в жизнь педерастов. Ее можно встретить повсюду, во всех крошечных барах. Она отряхивается, как птица после купания, взъерошивается и уверена, что разбрасывает вокруг себя и среди нас лепестки роз, рододендронов и пионов, как в селениях девочки разбрасывали их на пути шествия в праздник тела Господня. Самая большая из ее подруг — подруга-недруг — Мимоза II. Чтобы понять, кто это такая, необходимо привести отрывки из «Жития Мимозы».
Дивине:
— Мне нравится, когда у моих любовников ноги колесом, как у жокеев, так они плотнее будут прижиматься к моим бедрам, когда оседлают меня.
В Тавернакле, ее подруги-педерасты:
Одна, маркиз де?…
— Мимоза II попросила нарисовать герб графа де А… на своих ягодицах. Тридцать шесть поколений знатного рода на заднице; цветными чернилами.
Дивина познакомила ее с Нотр-Дам-де-Флером. На другой день — добрая девочка — показала маленькую фотографию убийцы.
Мимоза берет карточку, кладет ее на высунутый язык и проглатывает.
— Я обожаю ее, твою Нотр-Дам, я ею причащаюсь.
О Дивине, Первому Причастию:
— Представляешь, Дивина ведет себя, как великие трагические актрисы, она умеет сыграть своим козырем. Если лицо дает осечку, она показывает профиль, если и он летит к черту, то спину. Как Мэри Гарден, она тихонько попердывает за кулисами.
Все педерасты Тавернакля и окрестных баров, о Мимозе:
— Это чума.
— Дрянь.
— Сучка, девоньки, сучка.
— Сатана.
— Veneno[46].
Дивина с легкостью принимает эту жизнь пяденицы[47]. Она немного пьянеет от алкоголя и неонового света, но прежде всего от хмельных жестов и от словечек педерастов. «Меня с ума сводит эта жизнь по-сатанински», и она говорила «по-сатанински», как говорят: «волосы по-собачьи», «мушка на лице по-помпадурски», «чай по-русски». Отлучки Миньона из мансарды учащались. Бывало, что он не появлялся несколько ночей кряду. Вся «бабская» улица, улица де ля Шарбонньер, передавала его из рук в руки, потом он осел у одной женщины. Мы долго не увидим его. Он уже перестал воровать с витрин и теперь позволял себя содержать. Его массивный член умел произвести впечатление, а кружевные руки мигом опустошали сумку сводницы. Затем настал черед исчезнуть Нотр-Даму, но его мы скоро увидим вновь.
Ни гроша бы не дали ни я, ни Дивина за судьбы всех этих замечательных Маркетти, если бы они не напоминали мне о страданиях, пережитых мною за время моих славных похождений, и если бы они не напоминали Дивине о ее беспомощности. Прежде всего, рассказ Нотр-Дам-де-Флера словно унял нынешнее время, ибо даже слова в устах убийцы становятся волшебными и разлетаются звездными россыпями, как слова тех невероятно красивых негодяев, которые произносят слово «доллар» с правильным ударением. Но что сказать об одном из самых странных поэтических феноменов: пусть весь мир — ужасающе неприглядный, черный, как сажа, обугленный, по-янсенистски сухой, суровый и обнаженный мир заводских рабочих — обвивают чудеса, каковыми являются народные песни, затерянные на ветру, пропетые голосами богатейшими, золотистыми, в алмазных блестках и шелках; и в этих песнях есть такие фразы, что мне делается стыдно, поскольку я знаю, что их поют серьезные голоса рабочих, фразы, в которых встречаются слова вроде «изнемогает… нежность… дурман… розовый сад… дворец… мраморные ступени… любовницы… прекрасная любовь… жемчуга… корона… о, моя королева… прекрасная незнакомка… золотая гостиная… дама высшего света… корзина цветов… сокровище плоти… золотистый закат… мое сердце тебя боготворит… усыпанный цветами… краски заката… изысканный и розовый…», короче говоря, те знаки жестокой роскоши, которые должны кромсать им плоть, как кинжал, инкрустированный рубинами. Они поют их, может, не очень-то и задумываясь, насвистывают их, засунув руки в карманы. И я, бедный, стыдливый, содрогаюсь, зная о том, что самый грубый из этих рабочих помногу раз на дню украшает себя гирляндами цветов — резеды и роз, распустившихся; среди великолепных, золотистых, алмазных голосов и подобных девушкам, простым или роскошным, пастушкам и принцессам. Смотрите, как прекрасны эти рабочие! Их тела, искривленные машинами, наряжаются, как локомотив перед первым рейсом, как украшаются трогательными выражениями крепкие тела сотни тысяч встречных пройдох, ведь народные предания, не написанные на бумаге и потому легкие, легкие и летящие из уст в уста, на |ветру, говорят о них: «Проказник», «Разбойник», «Негодник», «Паршивец» (надо отметить, что уменьшительные суффиксы, если они относятся ко мне или к чему-то близко меня касающемуся, волнуют меня; даже если мне говорят «Жан, твои волосики» или «твой пальчик», я уже потрясен). Эти выражения, несомненно, имеют мелодическую связь с молодыми людьми, и обладают сверхчеловеческой красотой, очарование которой исходит из грязной грезы, — такой могущественной, что она сразу же заставляет нас проникнуть в нее, — и мы вдруг чувствуем, что «обладаем» ею (в двух значениях слова: быть полным ею и перешагнуть через нее), обладаем ею в такой полноте, что в этом полном обладании не остается места ни для малейшего вопроса. Так, некоторые животные своим взглядом И заставляют нас тотчас же стать обладателями их абсолютного существа: змеи, собаки. В мгновение ока мы «знаем» их до такой степени, что думаем, будто это они — знают, и оттого испытываем какое-то беспокойство, смешанное со страхом. Эти выражения поют. И разбойники, негодяи, паршивцы, проказники восприимчивы, как хрусталь к пальцам, к этим мелодическим извивам (чьи ноты здесь нужно было бы привести, чтобы лучше передать их), которые (так мне кажется, когда я вижу, как они проникают в песню улиц) выйдут из них незамеченными. Но, видя их колыхающиеся или съеживающиеся тела, я понимаю, что они ухватили извив и что все их существо указывает на связь с ним. Вот какой страшный период детства Лу-Дивины предназначался для того, чтобы подсластить его горечь. После своего побега из дома с шиферной крышей она оказались в тюрьме. Нет нужды приводить подробности ареста. Простого полицейского хватало, чтобы вселить в нее тревогу, достойную смертника, тревогу, которую приходилось испытывать каждому, равно как каждый человек в своей жизни познал радостное возбуждение, сопутствующее коронованию монарха. Все дети, сбежавшие из дома, ссылаются на то, что с ними грубо обращались; им бы никто не поверил, но они так ловко умеют расцветить этот предлог новыми обстоятельствами, подлаженными под них, под их имена и даже под их лица, словом, такими своеобразными, что все романы и хроники, повествующие о детях, украденных, незаконно лишенных свободы, опороченных, проданных, покинутых, изнасилованных, понуждаемых и истязаемых стремительно возникают в памяти, и даже самые недоверчивые по природе люди — следователи, священники и жандармы, — не говоря ничего вслух, думают: «А кто его знает?», и серные испарения, медленно поднимающиеся с отягощенных страниц дешевых романов, баюкают, хвалят, ласкают их. Кюлафруа выдумал историю о злой мачехе. Его отвели в тюрьму; не по злобе, не по черствости сердца, а по привычке. Его карцер был сумрачен, тесен и обитаем. В темном углу закопошилась куча грязных одеял и высвободила небольшую головку — черноволосую, грязную, курчавую и улыбающуюся.
— Ну что, приятель?
Кюлафруа не видел ничего более грязного, чем этот карцер, и ничего более мерзкого, чем эта голова. Он не ответил, он задыхался. Только вечер, принеся успокоение, сделал его доверчивее и развязал ему язык.
— Сбежал от стариков? Молчание.
— Можешь рассказывать. Со мной бояться нечего. Мы же с тобой мужики.
Он засмеялся и прищурил свои маленькие глазки. Когда он обернулся к лежащему рядом свертку в бурых тряпках, раздался железный лязг. Что бы это значило? Было темно. Сквозь закрытое слуховое окно сияло холодное небо с вольными и подвижными звездами. И произошло чудо — как страшная катастрофа ослепительное, словно решение математической задачи, ошеломляющее своей точностью… Маленький злодей кокетливо приподнял покрывала и попросил:
— Помоги мне отстегнуть ногу, а?
У него была деревянная нога, которая крепилась к культе системой ремней и застежек. При виде физических недостатков Кюлафруа испытывал такое же отвращение, как и при виде пресмыкающихся.
Его охватил тот же ужас, который мешал ему прикасаться к змеям; и здесь уже не было Альберто, чтобы своим присутствием, взглядом, благословением больших рук сообщить ему заряд веры, сворачивающей горы. Мальчишка расстегнул застежки и высвободил обрубок ноги. Величественным усилием Лу одержал верх. Он поднес руку к дереву, словно к пламени, потянул на себя и быстро прижал протез к груди. Теперь этот орган был живой плотью, как рука или нога, отделенная от туловища хирургической операцией. Деревяшка провела ночь стоя, без сна, прислоненная в углу к стене. Маленький калека попросил также, чтобы Лу спел, но, вспомнив про Альберто, Лу ответил, что он в трауре, и эта причина не удивила ни одного, ни другого. Кюлафруа привел ее еще и для того, чтобы она стала ему украшением и, как черная кисея, защитила бы от холода и беспомощности.
— Иногда мне хочется умотать в Бразилию, но с моей недоделанной лапой еще тысячу раз подумаешь.
Для хромого Бразилия была островом за морями и солнцами, где широкоплечие, как атлеты, люди с обветренными лицами рассаживаются по вечерам вокруг огромных костров, словно людские толпы на празднике Святого Жана, и снимают тонкие вьющиеся ремешки кожуры с огромных апельсинов, которые они держат в одной руке, длинный нож — в другой, как императоры на картинках державу и скипетр. Это видение так настойчиво преследовало его, что с его губ слетело слово: «…солнца…». Это слово-поэма выпало из его видения и начало превращать его образы в камень; ночной куб камеры, где кружились, словно солнца (там же мелькали и ноги акробата в лазурном трико, исполняющего «солнышко» на перекладине), апельсины, притянутые словом «Бразилия». Тогда Лу, давая пробиться обрывку мысли, жившей в нем уже некоторое время, произнес: «Чего требует народ?» Эту фразу он мысленно проговорил однажды вечером, предчувствуя, что окажется в тюрьме. Но предчувствовал ли он это, глядя на красное дерево туалетного столика, или, может быть, бессознательное восприятие соединило то место (его комнату) и тот момент с этим словом и с этим моментом (но что тогда вызвало в нем воспоминание о комнате?), накладывая две мысли друг на друга так, чтобы заставить его поверить в предчувствие?
Дети уснули. Впоследствии они будут отданы под опеку — или в колонию так называемого «Исправления Детства». В первый же день по прибытии в исправительный дом Лу-Дивину поместили в камеру. Там он провел весь день, сидя на корточках. Он был внимателен ко всему, в чем предполагал тайну проклятых детей (тех, что делают на руке наколку «Горемыки»). Во дворе маленькие запыленные ножки в медленном темпе поднимали и опускали тяжелые башмаки. В этих движениях угадывался молчаливый хоровод наказанных мальчишек.
Во время паузы он услышал вот что:
— …из окна слесарки.
— …
— Это Германец.
— …
— Да, если увижу его вечером.
— …
— А как же, работа такая.
Низкий голос, который он слышал, был приглушенным, словно свет фонарей старинных бродяг, и направлялся в одну точку рукой, сложенной, как раковина, у губ ребенка. Голос обращался со двора к приятелю в камере, ответов которого Кюлафруа расслышать не мог. Может быть, речь шла об арестанте, бежавшем из центральной тюрьмы, находившейся неподалеку от детской колонии. Так что колония меркла в лучах этих солнц — мужчин, — сиявших в мрачных камерах, и мальчишки ждали, когда возраст позволит им перебраться туда же, к молодцам, которых они боготворили, воображая, как те, дерзкие и прекрасные, нагло задираются на тюремщиков. Мальчишки ждали, когда, наконец, у них появится возможность совершить настоящее преступление, которое будет предлогом, чтобы отправиться в преисподнюю.
В этой монастырской колонии маленькие злодеи искусно играли роль шалунов-первооткрывателей. Их словарь был затемнен заговорщицкими выражениями, их жесты были по-лесному дикими и в то же время воскрешающими в памяти узкие улочки, обрывки сумрака, куски стен и оград, через которые они перемахивали. Среди этого мирка, управляя им ровно настолько, чтобы из него не вырывалось наружу ничего, кроме бесстыдной ухмылки, двигались монахини в своих пышных, как пачки балерин, юбках. Кюлафруа сразу же сочинил для них балет-гротеск. Согласно либретто, все эти Серые Сестры — хранительницы гиперборейских ночей — выходили на монастырский двор и, словно опьяненные шампанским, присаживались на корточки, поднимали руки вверх и трясли головой. В безмолвии. Затем они вставали в кружок и вращались наподобие школьниц в хороводах, наконец, как танцующие дервиши, вертелись по кругу, пока не падали, умирая от смеха, в то время как капеллан с достоинством проходил в середину с дароносицей в руках. Кощунство танца — кощунство, таящееся в самом его замысле — волновало Кюлафруа, как взволновало бы его, если бы он был мужчиной, надругательство над еврейкой.
Очень быстро, несмотря на свою склонность к мечтательности, или, может быть, как раз по причине этой мечтательности, он внешне стал походить на других. Тем, что одноклассники не принимали его в свои игры, он был обязан дому с шиферной крышей, который выставлял его принцем. Но здесь в глазах других мальчишек он стал всего-навсего арестованным бродяжкой, как и они сами, преступником с той лишь особенностью — впрочем, существенной, — что прибыл издалека. Его утонченно жестокая наружность, преувеличенно непристойные жесты и грубая речь создали ему такой образ, что и циничные, и простодушные дети признали его за своего, а он, стремясь быть добросовестным и до конца играть роль выдуманного персонажа, из вежливости старался ему соответствовать. Он не хотел разочаровывать. Он принимал участие в дерзких вылазках. В компании с несколькими ребятами — компании, организованной по образцу настоящей банды — он помог совершить небольшую кражу в колонии. Госпожа Настоятельница, по слухам, происходила из знаменитой семьи. Тому, кто выспрашивал немного ласки, она отвечала: «Я всего лишь слуга слуги Божия». Такой надменный пьедестал внушает страх. Она спросила у Лу, почему он украл, он сумел ответить лишь:
— Потому что другие думали, что я вор.
Госпожа Настоятельница ничего не поняла в этой детской утонченности. Он был объявлен лицемером.
Кюлафруа, впрочем, питал к этой монахине неприязнь, возникшую странным образом: в день его прибытия она привела его в свою маленькую гостиную, являвшую собой кокетливо украшенную келью, и заговорила с ним о христианской жизни. Лу спокойно выслушал ее и должен был ответить фразой, начинавшейся так: «В день моего первого причастия…», но оговорившись, произнес: «В день моей свадьбы…». От смущения он растерялся. У него было полное впечатление, что он совершил неловкость. Он покраснел, запнулся, сделал усилие, чтобы прийти в себя; но тщетно. Госпожа Настоятельница глядела на него с улыбкой, которую она сама называла улыбкой милосердия. Кюлафруа, напуганный тем, что вызвал в своей душе такой водоворот (который, достигнув илистого дна, поднял его оттуда в платье с белым сатиновым шлейфом и увенчанного флердоранжем), возненавидел старуху за то, что та явилась причиной и свидетелем этого прекраснейшего и тайного события. «Моей свадьбы!»
Вот какими были ночи в этом монастыре — или колонии. Головы исчезают под одеялами на неподвижных койках. Начальник скрылся в своей комнатке в конце спальни. На полчаса воцаряется тишина — тишина джунглей, полных зловония и каменных чудовищ, которая словно прислушивается к сдержанным тигриным вздохам. Согласно ритуалу, дети возрождаются из мертвых. Приподнимаются головы, осторожные, как у змей, и такие же смышленые, хитрые, едкие и ядовитые, затем тела целиком выбираются из коек, даже не скрипнув крюками. Общий вид спальни — если смотреть сверху — не меняется. Хитроумные колонисты умеют уложить одеяла и взбить их так, чтобы казалось, что под ними покоятся лежащие тела. Все происходит внизу. Быстро, ползком, приятели собираются вместе. Висячий город опустел. Стальные кресала бьют по кремню, поджигают трут огнива и тонкие, как солома, сигареты возгораются. Они курят. Вытянувшись под койками, небольшими группами они разрабатывают подробные планы побега, обреченные на неудачу. Колонисты живут. Они сознают, что свободны, и чувствуют себя властелинами ночи; они создают королевство, живущее по суровым законам, со своим деспотом, пэрством, разночинцами. Над ними покоятся белые покинутые подвесные койки. Главное же ночное занятие, добавляющее ночам ощущения волшебства — это изготовление татуировок. Тысячи и тысячи ударов тонкой иглы до крови прокалывают кожу — и самые невероятные для вас фигуры красуются в самых неожиданных местах. Когда раввин медленно разматывает Тору, тайна пронизывает дрожью все тело; то же происходит при взгляде на раздевающегося колониста. Синева, кривляющаяся на белой коже, придает неясное, но могущественное очарование мальчику, которого она покрывает, как чистая и равнодушная колонна становится священной под высеченными на ней иероглифами. Как тотемный столб. Иногда наколки покрывают их веки, подмышки, пах, ягодицы, половой орган и даже подошвы. Знаки были варварскими и исполненными смысла, как и полагается варварским знакам: изречения, луки, пронзенные сердца, роняющие капли крови, лица одно на другом, звезды, полумесяцы, копья, стрелы, ласточки, змеи, корабли, треугольные кинжалы, девизы и предостережения, целая пророческая и страшная литература.
Под койками, в магии этих занятий, рождалась, разгоралась и умирала любовь, со всем, что обычно сопутствует любви: ненавистью, алчностью, нежностью, утешением, местью.
Что отличало царство колонии от царства живых людей, так это перемены в символах и, в некоторых случаях, в ценностях. У колонистов был свой диалект, родственный тюремному, и, следовательно, особая мораль и политика. Режим правления, замешанный на религии, был режимом силы — покровительницы Красоты. Законы их соблюдаются всерьез: они не принимают смеха с его разрушительной мощью. Они выказывают редкую склонность к трагической манере поведения. Преступление начинается с берета, надетого набекрень. Эти законы рождены не абстрактными указами: их преподал некий герой, спустившийся с небес Силы и Красоты, плоть и дух которого суть на самом деле от божественного права. Впрочем, им и не удается избежать судьбы героев, и во дворе колонии всегда можно, среди смертных, встретить их в чертах булочника или слесаря. Брюки колонистов имеют только один карман: это тоже отдаляет их от мира. Один-единственный карман, слева. Вся общественная система расстраивается этой простой деталью костюма. Их брюки имеют всего один карман, как трико дьявола вовсе не имеет их, как брюки моряков не имеют ширинки, и это, несомненно, унижает их, как если бы у них отняли мужскую плоть — вот о чем речь; карманы, которые играют в детстве такую большую роль, являются для нас символом превосходства над девочками. В колонии, как и на флоте — это брюки, и, если хочешь быть мужчиной, «береги портки». Меня восхищает смелость взрослых, которые предназначили семинарию детству, готовящему себя к роли героя мечты, и так хорошо смогли распознать детали, которые сделают из детей маленьких чудовищ — злобных или ласковых, легкомысленных, блестящих, суровых, коварных или простодушных.
Идею бежать подсказал Кюлафруа вид монашеских одежд. Ему оставалось только осуществить план, который задумали сами эти одежды. Монахини на всю ночь развешивали свое белье в сушилке, а чулки и чепчики складывали в общей комнате, дверь в которую и способ ее открыть Кюлафруа скоро нашел. С осторожностью шпиона он рассказал о своем плане одному расторопному пареньку.
— Если бы кто-то захотел…
— Так что, бежим?
— …Ага!
— Думаешь, далеко уйдем?
— Конечно. Дальше, чем так (он указал на свою смешную униформу), а потом можно будет собирать милостыню.
Не объявляйте это неправдоподобным. То, что последует дальше, неправда, и никто не обязан принимать это за чистую монету. Правда — не мой случай. Но «нужно лгать, чтобы быть правдивым». И даже идти дальше. О какой правде хочу я говорить? Если я и в самом деле арестант, который разыгрывает (разыгрывает для себя самого) сцены своей внутренней жизни, то вы не станете требовать ничего, кроме игры.
Итак, наши дети дождались, когда настанет ночь, благоприятная для их предприятия, и стащили каждый по юбке, кофте и чепчику; вот только не найдя ничего на ноги, кроме слишком тесных туфель, они остались в своих башмаках. Из окна туалета они выбрались на темную улицу. Было около полуночи. В подворотне они быстро переоделись, помогая друг другу, тщательно надели чепчики. На несколько мгновений мрак был потревожен шуршанием шерсти, скрипом булавок в зубах, шепотом: «Затяни мне шнуровку… Подвинься». На маленькой улочке у окна послышались вздохи. Этот постриг в монахини превратил город в мрачный монастырь, мертвый город, долину Скорби.
Судя по всему, в колонии не сразу заметили кражу одежды, потому что за целый день никто так и не бросился «в погоню за беглецами». Шагали они быстро. Крестьяне не особенно удивлялись; их скорее восхищал вид этих двух сестричек с серьезными лицами — одна в башмаках с деревянными подошвами, другая прихрамывающая, — спешивших по дороге, мило приподнимая двумя тонкими пальчиками три оборки тяжелых серых юбок. Через некоторое время голод свел им желудки. Они не решились попросить у кого-нибудь хлеба, но, поскольку находились на дороге, ведущей к деревне Кюлафруа, то, конечно, скоро добрались бы туда, если бы вечером к Пьеру не подбежала, принюхиваясь, пастушья собака. Пастух, молодой и воспитанный в богобоязни, посвистел было ей, но овчарка не послушалась. Пьер решил, что раскрыт, и дал деру, подгоняемый проворным страхом. Спотыкаясь, он добежал до ближайшей одинокой сосны на обочине и вскарабкался на нее. Кюлафруа забрался на другое дерево. Увидев это, собака опустилась на колени под голубым небом, в вечернем воздухе, и произнесла молитву: «Сестры, как сороки, вьют гнезда на соснах. Так отпусти мне мои грехи, Господи!» Затем, перекрестившись, она поднялась и возвратилась к стаду. Она пересказала чудо о соснах своему хозяину, и все окрестные деревни были извещены о нем в тот же вечер.
Я вернусь к рассказу о Дивине, но о Дивине в своей мансарде, между Нотр-Дамом, каменным сердцем, и Горги. Будь она женщиной, она не была бы ревнива. Не питая ни к кому злобы, она согласилась бы по вечерам в одиночку ловить клиентов среди деревьев бульвара. Какое ей было бы дело до того, что эти два самца проводят свои вечера вместе? Напротив, семейная обстановка, свет абажура наполняли бы все ее существо; но Дивина еще и мужчина. Прежде всего она ревнует к Нотр-Даму — простодушному, молодому и прекрасному. Он рискует поддаться очарованию своего собственного имени: Нотр-Дам, бесхитростному и жеманному, как англичанка. Он может спровоцировать Горги. Это проще простого. Вообразим их сидящими однажды днем в кино, бок о бок во мраке искусственной ночи. — Сек, у тебя есть платок? При этих словах его рука ложится на карман негра. О! Фатальный жест. Дивина ревнует к Горги. Негр — ее мужчина, а этот разбойник Нотр-Дам молод и красив. Под деревьями бульвара Дивина разыскивает старых клиентов, и ее терзает ужас двойной ревности. К тому же Дивина, будучи мужчиной, думает: «Мне нужно кормить их двоих вместе. Я рабыня». Она раздражается. В кино, благоразумные, как школьники (но стоит школьникам разом наклонить головы к парте, как над ними начинает витать готовая к броску безумная шалость), Нотр-Дам и Горги курят и видят лишь картины на экране. Сейчас они спокойно пойдут выпить по кружечке пива и возвратятся в мансарду, причем Нотр-Дам будет разбрасывать по тротуару пистоны, а Горги, забавляясь, щелкать их стальными краями своих ботинок так что под ногами у него, как свистки сутенеров, звучат и вспыхивают искорки.
Они спустятся с мансарды втроем. Они полностью готовы. Горги держит ключ. У каждого во рту сигарета. Дивина чиркает кухонной спичкой (она каждый раз подносит огонь к хворосту, сложенному для ее собственной казни), зажигает свою сигарету, сигарету Нотр-Дама, протягивает спичку Горги:
— Нет, — говорит он, — только не третьим: плохая примета. Дивина:
— Не шути с этим: неизвестно, что к чему приведет.
Она кажется уставшей и роняет спичку, почерневшую и истончившуюся, как цикада. И добавляет:
— Начнешь с простого суеверия, а потом окажешься у Бога в объятиях.
Нотр-Дам думает: «Точно — в постели у кюре». Вверх по улице Лепик есть маленькое кабаре, о котором я уже рассказывал: Тавернакль, где колдуют, составляют снадобья, гадают на картах, на кофейной гуще, расшифровывают линии на левой руке (если ее расспрашивают, судьба склонна отвечать правду, говорила когда-то Дивина), где красивые молодые мясники иногда превращаются в принцесс, одетых в платья со шлейфом. Кабаре маленькое, с низкими потолками. В нем заправляет Монсеньер. Там собираются: все, но прежде всего Первое Причастие, Банджо, Королева Румынии, Жинетта, Соня, Персефесса, Хлоринда, Аббатиса, Агнесса, Мимоза, Дивина. И их кавалеры. Каждый четверг дверца со штифтиком закрывается для любопытных обывателей и случайных прохожих. Кабаре предоставлено «нескольким избранным». Монсеньер (однажды: «Они плачут от меня каждую ночь», говоря о взломанных сейфах, скрипевших под его ломом) играет роль тамады. Мы были как у себя дома. Фортепианная музыка. Нам прислуживали три официанта с глазами, полными лукавства, порочные и веселые. Наши мужчины играют в кости и покер. А мы танцуем. Чтобы прийти сюда, принято одеваться, как мы. Никого, кроме безумных ряженых женщин, ластящихся к молоденьким «котам». И ни одного взрослого. Грим и освещение и так хорошо изменяют внешность, но здесь любят надеть еще черные полумаски и взять в руки веер, чтобы доставить себе удовольствие узнавать друг друга по походке, взгляду, голосу, удовольствие ошибаться, примерять друг к дружке разные лица. Это место было бы идеальном для совершения убийства, такого таинственного, что перепуганные и охваченные паникой девочки (хотя одна из них, исполнившись материнской строгости, быстро сумела бы превратиться в стремительного и точного полицейского) и прижавшиеся к ним с перекошенными от ужаса лицами и с напряженными животами мальчики-«коты» тщетно будут пытаться понять, кто жертва, а кто убийца. Преступление в маскараде.
Для той вечеринки Дивина отыскала два шелковых платья покроя 1900-х годов, которые она хранила, как воспоминание о великопостных четвергах. Одно из них черное, с черной оторочкой; она наденет его, а другое предлагает Нотр-Даму.
— Ты что, больна? А наши друзья?
Но Горги настаивает, и Нотр-Дам знает, что это развеселит всех знакомых, и никто из них не станет насмехаться: они уважают его. Платье заключает в оболочку тело Нотр-Дама, обнаженное под шелками. В нем он чувствует себя прекрасно. Его ноги сблизились, и покрытые пушком, даже чуть мохнатые бедра соприкоснулись. Он наклоняется, поворачивается, смотрится в зеркало. Под платьем, которое как раз по фигуре, выделяется его зад, напоминая виолончель. Вставим в его растрепанные волосы бархатный цветок. Он надевает дивинины туфли из желтой кожи, с пряжкой и на высоком каблуке, но оборки юбки полностью скрывают их. В тот вечер они собрались быстро, поскольку их ожидала масса удовольствий. Дивина надела платье из черного шелка, поверх нее — розовую жакетку, и взяла веер из тюля с блестками. На Горги — фрак и белый галстук. Далее следует приведенная сцена со спичкой. Они спустились по лестнице. Такси. Тавернакль. Портье, совсем молоденький и до невозможности красивый, бросает на них три беглых взгляда. Нотр-Дам ослепляет его. Они вступают в фейерверк, вспыхивающий в шелковых воланах и кисее, сливающихся с табачным дымом. Здесь танцуют танец дыма. Курят музыку. Пьют из уст в уста. Друзья устраивают овацию в честь Нотр-Дам-де-Флера. Он не учел, что его крепкие бедра будут так сильно натягивать ткань. Вообще-то ему плевать, если кто-то видит, как набухает его член, но не до такой же степени, не перед своими приятелями. Он хочет скрыться. Он поворачивается к Горги и, слегка розовея, показывает ему свое вздувшееся платье и шепчет:
— Сек, куда мне это спрятать?
Он натужно усмехается. Его глаза, кажется, полны слез, Горги не поймет, от веселья это или от огорчения; тогда он берет убийцу за плечи, прячет его, прижимает к себе, задвигает между своих огромных бедер выступающую шишку, которая вздымает шелк, и увлекает, прижав к самому сердцу, в вальсах и танго, которые будут продолжаться до самого утра. Дивине хотелось разрыдаться от досады, ногтями и зубами разодрать батистовые платки. Потом это состояние вдруг вызвало в ее памяти картинку: Она, кажется, была в Испании. Мальчишки гнались за ней, крича «тапсоп»[48] и бросая в нее камни. Она добежала до запасного пути и забралась в стоявший там вагон. Мальчишки снизу продолжали ее оскорблять и швырять камнями в дверцу вагона. Скрючившись под вагонной полкой, Дивина отчаянно проклинала ораву юнцов, хрипя от ненависти. Ее грудь вздымалась; ей хотелось вздохнуть поглубже, чтобы ненависть не задушила ее. Потом она ясно почувствовала, что ей не истребить этих мальчишек, не разорвать их зубами и когтями, как ей хотелось бы, и она полюбила их. Из избытка ярости и ненависти хлынуло прощение, и она успокоилась. Из ярости она соглашается полюбить любовь, возникшую между негром и Нотр-Дамом. Дивина в комнате Монсеньера. Она сидит в кресле; по ковру разбросаны маски. Внизу танцуют. Дивина только что перерезала всем глотку и видит в зеркале шкафа, как ее пальцы загибаются в смертоносные крюки, словно пальцы дюссельдорфского вампира на обложках романов. Но вальсы стихли. Нотр-Дам, Сек и Дивина покидали бал одними из последних. Дивина открыла дверь, и Нотр-Дам совершенно естественным движением взял Горги за руку. Союз, на мгновение разрушенный прощаниями, восстановился так внезапно, что обнажил притворство нерешительности, и Дивина почувствовала в боку чувствительный укус выраженного ней пренебрежения. Она умела проигрывать; она осталась сзади, делая вид, что поправляет завязку на чулке. В пять часов утра улица Лепик по прямой спускалась к морю, то есть к бульвару Клиши. Рассвет был серым, немного хмельным, не слишком уверенным в себе, готовым упасть и проблеваться. Рассвет был тошнотворным, когда трио было еще в начале улицы. Они спустились. Горги очень удачно напялил на свою курчавую голову шапокляк, чуть сдвинув его на ухо. Белая манишка еще сохраняла жесткость. Крупная хризантема увядала в петлице. Вид у него был веселый. Нотр-Дам держал его за руку. Они спустились между двумя рядами урн, полных пепла и грязных расчесок, урн, на которые каждое утро падают первые косые взгляды гуляк, урн, наискось тянущихся вдоль тротуара.
Если бы мне нужно было поставить театральную пьесу с женскими персонажами, я бы потребовал, чтобы их роли исполняли юноши, и предупредил бы об этом публику при помощи плакатов, висящих по обе стороны декораций в течение всего представления. Нотр-Дам в платье из бледно-голубого фая, отделанном белым валансьеном, превзошел самого себя. Он был самим собой и одновременно своим дополнением. Я без ума от травести. Порою воображаемый любовник моих тюремных ночей — это принц (но я заставляю его быть в рубище нищего), а порою — хулиган, которого я облачаю в королевские одежды; самое великое наслаждение я, быть может, испытаю в тот момент, когда буду играть, представляя себя наследником древней итальянской фамилии, но наследником-самозванцем, потому что моим настоящим предком будет бредущий босиком под звездным небом прекрасный бродяга, который дерзнет занять место этого принца Альдини. Я люблю обман. Итак, Нотр-Дам спускался по улице, как умели спускаться только великие, самые великие куртизанки, то есть держась не слишком напряженно и не слишком виляя бедрами, не ударяя ногой в шлейф, который бесстрастно подметал серые мостовые, увлекая за собой соломинки и травинки, поломанную расческу и пожелтевший лист аронника. Небо становилось чище. Дивина отстала довольно далеко. Вне себя от ярости, она наблюдала за ними. Ряженые негр и убийца слегка пошатывались и поддерживали друг друга. Нотр-Дам пел:
— Тарабум, дье!
Тарабум, дье! Тарабум, дье!
Он пел и смеялся. Его ясное, безусое лицо, с линиями и чертами, смятыми ночью веселья, танцев, суматохи, вина и любви (шелк платья был перепачкан), подставлялось начинающемуся дню, как леденящему поцелую покойника. Розы в его волосах были матерчатыми; несмотря на это, они завяли на латуни, хотя держались по-прежнему стойко и походили на жардиньерку, в которой забыли сменить воду. Матерчатые розы были мертвы. Чтобы придать им более привлекательный вид, Нотр-Дам поднял свою обнаженную руку, и в этом жесте убийцы было чуть больше резкости, чем в движении, которым поправляла свой шиньон Эмильена д’Алансон. Он и в самом деле был похож на Эмильену д’Алансон. Тюрнюр его голубого платья (то, что называется «ложным задом») доводил до легкого обалдения большого славного негра. Дивина смотрела, как они спускаются к пляжу. Нотр-Дам пел среди урн. Представьте себе некую белокурую Эжени Бюффе в шелковом платье, поющую утром во дворах под ручку с негром во фраке. Удивительно, что на улице не отворилось ни единого окна с заспанным лицом торговки маслом или ее приятеля. Эти люди никогда не знают, что происходит под их окнами, и слава Богу. Иначе они умерли бы от огорчения. Белая рука (с грязными ногтями) Нотр-Дама покоилась на предплечье Сека Горги. Прикосновение рук было таким нежным (кино сделало свое дело), что его можно было мысленно сравнить только со взглядом мадонн Рафаэля, который, быть может, кажется столь целомудренным лишь оттого, что несет в себе его чистое имя, ведь он проясняет взгляд маленького Товия[49]. Улица Лепик спускалась вниз отвесно, как пик. Негр во фраке улыбался, как улыбаются после выпитого шампанского, — с праздничным, то есть отсутствующим, видом. Нотр-Дам пел:
— Тарабум, дье!
Тарабум, дье! Тарабум, дье!
Было прохладно. Свежесть парижского утра леденила ему плечи, и его платье трепетало сверху донизу.
— Тебе холодно, — сказал Горги, глядя на него.
— Немного.
Никто не успел опомниться, как рука Сека обняла плечи Нотр-Дама. Шедшая сзади Дивина постаралась придать своему лицу и походке такой вид, чтобы, обернувшись, тот или другой подумал, что она увлечена чисто практическим осмотром своего туалета. Но никого из них, казалось, не заботило отсутствие или присутствие Дивины. Послышался утренний звон колоколов, грохот молочного бидона. По бульвару проследовали трое рабочих на велосипедах с зажженными фонариками, хотя было уже светло. Прошел, даже не взглянув, полицейский, возвращающийся домой, где его, возможно, ждала, как надеялась Дивина, пустая кровать, потому что он был молод. Мусорные баки источали запах кухонных раковин и домохозяек. Этот запах цеплялся за белые валансьены платья Нотр-Дама и за гирлянды оборок розовой жакетки Дивины. Нотр-Дам продолжал петь, а негр — улыбаться. Внезапно все трое очутились на краю отчаяния. Сказочный путь остался позади. Теперь начинался гладкий и банальный асфальтированный бульвар, самый обычный бульвар, такой непохожий на потайную тропинку, которую они только что проложили в хмельном рассвете — своими запахами, шелками, смехом, пением — сквозь дома, роняющие собственные потроха, дома, расколотые с фасада, где, продолжая свой сон, в подвешенном состоянии остались старики, дети, альфонсы, альфонсины — девочки-цветочки, бармены; такой непохожий, как я сказал, на ту затерянную тропку, что молодые люди направились к машине такси, дабы избежать тоскливого возвращения к обыденности. Такси их и поджидало. Водитель открыл дверцу, и первым в машину сел Нотр-Дам. Сначала должен был пройти Горги, стоявший ближе всех, но он подвинулся, пропуская Нотр-Дама. Пускай думают, что «кот» никогда не уступит дорогу женщине, тем более любовнице, которой для него в эту ночь все-таки стал Нотр-Дам; должно быть, Горги ценил его очень высоко. Дивина покраснела, когда он сказал:
— Проходи, Дани.
И тотчас же Дивина возвратилась в Дивину, которую во время спуска по улице Лепик она покинула, чтобы проворнее мыслить, потому что если она ощущала себя «по-женски», то думала «по-мужски». Можно было бы решить, что если Дивина с такой легкостью возвращается к своей настоящей природе, то она всего лишь накрашенный самец, распаляющий себя фальшивой жестикуляцией; но здесь речь не идет о феномене родного языка, к которому прибегают в трудные минуты. Чтобы четко размышлять, Дивине никогда не требовалось вслух формулировать для себя свои мысли. Конечно, ей уже случалось громко произносить: «Бедная я девочка!», но, почувствовав это, она уже этого не чувствовала и, говоря так, уже так не думала. В присутствии Мимозы, например, ей удавалось думать «по-женски» о вещах серьезных, но о главных — никогда. Ее женственность была только маскарадом. Но в полной мере думать «по-женски» ей мешали ее органы. Думать — значит совершать поступок. Чтобы действовать, необходимо — освободиться от ветренности и поставить мысль на прочный фундамент. Тогда к ней на помощь приходило понятие прочности, которое она соединяла с понятием мужественности, и именно в области грамматики оно становилось ей доступным. Потому что если для выражения своего состояния Дивина и решалась употреблять женский род, то для выражения своих поступков она этого делать не могла. И все «женские» суждения, которые она формулировала, были на самом деле поэтическими выводами. Поэтому лишь в такие минуты Дивина бывала настоящей. Было бы любопытно узнать, чему соответствовали женщины в сознании Дивины, и прежде всего в ее жизни. Сама она, наверное, не была женщиной (то есть самкой в юбке); она дорожила этим только из-за возможности подчиниться властному самцу, и Эрнестина, которая была ее матерью, тоже для нее не женщина. А все женское заключалось в маленькой девочке, с которой Кюлафруа был знаком в деревне. Ее звали Соланж. Знойными днями они усаживались на белокаменной скамейке в тенистой пелене, тонкой и узкой, как подрубленный край у материи, подобрав ноги под передники, чтобы их не омывало солнце; под сенью дерева они чувствовали и размышляли сообща. Кюлафруа влюбился, и когда Соланж отдали в монастырь, он совершал туда паломничества. Сходил он и к утесу Кротто. Тамошние матери пользовались этой гранитной глыбой, как пугалом, и, желая навести на нас страх, населяли ее полости разными зловредными существами, торговцами песком, продавцами тесьмы, булавок и судеб. Большинство детей не придавало значения этим историям, продиктованным материнской осторожностью. Только Соланж и Кюлафруа, направляясь на утес (и стремясь делать это как можно чаще), ощущали в душе священный ужас. В один из летних вечеров, в котором витало предчувствие затаенной грозы, они явились туда. Утес выступал вперед, как нос корабля над океаном золотой пшеницы с голубыми отсветами. Небо опускалось на землю, как синий порошок в стакане воды. Небо навещало землю. Атмосфера таинственная и мистическая, как в храме; ее до сих пор в любое время года умели сохранить лишь места, удаленные от человеческого жилья: населенный саламандрами пруд в обрамлении еловых рощ с растворяющимися в зеленоватой воде отражениями. Ели — удивительные деревья, которые я часто замечал на картинах итальянских художников. Они идут на изготовление рождественских яслей и, таким образом, имеют то же очарование, что и зимние ночи, волхвы, цыгане-музыканты и торговцы почтовыми открытками, гимны, поцелуи, принятые и подаренные ночью босиком на коврике. В их ветвях Кюлафруа всегда ожидал найти чудесную девственницу, которая, чтобы стать завершенным чудом, была бы сделана из раскрашенного гипса. Эта надежда была необходима ему, чтобы вытерпеть природу. Ненавистную, непоэтичную природу, людоедку, пожирающую любую духовность. Такую же людоедку, как прожорливая красота. Поэзия — это видение мира, добываемое усилием, подчас изнуряющим, выгнутой от напряжения воли. Поэзия своевольна. Она — не раскованность, она не проникает к нам в душу с легкостью через органы чувств; она не смешивается с чувственностью, но, противясь ей, рождалась, например, по субботам, когда мы выходили на ближайший зеленый лужок, чтобы нам привели в порядок комнаты, кресла и стулья красного бархата, золоченые зеркала и столики из красного дерева.
Соланж стояла на самой вершине утеса. Она немного откинулась назад, как бы для глубокого вдоха. Она открыла рот, чтобы сказать что-то, и смолчала. Она ждала громового раската или вдохновения, но те не пришли. Несколько мгновений протекло в замысловатом смешении страха и радости. Затем она вымолвила беззвучным голосом:
— Через год отсюда сбросится человек.
— Почему через год? Какой человек?
— Идиот.
Она описала человека, который якобы будет толстым, одетым в серые брюки и охотничью куртку. Кюлафруа был так потрясен, как если бы ему сказали, что самоубийство было совершено только что и еще теплое тело лежало под скалой в кустах ежевики. Возбуждение проникало в него легкими, стремительными, всепоглощающими волнами и выходило из ног, рук, волос, глаз, чтобы затеряться в природе — по мере того, как Соланж описывала фазы этой драмы, замысловатой, как, должно быть, замысловата японская драма. Она привносила в нее оттенок самолюбования, она выбрала для нее тон трагических речитативов, в которых голос никогда не падает на тонику.
— Этот человек идет издалека, никто не знает, зачем. Это, должно быть, торговец свиньями, возвращающийся с базара.
— Но дорога далеко отсюда. Зачем ему сюда идти?
— Чтобы умереть, глупый. Нельзя себя убить на дороге.
Она пожала плечами и встряхнула головой. Прекрасные локоны, как свинцовые плети, ударили ее по щекам. Маленькая пифия присела на корточки. Разыскивая на скале веские слова для своего пророчества, она походила на курицу, которая ворошит песок, чтобы найти зерно и показать его цыплятам. Впоследствии они часто стали ходить к утесу. Они ходили туда, как ходят на могилу. Это почитание будущего мертвеца порождало в них нечто вроде ощущения голода или одного из тех приступов слабости, которые чередуются с лихорадкой.
Однажды Кюлафруа подумал: «Прошло девять месяцев, а в июне возвращается Соланж. Значит, в июле она будет здесь, чтобы увидеть, как разразится трагедия, автором которой она была». Она возвратилась. И вдруг он понял, что она была частью мира, отличного от его мира. Она больше ему не принадлежала. Она завоевала свою независимость; теперь эта девочка была подобна произведениям, давно покинувшим своего автора: не будучи больше только что отделившейся плотью от его плоти, они лишаются права на его материнскую нежность. Соланж стала похожа на один из кусочков кала, которые Кюлафруа откладывал в смородинных кустах у подножия садовой стены. Когда они были еще теплыми, он некоторое время находил в их запахе нежное удовольствие, но с безразличием — а иногда с ужасом — он отталкивал их, когда они слишком долго уже не были им самим. И если Соланж больше не была целомудренной девочкой, созданной из его ребра, девочкой, которая имела привычку покусывать свои волосы, поднеся их ко рту, то и сам он словно превратился в пепел, живя возле Альберто. В нем произошла химическая реакция, породившая новые соединения. Прошлое обоих детей было уже далеко позади. Ни Соланж, ни Кюлафруа больше не возвращались к прошлогодним играм и словам. Однажды они пришли в орешник, где год назад, летом, играли свадьбу, крестили кукол и пировали орехами. Вновь увидев место, которое сохраняло прежний вид стараниями пасущихся там коз, Кюлафруа вспомнил о пророчестве на Кротто. Он хотел заговорить о нем с Соланж, но та про него забыла. Если быть точным, о жестокой смерти торговца она объявила тринадцать месяцев назад, но с тех пор ничего не произошло. Кюлафруа увидел, как развеивается в прах еще одно сверхъестественное свойство. Еще одна мера добавилась к тому отчаянию, которое должно было сопутствовать ему до самой смерти. Он еще не знал, что значение любого события нашей жизни заключается лишь в том резонансе, который оно в нас вызывает, в той ступеньке к аскетизму, которую оно заставляет нас преодолевать. Для него, не получающего от судьбы ничего, кроме ударов, Соланж на своем утесе была воодушевлена не больше, чем он. Чтобы выглядеть интереснее, она — играла роль; но тогда, если тайна разрушилась от одного удара, возникала другая, еще более замысловатая: «Другие, — думает он, — могут изображать, что они не те, кто есть на самом деле. А значит, я существо не исключительное». Словом, он неожиданно открывал для себя одну из граней женского блеска. Он был разочарован, но главное, он чувствовал, что был переполнен другой любовью и — немного жалостью к бледной, хрупкой и далекой девочке. Как шпиль притягивает молнию, все чудеса внешнего мира притянул к себе Альберто. Кюлафруа в нескольких словах рассказал Соланж, что такое ловля змей, и сумел, как искусный актер, сделать и утаить признание. Она водила по земле веткой орешника. Некоторые дети, сами о том не подозревая, имеют в руках орудия колдовства, и, наивные, удивляются изменениям, производимым ими в законах зверей и семей. Соланж была когда-то феей утренних пауков — предвестников Печали, как говорит поверье. Я прервусь здесь, чтобы понаблюдать «сегодня утром» паука, который ткет в — самом темном углу моей камеры. Судьба исподтишка навела мой взгляд на него и его паутину. Предостережение является. Мне остается лишь склониться, без проклятий: «Ты — твоя собственная судьба, ты соткал свое собственное колдовство». Со мной может случиться только одно несчастье, то есть самое ужасное. Вот я и примирился с богами. Богословские науки не вызывают во мне никаких вопросов, поскольку они божественны. Я хотел бы возвратиться к Соланж, к Дивине, Кюлафруа, к существам тусклым и грустным, которых я оставляю иногда ради прекрасных танцоров и злодеев; но даже они, прежде всего они, стали мне далеки с тех пор, как я испытал потрясение от этого предостережения. Соланж? Она, как женщина, слушала признания Кюлафруа. На мгновение она смутилась и рассмеялась таким смехом, что, казалось, по ее сжатым зубам скакал скелет с молоточком, стучащий по ним сухими ударами. Посреди деревушки она почувствовала себя узницей. Будто ее только что связали. Девичья ревность. Ей едва хватило слюны, чтобы спросить: «Ты действительно любишь его?»; она с трудом сглотнула, как если бы ее заставили проглотить пучок булавок. Кюлафруа колебался с ответом. Фея рисковала быть забытой. В секунду, когда нужно было это сделать, когда ответ был нависшим «да», полным и явным, Соланж выронила ореховую палочку и, чтобы подобрать ее, склонилась в смешной позе как раз в тот момент, когда вырывался фатальный крик, брачное «да», так что он смешался с шорохом песка, который она скребла; он был приглушен, и потрясение Соланж смягчено. Дивина никогда больше не имела дела с женщинами.
Возле такси, когда размышлять было больше не о чем, она стала прежней Дивиной. Вместо того, чтобы войти (она уже ухватила двумя пальцами оборку своего черного платья и приподняла левую ногу), поскольку Горги, устроившись, приглашал ее — она прыснула пронзительным смехом, полным веселья или безумия, оборотилась к шоферу и, смеясь ему в лицо, сказала:
— Нет-нет. С шофером. Я всегда сажусь с шофером, вот.
Она сделалась нежной и ласковой.
— Шофер не против?
Шофер был веселым малым, знавшим свое дело (все таксисты везде суют нос и торгуют белой пудрой). Веер в руках у Дивины не раскрылся. Дивина потому и не брала веер, чтобы сбить с толку: она была бы огорчена, если бы ее спутали с одной из этих ужасных сисястых самок. «О, эти женщины, дрянные, дрянные, отвратительные, девочки для матросов, оборванки, грязнули. О, эти женщины, как я их ненавижу!» говорила она. Шофер открыл дверцу со своей стороны и, любезно улыбаясь, сказал Дивине:
— Ну, садись, маленький.
— О, этот шофер, он, он, он…
Пулеметный треск тафты изрешетил роскошную ляжку шофера.
День уже полностью пробудился, когда они добрались до мансарды, но полумрак, установившийся от задернутых штор, аромат чая, еще больше запах Горги погрузи их в волшебницу-ночь. Дивина, как обычно, прошла за ширму, чтобы снять свое траурное платье и надеть пижаму. Нотр-Дам сел на кровать, прикурил сигарету; у ног мшистая масса кружев его платья была ему подобием трепещущего пьедестала; опершись локтями о колени, он смотрел, как перед ним — случай принял их и мгновенно упорядочил — фрак, белый сатиновый жилет, туфли-лодочки Горги на ковре принимали форму свидетельства, которое разорившийся джентльмен оставляет в третьем часу ночи на берегах Сены. Горги лег совершенно голым. Дивина появилась в зеленой пижаме, потому что в комнате зеленый цвет ткани хорошо шел к ее лицу, напудренному охрой. Нотр-Дам еще не докурил | своей сигареты.
— Ты ложишься, Дани?
— Да-да, подожди, я сейчас закончу.
По своему обыкновению, он ответил так, как отвечают со дна глубоких мыслей. Нотр-Дам ни о чем не задумывался, и именно поэтому казалось, что он знает все с первого раза, словно по чьей-то | милости. Был ли он любимцем Создателя? Возможно, Бог просветил его. Его взгляд был более чистым (пустым), чем взгляд Дюбарри после объяснения своего любовника-короля. (Как и Дюбарри, в тот | момент он не знал, что шел прямой дорогой на эшафот; но поскольку литераторы объясняют, что | глаза маленьких Иисусов смертельно грустны от предвидения Страстей Христовых, то у меня есть полное право просить вас разглядеть в глубине зрачков Нотр-Дама микроскопическую картинку, не заметную невооруженному глазу, гильотины. Он казался окаменевшим. Дивина провела рукой по белокурым волосам Нотр-Дам-де-Флера.
— Хочешь, я помогу?
Она собиралась расстегнуть и снять с него платье.
— Давай.
Нотр-Дам бросил окурок, раздавил его на ковре и, упираясь носком, снял ботинок, потом второй. Дивина расшнуровывала спинку платья. Она лишила Нотр-Дам-де-Флера одной части, самой красивой части его имени. Нотр-Дам был немного пьян. От последней сигареты его стало мутить. Голова закружилась и резко упала на грудь — как у гипсовых пастушков, преклонивших колени перед рождественскими яслями, когда в щель опускают монету. Дремота и плохо усвоенное вино вызывали в нем икоту. Не помогая ни единым движением, он дал стащить с себя платье, и, когда был уже голым, Дивина за ноги опрокинула его в кровать, где он привалился к Секу. Обычно Дивина спала между ними. Она отчетливо поняла, что сегодня ей придется лечь с краю, и ревность, владевшая ею во время спуска по улице Лепик и в Тавернакле, вновь вызвала в ней чувство досады. Она выключила свет. Сквозь плохо задернутые шторы врывался тонкий лучик дневного света, тонувший в белой пыли. В комнате воцарилась светотень поэтического утра. Дивина легла. Внезапно она привлекла к себе Нотр-Дама, в теле которого, казалось, не было ни костей, ни нервов, только мышцы, вскормленные молоком. На его губах блуждала неясная улыбка. Такая же снисходительная улыбка была у него в минуты легкого веселья, но Дивина заметила ее лишь в тот момент, когда взяла руками его голову и повернула к себе лицо, прежде обращенное к Горги. Горги лежал на спине. Вино и напитки расслабили его, как и Нотр-Дама. Он не спал. Дивина взяла в рот сомкнутые губы Нотр-Дама. Как известно, его дыхание было нечистым. Так что Дивина постаралась оборвать поцелуй на губах. Она скользнула в глубь кровати, по пути полизывая покрытое пушком тело Нотр-Дама, который пробуждался от желания-Дивина прижалась головой к ногам и животу убийцы и замерла в ожидании. Каждое утро повторялась та же сцена, сперва с Нотр-Дамом, потом с Горги. Ей не пришлось долго ждать. Нотр-Дам вдруг перевернулся на живот и, помогая себе рукой, резко сунул еще гибкий член в приоткрытый рот Дивины. Она отвела голову и сжала губы. Взбесившись, член стал как будто каменным (валяйте, кондотьеры, рыцари, пажи, распутники, головорезы, — пусть у вас под вашими атласами поднимаются члены, прижатые к дивининой щеке), он хотел силой войти в закрытый рот, но ткнулся в глаза, в нос, подбородок, скользнул по щеке. Это была игра. Наконец он нашел губы. Горги не спал. Он ощущал движения по их отголоску на обнаженных ягодицах Нотр-Дама.
— Вы, сволочи, почему в одиночку? Меня это возбуждает.
Он двинулся. Дивина вела игру, подставляясь и уворачиваясь. Нотр-Дам неровно дышал. Руки Дивины обхватили его бока, лаская и поглаживая их, но слегка, чтобы почувствовать их трепет кончиками пальцев, словно когда хотят почувствовать, как закатывается под веко глазное яблоко. Ее руки спустились на ягодицы Нотр-Дама — и Дивина все поняла. Горги взобрался на белокурого убийцу и пытался проникнуть в него. Ужасное, глубокое, ни с чем не сравнимое отчаяние вырвало ее из игры, которую вели мужчины. Нотр-Дам все еще искал рот Дивины, натыкаясь на веки, волосы, и произнес голосом, срывающимся от тяжелого дыхания, но сквозь улыбку:
— Ты готов, Сек?
— Да, — сказал негр.
Его дыхание, должно быть, приподнимало белокурые волосы Нотр-Дама. Резкое движение прошло над Дивиной.
«Такова жизнь», — успела подумать Дивина. Последовала пауза, нечто вроде вибрации. Нагромождение тел обрушилось в бездну сожаления. Дивина поднялась головой до подушки. Она была оставлена одна, покинута. Возбуждение прошло, и впервые она не почувствовала потребности пойти в туалет, чтобы своей рукой покончить с означенной любовью. Дивина, несомненно, утешилась бы, если бы обида, которую причинили ей Сек и Нотр-Дам, не была нанесена ей у нее дома. Она забыла бы о ней. Но оскорбление могло стать хроническим, ведь все трое, казалось, прочно обосновались в мансарде. Она одинаково ненавидела и Сека, и Нотр-Дама, но ясно чувствовала, что ненависть исчезла бы, если бы эти двое расстались. Итак, она ни за что не оставит их в мансарде. «Я не желаю выкармливать этих двух хорьков». Нотр-Дам стал ей ненавистен, как соперница. Вечером, когда все они встали, Горги взял Нотр-Дама за плечи и, смеясь, поцеловал в затылок. Дивина, готовившая чай, приняла рассеянный вид, но не смогла помешать себе бросить взгляд на ширинку Нотр-Дама. Новый приступ ярости охватил ее: его член поднимался. Она думала, что ее взгляд остался незамеченным, но, подняв голову, глаза, она успела перехватить лукавый взор Нотр-Дама, указывавшего на нее негру.
— По крайней мере, можно было бы соблюдать приличия, — сказала она.
— Мы не делаем ничего дурного, — ответил Нотр-Дам.
— Да, ты думаешь?
Но она не хотела, чтобы казалось, будто она делает влюбленным замечание, ни даже что она раскрыла их любовный сговор. Она добавила:
— Ни минуты не можете не бузить.
— Мы не бузим, дурашка. Смотри. Он показал, забрав в горсть, шишку под трепещущей тканью.
— Это всерьез, — сказал он, рассмеявшись.
Горги отпустил Нотр-Дама. Он начищал свои ботинки. Они выпили чаю. Никогда прежде Дивина не думала, что станет завидовать внешности Нотр-Дам-де-Флера. Однако есть все основания считать, что эта зависть жила тайно, скрыто. Вспомним лишь пару фактов: отказ Дивины дать Нотр-Даму свою тушь для ресниц; ее радость (быстро скрытая) в тот момент, когда она впервые и с ужасом почувствовала зловонное дыхание, исходящее из его рта. И, сама не отдавая себе отчета, она приколола к стене, среди прочих, самую неудачную фотографию Нотр-Дама. На этот раз зависть к его внешности (известно, насколько она горька) стала ей очевидна. Она замыслила и мысленно осуществила планы ужасной мести. Она царапала, рвала, рассекала, кромсала, обдирала, поливала кислотой. «Чтоб он стал чудовищным калекой», — думала она. Вытирая чашки, она жестоко расправлялась с ним. Бросив полотенце, она вновь становилась чиста, но все равно возвращалась к смертным с рассчитанной постепенностью. Это налагало отпечаток на ее действия. Мстя сопернику-педерасту, Дивина, несомненно, преуспела бы в чуде мученичества святого Себастьяна. Она выпустила бы несколько стрел, — но с той присущей ей грацией, с какой она говорила: «Я стреляю в тебя глазками» или даже «Я запускаю в тебя автобусом». Несколько единичных стрел. Потом залп. Обрисовала бы стрелами контуры девчонки. Заключила бы ее в клетку из стрел и, в конце концов, пригвоздила бы ее намертво. Она хотела использовать этот метод против Нотр-Дама. Но такое должно исполняться на публике. Если Нотр-Дам мог позволить все что угодно в мансарде, то не снес бы насмешки в присутствии своих приятелей. Он был обидчив. Стрелы Дивины наткнулись на гранит. Она искала ссор и, естественно, нашла их. Однажды она застала его на месте преступления худшего, чем эгоизм. Они были в мансарде. Дивина еще не вставала. Накануне Нотр-Дам купил пачку «Кравен». Проснувшись, он поискал пачку: в ней оставались только две сигареты. Одну он протянул Горги, вторую оставил себе и прикурил. Дивина не спала, но не открывала глаз, притворяясь спящей. «Посмотрим, что они будут делать», — подумала она. Лгунья прекрасно знала, что это было предлогом, который послужит ей, чтобы не показаться задетой, если при распределении про нее забудут, и который позволит ей сохранить достоинство. Ее шокировала любая мелочь: она, в молодости обладавшая наглостью, от которой содрогались бармены, краснела — и чувствовала, что краснеет — из-за сущего пустяка, напоминавшего, самой хрупкостью символа, те состояния, в которых она действительно могла почувствовать себя униженной. Легкое потрясение — и чем легче, тем ужаснее отбрасывало ее во времена нищеты. Удивительно, что с возрастом чувствительность Дивины возрастала, тогда как принято считать, что с течением жизни кожа грубеет. Ей в самом деле больше не стыдно было быть пидовкой, торгующей собой. В случае надобности она гордилась бы тем, что она — та самая пидовка, в девять отверстий которой вытекает сперма. Оскорбления женщин и мужчин тоже были ей безразличны. (До каких пор?) Но она потеряла контроль над собой, густо покраснела и, чтобы прийти в себя, чуть было не устроила скандал. Она цеплялась за свое достоинство. Закрыв глаза, она представляла, как Сек и Нотр-Дам корчат гримасы, извиняясь за то, что не учли ее, когда Нотр-Дам имел неосторожность вслух высказать это соображение (которое привело в отчаяние Дивину, скрывшуюся в темной норе закрытых глаз), соображение, которое подчеркивало и доказывало, что произошел долгий и сложный обмен знаками по ее поводу: «Здесь только две сигареты». Она это хорошо знала. Она услышала, как чиркнула спичка. «Все-таки они не собирались делить одну на двоих». И ответила себе: «Ну да, он должен был поделиться (он — это Нотр-Дам) или даже не брать сигарету себе, а оставить ее мне». С этой сцены начался период, когда она стала отказываться от того, что ей предлагали Сек и Нотр-Дам. Однажды Нотр-Дам притащил коробку конфет. Вот сцена. Нотр-Дам — Дивине:
— Хочешь конфетку? (Дивина заметила, что он уже закрывал коробку. Она сказала:
— Нет, спасибо.
Через несколько секунд Дивина добавила:
— Ты ничего не даешь от чистого сердца.
— Нет, я от сердца; если бы я не хотел, я бы не предлагал. Я никогда не предлагаю дважды, если не хочу.
Дивина подумала с еще большим стыдом:
«Никогда и ничего он не предлагал мне дважды». Теперь она стала выходить из дома только одна. Эта привычка имела лишь одно следствие: еще более тесное сближение негра и убийцы. Следующей была фаза бурных упреков. Дивина больше не могла сдерживать себя. Гнев, словно скорость, придавал ее уму обостренную ясность. Она во всем находила умысел. Или, может, Нотр-Дам подчинялся, сам того не зная, игре, которую она заказывала и вела ее к одиночеству и, еще дальше, к отчаянию? Она поносила Нотр-Дама на чем свет стоит. Он был скрытен, как глупцы, не умеющие лгать. Пойманный в ловушку, он иногда краснел, его лицо вытягивалось в буквальном смысле слова, потому что складки у рта напрягали его и тянули вниз. Он выглядел жалким. Он не знал, что ответить, и мог только улыбаться. Эта улыбка, при всей ее неестественности, расправляла его черты, поднимала настроение. В каком-то смысле можно сказать, что он проходил, раздираясь, как солнечный луч сквозь терновник, сквозь куст ругательств, но, выходя из них, умел показаться невредимым, даже без единой царапины. Тогда Дивина, разъяренная, стала преследовать его своими колкостями. Она становилась безжалостной, какой умела быть, когда преследовала. В конечном счете ее стрелы причиняли мало вреда Нотр-Даму — мы сказали, почему, — и если иногда, находя более уязвимое место, острие входило в него, то Дивина загоняла стрелу до самого оперения, которое она покрывала заживляющим бальзамом. В то же время она опасалась ярости раненого Нотр-Дама и упрекала себя в том, что выказала слишком много горечи, так как думала, (впрочем, напрасно), что Нотр-Дам будет этому рад. К каждому своему отравленному замечанию она добавляла мягкого целебного средства. Поскольку Нотр-Дама всегда занимало только добро, которого ему желали — потому он и слыл доверчивым и беззлобным, — или, может быть, еще из-за того, что, ухватывая лишь окончание каждой фразы, он судил по этому окончанию и Думал, что оно венчало длинный комплимент. Нотр-Дам словно зачаровывал усилия, которые прилагала Дивина, чтобы поиздеваться над ним, но, сам того не подозревая, он оказывался пронзен вредоносными стрелами. Нотр-Дам был счастлив, вопреки Дивине и благодаря ей. Когда однажды он сделал это унизительное признание (что его обобрал и бросил Маркетти), Дивина держала руку Нотр-Дам-де-Флера. Хотя она была взволнована до такой степени, что у нее перехватывало горло, она продолжала мило улыбаться, чтобы они оба не растрогались до отчаяния, которое продлилось бы, конечно, лишь несколько минут, но оставило бы в них отпечаток на всю жизнь, и чтобы Нотр-Дам не растворился в этом унижении. Та же сладкая нежность тронула меня до слез, когда:
— Как тебя зовут? — спросил меня метрдотель.
— Жан, и когда он должен был в первый раз позвать меня в контору, он закричал: «Жан!» Так приятно было услышать свое имя. И я почувствовал себя в лоне семьи, вновь обретенной благодаря нежности слуг и хозяев. Сегодня я признаюсь вам: я никогда не ощущал ничего, кроме видимости горячих ласк, нечто вроде глубоко нежного взгляда, который, будучи адресован какому-нибудь красивому молодому существу, стоящему позади меня, проходил сквозь меня и меня потрясал. Горги почти никогда не думал, или скрывал, что думает. Он спокойно прогуливался под выкриками Дивины, заботясь только о своем белье. Однажды все-таки эта близость с Нотр-Дамом, порожденная ревностью Дивины, заставила негра сказать:
— Идем в кино, у меня есть билеты. Потом он спохватился:
— Какой же я дурак, мне всегда кажется, что нас только двое.
Для Дивины это было уже слишком, и она решила покончить с этим. Но с кем? Она знала, что Секу нравилось такая счастливая жизнь, у него был кров, пища, дружба, и боязливая Дивина опасалась его гнева: он, конечно, не ушел бы из мансарды, не отомстив. К тому же она снова — после некоторой паузы стала предпочитать безмерную мужественность, и в этом отношении Сек ее удовлетворял. Пожертвовать Нотр-Дамом? Но как? И что скажет Горги? Ей поможет Мимоза, которую она встретила на улице. Мимоза, старая дама:
— Я видела ее! Ба-Бе-Би-Бо-Бу, я люблю твою Нотр-Дам. Всегда такая свежая, всегда такая Божественная. Это она настоящая Дивина.
— Она тебе нравится? (Между собой педики говорили о своих друзьях в женском роде). Ты хочешь ее?
— Что я слышу! Она больше тебя не хочет, моя милая старушка?
— Нотр-Дам мне осточертела. Во-первых, она глупа, к тому же она мне кажется размазней.
— Тебе больше не удается даже возбудить ее! Дивина подумала: «Я тебя проучу, шлюха».
— Ну что, ты и вправду оставляешь ее мне?
— Тебе нужно только взять ее. Если сможешь. Одновременно она надеялась, что Нотр-Дам не поддастся:
— Ты знаешь, что она тебя ненавидит.
— Да-да-да. Да-да-да. Сначала меня ненавидят, а потом меня обожают. Но послушай, Дивина, мы можем быть подругами. Я хотела бы позволить себе Нотр-Дам. Оставь ее мне. Услуга за услугу, моя миленькая. Можешь во мне не сомневаться.
— О, Мимо, ты не представляешь, как я тебя знаю. Я доверяю тебе, моя-Вея.
— Вот именно. Послушай-ка, я тебя уверяю, я, в сущности, хорошая девочка. Приведи ее с собой как-нибудь вечерком.
— А Роже, твой мужчина?
— Она отправляется в армию. Что ты! Там, с офицершами, она забудет меня. Ах! Я буду Вся-Вдовушка! И вот я беру Нотр-Дам и оставляю ее при себе. У тебя есть две. У тебя есть все!..
— Ну, хорошо, я поговорю с ней об этом. Заходи к нам часов в пять, выпьешь чаю.
— Какая же ты добрая девочка, Дивина, как же я тебя обнимаю. Ты же еще такая миленькая, знаешь. Немножечко помятая, очень миленько помятая, и такая добрая.
Было около двух часов дня; они шли, сцепившись мизинцами, согнутыми в крючок. Чуть позже Дивина встретила Горги и Нотр-Дама вместе. Она дождалась, когда негр, уже не отходивший от Нотр-Дама ни на шаг, пошел в туалет. Вот как Дивина подготовила Нотр-Дама:
— Слушай, Дани, хочешь заработать сто монет?
— А в чем дело?
— Вот в чем. Мимоза хотела бы поспать с тобой часок-другой. Роже идет в армию, она остается одна.
— Ну, сотни мало. Если цену назначала ты, то плохо старалась.
Он ухмыльнулся. А Дивина:
— Цену назначала не я. Послушай-ка, иди с ней, и все устроится, Мимоза не жмотиться, если мальчик ей нравится. Ты, конечно, поступай, как хочешь. Я тебе говорю, а ты как хочешь. Во всяком случае она зайдет к нам часов в пять. Нужно только избавиться от Горги, понимаешь, чтобы чувствовать себя свободнее.
— Мы будем трахаться в мансарде вместе с тобой?
— О, да нет же, ты пойдешь к ней. У тебя будет время поговорить. Но только не прихвати у нее ничего, прошу тебя, не надо: могут возникнуть сложности.
— А! Там есть, что стащить? Можешь успокоиться: я не беру у приятелей.
— Постарайся протянуть подольше, будь мужчиной.
Дивина умышленно и ловко навела на мысль о воровстве. Это был надежный способ раздразнить Дани. А Горги? Когда он вернулся, Нотр-Дам поставил его обо всем в известность.
— Нужно сходить, Дани.
Негр не видел ничего, кроме сотни франков. Неожиданно в его голове возникло подозрение; до сих пор он считал, что деньги, которые водились у Нотр-Дама, тот имел от своих клиентов; разборчивость, которую он обнаружил в нем сегодня, заставила его заподозрить что-то другое. Он хотел узнать, что именно, но убийца выскальзывал, как уж. Нотр-Дам вернулся к торговле кокаином. В маленьком баре на улице Элизе-де-Бо-Зар, исполненном в стиле тюремной камеры, он раз в четыре дня встречался с Маркетти, который без гроша вернулся в Париж и теперь снабжал его наркотиками. Они были упакованы в маленькие пакетики из шелковой бумаги, которые помещались в другой, побольше, из коричневой ткани. Вот что он придумал: он засовывал левую руку в продырявленный карман брюк, чтобы усмирить или поласкать свой неудержимый член. Этой рукой он удерживал длинный шнурок, на котором висел, покачиваясь в штанине, мешочек из коричневой ткани.
— Если заявляется полиция, я отпускаю веревочку и пакетик бесшумно падает на землю. Очень удобно.
Эта ниточка связывала его с одной тайной организацией. Всякий раз, когда Маркетти передавал ему наркотик, он говорил: «Ладно, малыш», сопровождая эти слова беглым взглядом, который Нотр-Дам отмечал у корсиканцев, когда те, столкнувшись на тротуаре, бормотали друг другу:
— Слао К[50].
Маркетти спрашивает у Нотр-Дама, хватит ли у того смелости::
— У меня ее полные карманы!
— О! барси[51] — отвечает кто-то.
Здесь я не могу не возвратиться к тем словам арго, которые вырываются из уст «котов» подобно тому, как пуки (жемчужины) вырываются из нежного зада Миньона. Одно из них, которое, кажется, больше других волнует меня — или, как любит выражаться Миньон, терзает, потому что оно жестоко — я услышал в одной из камер Сурисьер, которую мы называем «Тридцать шесть плиток», камере такой узкой, что ее можно считать корабельным коридором. Я услышал, как кто-то проговорил об одном крепком охраннике: «Да я его на палубе имел!», затем, немного спустя, «Да я его на рею насадил!». И сразу стало ясно, что человек, произносивший эти слога, проплавал лет семь. Великолепие такого выражения — рея вместо кола — заставляет меня трепетать с головы до ног. И тот же человек сказал позже: «Или же, если ты гомик, ты спускаешь штаны, и следователь простреливает тебе мишень…» Но это выражение было уже чересчур вольной шуткой; неуместное, оно разрушило очарование предыдущего, и я вновь оказывался на том твердом основании, которым является шутка, тогда как поэма всегда уводит почву из-под ваших ног и всасывает вас в лоно колдовской ночи. Он сказал еще: «Копенгаген!», но это было не лучше. Иногда, в самые горестные мои минуты, когда меня окончательно допекут надзиратели, я пою про себя эту поэму: «Я его на рею насадил!», которую я, пожалуй, никому не посвящаю, но которая утешает меня, осушает непролитые слезы, ведет меня по успокоенным морям — матроса той команды, которую мы видели в 17-м году на фрегате Кюлафруа.
Миньон слонялся от одного универмага к другому. Они были единственной роскошью, к которой он мог подойти вплотную и которая могла лизнуть его. Его притягивали лифты, зеркала, ковры (прежде всего ковры, приглушающие внутреннюю работу органов его тела; тишина входила в него через ноги, обволакивала изнутри и вносила в его душу такое спокойствие, что он переставал ощущать себя); продавщицы не слишком его привлекали, потому что из него нечаянно, хотя и очень сдержанно, вырывались жесты и привычки Дивины. Сперва он осмелился лишь на некоторые из них — ради смеха; но они, притворные, мало-помалу завоевывали крепость, а Миньон даже не замечал своего превращения. Это чуть позже — и мы скажем, как — он понял всю фальшь своего восклицания, прозвучавшего как-то вечером: «Мужик, который трахнет другого мужика, — вдвойне мужик». Перед тем, как войти в Галери Лафайет[52], он отстегнул золотую цепочку, ударявшую ему по ширинке. Пока он находился на улице, борьба была еще возможна, но в петлях приземистых переулков, которые прилавки и витрины сплетают в подвижную сеть, он потерялся. Он был во власти «другой» воли, набивавшей его карманы предметами, которые он не мог узнать, расставляя их на столе в своей комнате, — настолько знак, продиктовавший их выбор в момент кражи, имел мало общего с Божеством и Миньоном. В миг, когда Другое вступало во владение им, из глаз, ушей, из приоткрытых и даже сомкнутых уст Миньона убегали, проворно порхая крылышками, маленькие серые или красные Меркурии с крылатыми лодыжками. Миньон — суровый, хладнокровный, непоколебимый, «кот» Миньон оживлялся, как отвесная скала, из которой выскакивает, из каждой ее влажной мшистой впадины, живой воробушек, порхающий вокруг самого себя, словно стая крылатых членов. Словом, ему нужно было уступить, то есть с-вор-овать. Он уже неоднократно предавался этой игре: на витрине, среди выставленных предметов и в самом труднодоступном месте он выкладывал, как бы по оплошности, какую-нибудь мелочь, заранее купленную и по правилам оплаченную в отдаленной кассе. Он оставлял ее полежать там на несколько минут, отводил от нее взгляд и рассматривал окружающие товары. Когда предмет растворялся среди остальных товаров на витрине, он воровал его. Дважды инспектор задерживал его, и дважды дирекции приходилось извиняться, поскольку Миньон предъявлял чек, выданный кассиршей.
Кража с витрин производится несколькими способами, и, наверное, каждый тип витрины требует предпочесть какой-то один. Например, можно ухватить рукой два небольших предмета (бумажника), держать их так, как если бы он был один, не спеша рассмотреть их, уронить один в рукав, и наконец, возвратить другой на место, будто бы он не подошел. Перед кипами отрезов шелка нужно небрежно сунуть руку в продырявленный карман своего пальто. Подходишь к прилавку, пока не упрешься в него животом, и, пока свободная рука ощупывает и разбрасывает ткань, приводит шелка в беспорядок, рука в кармане поднимается к плоскости прилавка (на уровне пупка), тащит на себя самый нижний отрез в кипе и затягивает его (он же гибкий) под пальто, которое его и скрывает. Но я привожу здесь рецепты, известные всем домохозяйкам, всем покупательницам. Миньон предпочитал схватить предмет и описать им стремительную параболу с витрины в свой карман. Это было дерзко, но красиво. Флаконы духов, трубки, зажигалки, как падающие звезды, скатывались по правильной короткой кривой и раздували его бедра. Игра была опасной. Стоила ли она свеч, мог судить только сам Миньон. Эта игра была наукой, которая требовала подготовки и упражнения, как военная наука. Прежде всего нужно было изучить расположение зеркал и направление их граней, не забыв про те, что подвешены к потолку под углом и показывают вас в толпе вниз головой, а сыщики с помощью набора ползунов, действующих у них в мозгу, ставят, как положено, и ориентируют в пространстве. Нужно было улучить момент, когда глаза продавщицы отведены в сторону и когда на вас не смотрят покупатели вечные предатели. Наконец, нужно отыскать, как утерянную вещь, — или, лучше сказать, как персонажа загадок, спрятанного в силуэтах деревьев и облаков на десертных тарелках, — сыщика. Найдите сыщика. Это женщина. Кино — среди прочих игр — обучает естественности, но естественности, полностью составленной из искусственности и в тысячу раз более обманчивой, чем правда. Настойчиво пытаясь добиться сходства с конгрессменом или акушеркой, сыщик из фильмов придал лицу настоящих конгрессменов и настоящих акушерок лицо сыщика, а настоящие сыщики, обезумев среди этого беспорядка, перемешивающего лица, вконец измучившись, выбрали для себя вид сыщиков, что ничего не упрощает… «Шпион, похожий на шпиона, был бы плохим шпионом», — сказала мне как-то одна танцовщица. (Обычно говорят: «Одна танцовщица, однажды вечером».) Я этому не верю.
Миньон собирался выйти из магазина. От нечего делать и чтобы выглядеть естественным, и еще потому, что трудно было выпутаться из этого вихря, из этого броуновского движения, такого же многонаселенного, хаотичного и волнующего, как утренний покой, — он неторопливо разглядывал на ходу витрины с рубашками, баночками с клеем, молотками, кольцами, резиновыми губками. У него в кармане были две серебряные зажигалки и портсигар. Его преследовали. Когда он был уже совсем рядом с дверью, охраняемой гигантским унтером, маленькая старушка спокойно сказала ему:
— Что вы украли, молодой человек?
Миньона очаровали слова «молодой человек». Если бы не они, он бы бросился бежать. Самые невинные слова как раз и являются самыми опасными, именно их нужно остерегаться. Через мгновение гигант был уже над ним и схватил его за запястье. Он нахлынул на него, как великолепнейшая волна на купальщика, задремавшего на пляже. Со словами старушки и движением мужчины новая вселенная внезапно открылась Миньону: вселенная непоправимого. Она та же самая, в которой мы находились, но вот с какой особенностью: вместо того, чтобы действовать и ощущать себя действующими, мы сознаем себя подвергающимися действию. Взгляд — возможно, это смотрим мы сами приобретает неожиданную остроту и точность ясновидящего, и порядок этого мира — увиденного наизнанку — является в неизбежности таким совершенным, что этому миру остается только исчезнуть. Он это и делает в мгновение ока. Мир выворачивается, как перчатка. Оказывается, что перчатка — это я, и я наконец понимаю, что в судный день Бог позовет меня моим собственным голосом: «Жан! Жан!»
Миньон, как и я, слишком хорошо знал толк в концах света, чтобы, приходя в себя после очередного такого конца, стал бы горевать или бунтовать. Бунт завершился бы вздрагиваниями карпа на половичке, и выставил бы его в смешном виде. Покорно, как на поводке или во сне, он позволил портье и сыщику-женщине увести себя в контору особого полицейского комиссара при магазине, в подвал. Он влип, залетел. В тот же вечер полицейский фургон увез его в камеру предварительного заключения, где он провел ночь среди толпы бродяг, нищих, воров, жуликов, сутенеров, чернушников[53], людей, вышедших из проемов между камнями зданий, воздвигнутых один напротив другого в самых темных тупиках. На следующий день Миньона вместе со всеми препроводили во Френскую тюрьму. Он должен был назвать свою фамилию, фамилию своей матери и имя своего отца, до поры тайное. (Он придумал: Ромуальд!). Он назвал также свой возраст и профессию.
— Ваша профессия? — спросил секретарь суда.