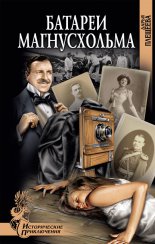Ураган Соколов Игорь

В тот же момент она пожалела о своем вопросе – в глазах незнакомца промелькнула боль.
– Нет… Я ведь просил вас – не надо спрашивать меня о том, кто я. Спрашивайте о чем угодно, задавайте любые вопросы – но только не об этом… Понимаете, – он, словно решившись на что-то, показал рукой в туман. – Там, в настоящем мире, меня нет. НЕТ. И если я буду думать об этом, то сойду с ума.
– Простите.
Она опустила глаза. Безумные разговоры больше не казались ей такими привлекательными.
Она наткнулась взглядом на завитушки, украшавшие поверхность рухнувшего каменного столба.
– Вы знаете, что здесь написано? – спросила она, показав рукой на завитушки. Спросила только для того, чтобы сменить тему разговора.
Молодой человек (человек ли? Но ведь здесь он был человеком!) мимоходом взглянул на таинственные надписи и снова повернулся к ней.
– Ничего.
Видя ее удивление, поспешил объяснить:
– Ничего осмысленного. Видимо, эти надписи возникли в те времена, когда Старшие еще только учились общаться с помощью слов. Это – нагромождение знаков, символов и букв из самых разных языков, не более того.
Лия еще раз взглянула на древние камни. Ничего удивительного в том, что она ничего не смогла понять…
– А кто такие Старшие?
– Старшие? – Молодой человек несколько растерялся. – Старшие… это Старшие. Самые древние из нас…
Спустя несколько секунд он добавил:
– …И самые сильные. Они многое знают. Но они опасны. Чрезвычайно опасны.
– Чем же?
– Они могут убить – не потому что захотят вашей смерти, а случайно. Убить – и даже не заметить этого… Или увлекшись беседой с Младшим, забыться, и…
– И?
– И Младшего нет, – меланхолично произнес Меранфоль.
– Какой ужас… Хотелось бы мне посмотреть на этого вашего Старшего.
– Лучше не надо.
Лия вдруг вспомнила, кем она является там, за пределами двух островов обмана (этого, и второго, на котором она выросла): светом и хрустальным смехом, стремленьем и радостью, и рассмеялась в ответ на благоразумное «лучше не надо».
– Не бойтесь за меня, – сказала она пришельцу.
Тот снова пожал плечами и отвернулся.
– Я не только за вас боюсь. Да и Старшие тут ни при чем. Просто… просто там все будет иначе, – в который раз повторил он.
Она не спросила – что именно «будет иначе»; прохладный морской ветер вдруг омыл ее кожу, взъерошил волосы и заставил оглядеться. Она увидела, что туман и развалины исчезли, а они с Меранфолем стоят на берегу моря, на краю Безмолвного Острова… Острова Лжи.
– А жаль, – тихо произнес он, прежде чем исчезнуть. – Жаль, что там все будет иначе. Жаль – потому что я уже почти полюбил вас.
5
«…Какой странный сон, – подумала Лия, просыпаясь. – Всего лишь сон… Только во сне незнакомый молодой человек может при первой же встрече сказать: знаешь, дорогая, а я вот тебя люблю… Впрочем, кто их знает, этих мужчин, – подумала она, переворачиваясь на другой бок и пытаясь уловить остатки сна. – Элиза говорит, что верить им нельзя ни на грош ни при каких обстоятельствах. Во сне, наверное, тоже…»
Сновидение не возвращалось, темнота по-прежнему окружала ее, и чем дольше Лия ворочалась в кровати, тем больше убеждалась, что пора вставать, одеваться и спускаться вниз. Удивительное путешествие закончилось, следовало возвращаться к повседневной жизни, и как-нибудь протянуть следующие полтора-два месяца: полтора-два месяца, разделявшие те немногие часы, когда она жила настоящей жизнью.
Она проснулась окончательно и села на кровати. Прислушалась: внизу, по кухне, ходила Элиза, а это значило, что благодаря неизвестному чуду у них сегодня будет, что съесть на завтрак. Лия поискала рукой платье, оделась и вышла из комнаты. По-прежнему погруженная в мысли о виденье, она больно ударилась локтем о косяк двери, охнула и простояла почти минуту, растирая место ушиба. Затем она вышла из комнаты, привычным жестом нащупала перила и стала спускаться по лестнице.
Когда мать спросила ее о том, как она себя чувствует, Лия машинально сказала: «Мне хорошо», и лишь спустя несколько секунд вспомнила, почему Элизу так тревожит ее самочувствие. Ведь вчера, торопясь улизнуть из кухни, она назвалась больной… Лия чуть покраснела: она ненавидела врать Элизе, но иногда та просто не оставляла ей другого выхода. Садясь в кресло-качалку, она молилась Джордайсу, чтобы Элиза не заметила ее смущения, и не пришлось снова врать, объясняя его причины. Очевидно, Господь услышал ее молитвы, потому что Элиза, увлеченная пересказом пикантных подробностей вчерашней свадьбы, ничего не заметила. Рассказ матери увлек Лию и заставил забыть о давешнем сне.
…Вечером Элиза вернулась из дома Кларина и принесла подарок – горшочек творога. Пользуясь тем, что Лия не видит, Элиза, как всегда, положила ей больше, чем себе, и с тихой радостью смотрела, как Лия ест, осторожно опуская ложку в деревянную миску, и неторопливо поднося ее затем ко рту. Когда Лия ела, то становилась похожей по меньшей мере на герцогиню. К сожалению, ее аристократические манеры были вызваны слепотой, а не обилием пищи или соответствующим воспитанием, но Элиза знавала слепых, которые поглощали пищу жадно, пачкая и себя, и все, что их окружало; Лия же всегда ела очень аккуратно. Никогда, даже в детстве, она не признавалась, что голодна. Она вообще была очень молчаливым и замкнутым ребенком. Элиза иногда подозревала, что если она вдруг перестанет кормить свою приемную дочь, то та так и будет сидеть в своем старом кресле, пока не умрет – но сама ничего не попросит. Эти мысли пугали Элизу, и оттого сильнее было ее удовольствие, когда она видела, как Лия ест. Это зрелище успокаивало Элизу и на короткое время приносило уверенность, что все в порядке и в будущем все будет хорошо.
За ужином они немного поговорили о том, что Элиза видела в доме Кларина, обсудили невесту Гернута (выглядело это так: Лия задавала вопросы о ее внешности и манерах, а Элиза на них отвечала), и пришли к мнению, что лучше бы бальи не отпускал Гернута, а приписал его к числу тех людей, которые были назначены, чтобы нести повинность у нового сеньора, графа Манскрена, на постройке его замка. Дело в том, что предыдущий владелец Леншаля, граф Эксферд, погиб несколько месяцев тому назад вместе со всей своей семьей от необъяснимого волшебства, и вместе с ним был разрушен его замок. Остров, за отсутствием близких родственников, отошел в собственность короля и вскоре был передан дворянину Манскрену, который вместе с землей получил и графский титул. Новый замок он собирался построить в глубине острова, а не у побережья, что было неудивительно, ибо поговаривали, что колдовство, погубившее его предшественника, имело вид урагана чудовищной силы. Когда впервые стало известно о том, что произошло с Эксфердом Леншальским, Лия не могла понять реакции Элизы – та на несколько дней сделалась задумчива и молчалива. Казалось, что-то тревожит ее, теребит ее память, но что – Лия так и не узнала. Элиза не сказала ей. Лия лишь слышала, как иногда, почти неуловимо, меняется дыхание Элизы, и это почему-то беспокоило слепую девушку. Она не знала, что в эти мгновения Элиза смотрит прямо перед собой, но ничего не видит, а по морщинистым щекам старухи неслышно текут слезы…
6
…На чем мы остановились? Ах, да… Элиза поселилась в городе. Денег граф оставил ей достаточно, чтобы безбедно прожить год или даже больше. Кроме того, при ней остались все ее платья и драгоценности, подаренные Эксфердом – у того хватило ума не говорить прямо: «Кстати, захвати-ка с собой все свои вещи, дорогая», а просто распорядиться, чтобы все вещи Элизы были перевезены на ее новую квартиру. Этим он как бы делал ей приятный сюрприз: надо же, какой внимательный, обо всем позаботился!
В городе Элиза обратилась к лекарю (медная табличка над дверьми его дома гласила: «Магистр медицины, доктор Иеронимус Валонт»), и с неудовольствием обнаружила, что это мужчина лет двадцати семи – двадцати восьми, стремительно двигающийся и часто улыбающийся… А она-то надеялась встретить солидного, пожилого врача! Тем не менее у нее хватило решимости четко и ясно объяснить, зачем она к нему пришла. Врач задал ей несколько вопросов, один из которых заставил Элизу покраснеть, и объяснил ей, в чем дело. Элиза была ошеломлена, но все же не настолько, чтобы уйти, не расплатившись – хотя платить, по большому счету, было не за что: Элиза отняла у молодого врача всего лишь три или четыре минуты его драгоценного времени. Но магистр медицины, доктор Иеронимус Валонт деньги взял, и сей факт послужил причиной тому, что впоследствии, вспомнив о его любви к деньгам, она снова к нему обратилась…
На улице ее едва не раздавил экипаж, и только это более-менее привело девушку в чувство. Дома, однако, мысли о будущем ребенке вернулись к ней с новой силой, и она целый день просидела в кресле, положив, сама того не замечая, руки на живот, и даже не спустилась вниз, когда ее позвали обедать. Тревога грызла ее сердце: она не представляла, как отнесется к этому событию граф. Не решит ли он, что она завела ребенка специально, чтобы покрепче привязать его к себе, или, на худой конец, выманить побольше денег? А может, он обрадуется? Элиза сильно в этом сомневалась. В последние две-три недели в их отношениях появился едва заметный холодок. Графа, похоже, такое положение вещей устраивало, а Элиза была слишком занята собой, чтобы изгнать это отчуждение. Она рассчитывала вылечиться в городе от неизвестного недуга, и по возвращении в замок вернуть все на свои места, но теперь она горько себя за это корила. Теперь она страшилась неопределенности будущего, страшилась пут, которые наложит на нее младенец, страшилась судьбы покинутых женщин, которых бросали их женихи, мужья, возлюбленные. В ее деревне жила одна такая, и в детстве родители часто с презрением говорили о ней, указывая как пример развратной и неудавшейся жизни, а Элиза не могла понять, почему презрение в их голосах перемежается с едва скрываемым торжеством, как будто та девушка, Клара, была их заклятым врагом, и ее беду они воспринимали чуть ли не как свою личную победу. Элиза тогда еще была слишком мала, чтобы уразуметь всю убийственную силу общественного мнения, но когда родители после очередного нравоучения, в котором, в качестве отрицательного примера, упоминалась Клара, спрашивали Элизу: ты ведь не хочешь быть на нее похожа, правда? – Элиза послушно кивала и говорила: «Не хочу».
…Правильно, дочка, а теперь съешь тарелку этой вкусной каши, ты ведь послушная девочка, ты ведь не хочешь быть похожей на Клару, которая не слушалась своих родителей, и над которой сейчас все в деревне смеются, хотя вчера все завидовали, потому что она не боялась любить, и которую ненавидели и вчера и сегодня, но сегодня уже готовы снисходительно простить…
Ты ведь не хочешь для себя такой судьбы, Элиза?
Элиза не хотела. Вы можете спросить, почему же, в таком случае, она, еще до приезда графа, разводила шашни с Карэном? Но нравоучения – это одно, а потребности молодого здорового тела – совсем другое. Все нравоучения остаются пустыми звуками до тех пор, пока на собственном опыте не убедишься в их обоснованности или, напротив, в отсутствии таковой.
Факт собственной беременности на длительное время выбил Элизу из колеи, и был миг, когда она возненавидела – тогда еще не самого ребенка, нет! – но свою женскую природу, неизбежность, с которой мужское семя в ее животе превращается в плод, плод растет, выжимая из нее все жизненные соки, чтобы потом в агонии родовых схваток покинуть ее тело, навсегда забрав с собой частицу ее жизни, ее молодость и красоту, но не успокоиться на этом, а беспрестанно требовать еще и еще – чистых пеленок, еды, ежеминутного внимания. Молодость и свобода, принесенные в жертву – и ради чего? Ради того, чтобы ее ребенок через двадцать лет обрюхатил бы какую-нибудь молоденькую дурочку?
Почему-то Элиза была уверена, что это будет мальчик.
На протяжении последующих дней Элиза занималась тем, что успокаивала себя – и преуспела в этом. Все совсем не так страшно, как ей кажется, она просто ужасная трусиха (как пойманный зайчонок), конечно же, Эксферд не бросит ее, он позаботится о ней и ребенке. Она навоображала себе всяких ужасов, а дело-то самое обычное. Может быть, граф, узнав о сыне, сочтет своим долгом жениться на ней. Конечно, это только фантазии, но… Ее сердце замирало, когда она думала об этом. Только надежды на скорое осуществление своей давней мечты и почти детская вера в этого сильного, мужественного, благородного, а главное – любящего ее человека, помешали ей уже тогда в срочном порядке начать изыскивать средства для того, чтобы избавиться от плода.
Две или три недели Элиза прожила в городе относительно спокойно – она и скучала по Эксферду, и со страхом ждала встречи с ним, но знала, что ждать еще долго, а потому как могла старалась отвлечься. Она заказала себе несколько новых платьев, купила пару дорогих безделушек и почти каждый день ходила на площадь смотреть на представления заезжих актеров – до тех пор, пока надвигающаяся зима не заставила комедиантов покинуть Лешшаль и отправиться на поиски острова с климатом потеплее.
Потом потянулись иные дни, когда Элиза стала прислушиваться к шагам на лестнице и целые дни проводить у окна, высматривая на улице фигуру благородного всадника в атласном плаще, дни, когда ожидание росло, а тревога и беспокойство– усиливались, ибо месяц подходил к концу, а ее возлюбленный все не появлялся, а потом наступили дни, когда все сроки вышли, но Элиза все ждала, отгородившись от торжествующей реальности высокими стенами памяти и веры, и марево прошедших дней сливалось перед ее глазами, а она жила в каком-то безвременье, и противилась любым попыткам окружающих вытащить ее оттуда, избегала любых упоминаний о датах и числах, и, хотя зима была близко, не покупала себе теплых вещей, потому что грядущую зиму она проведет в замке графа Эксферда, да-да, он обещал, он приедет и увезет ее, и они вместе посмеются над ее страхами, и она прижмется к его куртке, отороченной волчьим мехом, и не отпустит Эксферда от себя больше никогда…
Но вот, подошли дни, когда прятаться от правды стало уже невозможно – дни, когда городские улицы замело снегом, и Элиза, согревая дыханием посиневшие от холода пальцы, глядя из своего окна на покатые черепичные крыши, на карнизы, сияющие белоснежным великолепием, думала: «Мне самой надо пойти в замок. Это недалеко, в карете мы ехали всего лишь два дня… Даже если буду идти пешком, доберусь за каких-нибудь пять или шесть дней… Не может же быть, чтобы он и в самом деле забыл меня…»
Но пешком она не пошла. Она наняла крытую повозку вместе с возницей. Она также купила теплый плащ, изящные, подбитые мехом полусапожки, большой шерстяной платок и толстые, похожие, если их поставить вертикально, на два маленьких домика с трубами, рукавички. В начале дороги возница предпринял попытку разговориться с ней, но Элиза, по-прежнему пребывающая в коконе своей собственной реальности, возницу в этом начинании не поддержала, и новых попыток он больше не предпринимал. Если бы Элиза еще в городе хоть на час выбралась из своего кокона, если бы послушала противоречивые слухи, ходившие о помолвке Эксферда и Терейшы Сэларвотской – противоречивые, потому что помолвка произошла за много морских лиг от Леншаля, и никому еще толком не было известно, где состоится свадьба: на вотчине родителей Терейшы или в родовом замке графов Леншальских – тогда, возможно, Элиза никуда бы не поехала. Или поехала бы, но была бы внутренне готова к приему, который ей окажут в замке…
…Усатый сержант замковой стражи – тот самый, который сопровождал ее в город – молча преградил ей путь.
– Мне нужно увидеться с графом, – произнесла Элиза, постаравшись изгнать смятение из голоса. Она до сих пор верила, что стоит ей встретиться с Эксфердом – и все образуется само собой.
– Его нет.
– Я могу пройти? – Элиза попыталась обойти стражника.
– Не велено, – обронил сержант, загораживая ей дорогу. Молодые должны были приехать буквально на днях, и можно было себе представить, какой случится скандал, если в первый же день в графских покоях Терейша обнаружит эту девицу. Управляющий не хотел рисковать своим местом, не хотел, чтобы Эксферд наказал за то, что он пустил в замок Элизу – и поэтому он отдал соответствующие распоряжения страже.
– Кто вам это запретил? Граф? – Голос Элизы больше не дрожал. Да, именно так она возьмет этот барьер из металла и мяса, эту груду мышц, преградившую ей дорогу: твердой решимостью и уверенностью в своей правоте…
Но сержант не ответил. Он не смотрел на Элизу: он смотрел сквозь нее. Меру ее уверенности и решимости он мог бы измерить с точностью до миллиметра. В первый день он на своем посту, что ли?..
Он высился над ней неколебимо, как скала, жевал табачную жвачку и оттого вдвойне казался похожим на вола, улегшегося посреди проезжей дороги. Такому животному все равно – крики, брань, побои, оно не встанет, пока не почувствует очень сильную боль или не ощутит голода.
Элиза поняла, что в замок ее не пустят.
Тем не менее, когда она удалялась от замковых ворот, осколки надежды еще жили в ней. Конечно же, стражник солгал ей. Эксферд в замке. Он просто – от этой мысли у нее защемило сердце – позабыл о ней, может быть, ему вскружила голову какая-нибудь нахальная вертихвостка, но она добьется встречи со своим любимым, добьется – даже если все стражники мира попытаются ей воспрепятствовать.
В ближайшей деревушке она без труда отыскала постоялый двор, сняла комнату и только сейчас догадалась разузнать что-нибудь о своем любимом. И разузнала…
Она уже ни на что больше не надеялась. Снова, как полгода назад, ее жизнь перевернулась – но на этот раз не в лучшую сторону. Она не знала, что ей делать, как дальше жить. У нее еще оставалась небольшая сумма из тех денег, что дал ей Эксферд (значительную часть средств она уже успела потратить), но того, что осталось, ей хватило бы в лучшем случае на год-полтора, да и то – если жить, во всем себе отказывая.
Но, может быть, Эксферд, узнав, что она ждет от него ребенка, захочет обеспечить ее? Может быть, он позволит ей поселиться в замке и воспитает ее сына среди других своих сыновей, и, может быть, Терейша Сэларвотская умрет во время родов – эти высокородные девицы, они ведь такие нежные, такие слабые, такие хрупкие – и тогда Эксферд, может быть…
Элиза расплакалась. Полно, хватит, перестань, говорила она себе, тешиться несбыточными надеждами, пора уже понять, дура, что твой путь не будет усыпан розами Надо вцепляться в удачу обеими руками, и не ослаблять хватки ни на секунду, а не ждать, сидя у окна, своего счастья…
Все мечты ее юности были разбиты, и она горько оплакивала их обломки. Ей было больно. В тот день она впервые ощутила проклятье одиночества, лежащее на всем человеческом роде: беспредельное одиночество каждого отдельного человека, существующего в обществе себе подобных. Бесконечная пустота сопровождает каждого из нас от рождения до смерти, и хотя первую треть жизни нас защищают от ее ледяного дыхания наши родители (так же, как и мы защищаем их – и именно поэтому они отказываются признавать нас взрослыми: это признание, вместе с последующим отказом от руководства нами, снова оставит их без защиты перед торжествующим ничем), всегда наступает миг, когда те, кто вел нас, вынуждены оставить нас и отступить в сторону, и тогда ты один стоишь посреди пустыни, не видя ни путей, ни дорог, ни камней, в тени которых можно было бы укрыться от лучей черного солнца – холодных, как лезвия мечей, и таких же острых; стоишь, не смея идти, но зная, что нельзя и оставаться на месте…
Каждый день Элиза ходила к замку и на некотором удалении следила за воротами – с утра до позднего вечера, лишь иногда возвращаясь в деревню, чтобы отогреться у огня и пойти к замку снова. Ледяной ветер жег ей лицо, и, может быть, тогда она впервые услышала его голос, похожий на голос плачущего младенца, на вой безумного зверя, на шепот, таящий в себе слишком много обещаний, чтобы можно было им верить…
Она дождалась.
Не ищите – ибо обрящете, как любила, перевирая слова Книги Жизни, говорить Королева Зимы всем тем, кого приводила в ее цитадель старинная легенда. Легенда гласила, что Королева Зимы щедро одаривает знаниями и колдовским могуществом смельчаков, готовых стать ее любовниками. О том, как мало этих молодых людей возвращается из Замка живыми, легенда умалчивала.
К графскому замку приближался свадебный кортеж.
Венчание состоялось на острове Сангрюн, в Соборе Праведников – одном из наиболее почитаемых храмов Джордайса. После венчания прослезившиеся родители в последний раз обняли свое чадо и позволили графу Эксферду увести прекрасную Терейшу на свой корабль. Свадьба должна была состояться в замке графа.
В Леншальском порту, как только молодые сошли с корабля, прекрасной Терейше подвели смирную лошадку с дамским седлом, поскольку садиться в карету она решительно отказалась. Ей хотелось осмотреть свои новые владения со спины лошади, а не выглядывать в узкое окошко подпрыгивающей на каждом ухабе раззолоченной повозки.
Терейша посмотрела на дамское седло, потом с сожалением перевела взгляд на свое роскошное платье. Она была великолепной наездницей.
От порта до замка ехать около четырех часов. В дороге Эксферд и Терейша мало говорили друг с другом – исключительно благодаря неугомонности юной графини, желавшей все увидеть своими собственными глазами. Терейша то вырывалась вперед (как она умудрялась выжимать подобную прыть из смирной лошадки, да еще и сидя при этом в дамском седле – уму непостижимо), то, наоборот, заинтересовавшись чем-нибудь по дороге, заставляла себя ждать. Правда, следует признать, что когда свадебное шествие проходило через какой-нибудь населенный пункт, она брала под уздцы свою природную взбалмошность и чинно, рука об руку, проезжала с Эксфердом через селение. Время от времени она спрашивала у графа: «А это что? А вот это? А куда ведет эта дорога? В город? А там деревянные мостовые или мощеные камнем?..»
Когда она увидела огромный Леншальский замок, то снова вырвалась вперед. Эксферд, наоборот, отстал, поскольку среди тех, кто выехал из замка им навстречу, был и мажордом, а Эксферд, хотя и подробно изложил в письме, как надо подготовиться к их приезду, все же хотел удостовериться, что все выполнено надлежащим образом. Он подозвал к себе управляющего.
– Ну? – нетерпеливо спросил граф, смотревший в стремительно удаляющуюся спину своей нареченной. – Все готово?..
…Они остановились в каких-нибудь пятнадцати шагах от Элизы. Со своего места в толпе крестьян, высыпавших на дорогу, чтобы поприветствовать графа, она могла отчетливо, как на портрете, различить каждую черточку его лица – лица, так часто улыбавшегося ей одной, лица человека мужественного и благородного… Он по-прежнему был красив, но сейчас эта красота была иная – холодная, чуждая, недостижимая красота человека в атласном плаще, возвышающегося над почтительно взирающей на него толпой, но эту толпу не замечающего и оттого еще более прекрасного…
Словно что-то толкнуло ее к Эксферду; работая локтями, она протиснулась вперед и внезапно оказалась вне людской массы, прямо перед лошадьми Эксферда и мажордома. Они продолжали говорить о чем-то, и граф не замечал ее, как не замечал на протяжении своей жизни ничего, что выходило за пределы его сиюминутных интересов, а вот управляющий заметил, и задержал взгляд, пытаясь вспомнить, почему ему кажется таким знакомым лицо этой девушки, и тогда Эксферд, раздраженный невнимательностью собеседника, обернулся и увидел ее тоже.
В отличие от своего управляющего граф Эксферд Леншальский узнал ее сразу.
Ее удивило выражение злобы, промелькнувшее на этом лице – столь прекрасном и когда-то столь ею любимом. «Кого он может так ненавидеть?..» – подумала Элиза, еще не понимая, что граф смотрит на нее. Когда он тронул коня, и приблизился к Элизе, ей показалось, что сейчас сердце выскочит у нее из груди.
– Разве тебе дали мало золота? – прошипел Эксферд сквозь зубы, наклоняясь к ней. – Больше ты ничего не получишь. Убирайся.
В этот момент он увидел, как Терейша, подъехавшая почти уже к замковым воротам, поворачивается и ищет его властным взглядом: где же ты, муж мой? Ты нарушаешь приличия.
Он вонзил шпоры в бока своего жеребца, и, обрызгав Элизу грязью, через несколько секунд был рядом со своей женой.
В память Элизы навсегда врежутся эти мгновения: двое богатых счастливцев, в сопровождении свиты въезжающие под своды старинного замка, трепещущие на ветру флаги, нестройные звуки музыки, перемежаемые приветственными криками, и рвущиеся в ранних зимних сумерках огни фейерверков…
7
– …Корабль еще не вернулся? – спросил виконт у своей супруги во время обеда. Виконтесса отрицательно покачала головой. Руадье вытер салфеткой перепачканные в жиру руки, затем раздраженно смял ее и бросил на пол. С вызовом посмотрел на жену – не скажет ли та что-нибудь относительно его манер? Но Генриета молчала. За двадцать пять лет совместной жизни она прекрасно успела изучить характер своего мужа и знала, когда нужно промолчать, а когда – ненавязчиво, но твердо указать Рихарту на его неправоту. Она была настолько умна (Рихарт женился на ней не ради ее красоты – она и в лучшие свои годы, с плоской грудью и чересчур вытянутым лицом, мало кому могла показаться привлекательной; и не только из-за денег – Рихарт, даже в сорок два обаятельный, как сам дьявол, мог бы найти себе гораздо лучшую партию; он женился на ней, хотя никто в это не верил, ради ее ума), настолько тонко управляла своим мужем, что за двадцать пять лет они ни разу серьезно не поссорились – что было удивительно, учитывая непостоянный и вспыльчивый характер виконта. Самого Рихарта это тоже удивляло. Более того, в последние годы Генриета стала замечать, что Рихарт как будто специально старается спровоцировать ее, подловить на какой-нибудь ошибке – и, совсем как ребенок, надувает губы, когда это ему не удается. Это было чистое мальчишество. Походило на то, что чем старше Рихарт становится, тем больше он начинает впадать в детство… Из которого, впрочем, по мнению виконтессы, он никогда и не выходил.
Генриета мельком посмотрела на мужа. Годы мало изменили его. Волосы стали совсем седыми, обозначились складки под подбородком, кожу покрыли морщины… Ну и что с того? Неугомонная юность по-прежнему кипела в нем, выплескиваясь через край в каждом жесте, слове, взгляде, и оттого Руадье-внешний, доживающий седьмой десяток, становился почти невидимым, прозрачным, сквозь него просвечивался Руадье-внутренний, Руадье-настоящий, разбойник и шалопай, отпетый бабник и дуэлянт.
Мальчишка.
Он был старше Генриеты на двадцать лет, но иногда казался ей на двадцать лет моложе. Как же она иногда завидовала его вечной молодости, его красоте, его непосредственности, всем его мальчишествам! По утрам, глядя в зеркало, она замечала, как стареет. Прошедшие годы придали ей горделивую осанку, властность и достоинство светской дамы в возрасте, но так и не сделали более привлекательной, в то время как в постель Рихарта даже теперь была готова улечься чуть ли не каждая молоденькая дурочка, стоило ему лишь захотеть этого.
И самое смешное состояло в том, что Рихарт тоже завидовал своей жене. Привлекательность с самого рождения была его неотъемлемым качеством и поэтому он не особенно ценил ее. Зато перед интеллектом Генриеты он преклонялся. Сам по себе Рихарт был далеко не туп, скорее наоборот – он обладал умом чрезвычайно живым и острым, на ходу сочинял стихи, неплохо играл в шахматы, всегда удачно острил и вообще мгновенно становился душой любого общества, в котором ему довелось оказаться, но за двадцать пять лет совместной жизни ход мыслей его собственной жены так и остался для него тайной за семью печатями.
Она была (и оставалась) единственной женщиной, с которой ему никогда не становилось скучно. Обычно женщины надоедали ему через неделю близкого знакомства, в лучшем случае – через две или три.
– Прошел уже месяц, – сказал Руадье, в упор глядя на жену.
– Только на то, чтобы добраться до Ленвендо, требуется неделя… или даже больше, в зависимости от ветра.
– С ними был морской волшебник.
– Значит, что-нибудь их задержало, – как могла спокойно произнесла Генриета.
На самом деле она тревожилась, и сильно. Она уже два дня скрывала от мужа известие, которое ей доставил один из ее капитанов: две недели назад, когда он покидал порт Ленвендо, корабль Ноэса там еще не появился. Конечно, какие-то непредвиденные обстоятельства могли заставить Ноэса отплыть из Склервонса позже намеченного срока, и беспокоиться было еще рано, но… но она все равно беспокоилась.
– Что-нибудь! – мигом окрысился Рихарт. – «Что-нибудь»! Что-нибудь, похожее на пиратов! Что-нибудь, чрезвычайно похожее на галеоны Вольных Мореходов!.. Что-нибудь! Ну, конечно!..
– Отец, – рассудительно произнес Рамхель. – Пираты не появлялись в этих краях вот уже бог знает сколько времени. В дни вашей молодости…
– В дни моей молодости, – возвысил голос Рихарт Руадье, – мы знали, каким образом должно отвечать на оскорбления! В дни моей молодости пираты находили здесь достойный отпор! – Он ткнул ножом в воздух, как будто протыкая насквозь Вольного Морехода, невидимкой парящего над обеденным столом. – Пираты приходили и оставались здесь навсегда… Ха-ха, брюхом кверху! Но теперь, конечно же, никто о них ничего не хочет знать! Лучше тихонечко сидеть дома и говорить: «Ах! – тут Рихарт изменил голос на более тонкий, писклявый. – Пираты не появлялись в этих краях вот уже бог знает сколько времени, отец, и поэтому пусть лучше мой брат будет иметь дело с этими несуществующими пиратами, а я буду сидеть дома и прятаться за маминой юбкой, ведь я так хорошо научился глотать оскорбления, скоро я научусь возвращать перчатки, которые будут бросать мне в лицо, а потом – с благодарностью слизывать со своей морды чужие плевки, а потом…»
– Отец! – бледный, как сама смерть, Рамхель вскочил из-за стола. – Отец, вы оскорбляете меня!
– Ах, так мы обиделись! – растягивая слова, Рихарт довольно откинулся на спинку стула. – Мы возмущены! Может быть, мы хотим вызвать на дуэль своего седого отца? Ну, валяй, щенок!.. Или ты снова боишься?.. Давай же! Может быть, когда я проколю тебя, в твоих жилах перед смертью появится что-нибудь, похожее на кровь, а не на воду!
– Отец, – сдержавшись только благодаря неимоверному усилию воли, тихо произнес Рамхель. – Вы испытываете мою любовь к вам!
– Ха! – заорал Рихарт на всю столовую. – Теперь этот святоша говорит мне о любви! Ты, жирный хассед! Для того, чтобы любить, надо иметь в жилах кровь, а не мочу!
– В моих жилах течет ваша кровь, – дрожащим голосом вымолвил Рамхель.
– Сильно в этом сомневаюсь!
– Говоря так, вы оскорбляете мою мать, и я не намерен больше выслушивать ваши…
– Не намерен?! Моя жена – святая женщина, но она тебе не мать, а я – не отец! Подменыш, выродок, мямля, трус, скотина, деревенская баба, размазня, святоша, трепло, мальчик для удовольствий!..
Рыча от бессильной ярости, Рамхель выбежал из столовой. В тот же миг Рихарт прервал свои излияния. С мрачным видом он уткнулся в тарелку, а через минуту смотрел на Генриету уже почти виновато. Ей хотелось многое сказать мужу, накричать на него, напомнить еще раз, что им обоим неизвестно, почему в тот роковой вечер в замке их соседей, баронов Арлуских, Рамхель молча снес публично нанесенное ему оскорбление, и хотя ходили упорные слухи, что в этом деле замешана какая-то женщина, истина так и осталась невыясненной. Впоследствии, во время очередной стычки с разгневанным отцом, Рамхель как-то обронил: «Иногда для того, чтобы промолчать, требуется больше мужества, чем нужно, чтобы принять вызов», и эта фраза подтвердила то, что она и без того знала: ее сын не был трусом.
Но Рихарт не поверил. Когда она пересказала ему эти слова, он стал называть сына вдобавок ко всему еще треплом и святошей.
Она ничего ему не сказала. Бесполезно. Твердишь одно и то же, твердишь, а он чуть что – заводится снова. Об этом деле они говорили уже не один раз, и хотя раз за разом бешеная ярость Руадье терпела поражение перед логикой дочери виноторговца, Генриета чувствовала, что внутри ее муж все равно остается при своем мнении. По мнению Рихарта, ни одна женщина в этом мире, ни даже все женщины этого мира вместе взятые не стоят того, чтобы допускать из-за них появление слухов о трусости кого-либо из семьи Руадье.
Генриета молчала и продолжала есть (хотя ей уже кусок в горло не лез), демонстративно не обращая на Рихарта внимания. Она знала, что ее молчание ранит его сильней, чем все, самые жестокие и справедливые слова, которые только можно придумать.
…Рамхель вышел на замковую стену, согнувшись от напора шквального ветра, и вцепился обеими руками в плащ, который разъяренная стихия так и норовила сорвать с него. Хотя была середина дня, Рамхелю, только что покинувшему хорошо освещенное помещение, показалось, что солнце давно склонилось к закату – земля под свинцово-серыми небесами была погружена в глубокие сумерки. Ветер ревел, ветер бился о камень замковых стен, и выбивал слезы из глаз, заставляя закрывать лицо ладонями, ветер срывал с деревьев молодую листву, ветер гнал по небу тучи, одну чернее другой, но не давал им пролить на землю ни капли… На дворе стояла поздняя весна, время морских бурь и ураганных ветров, но Рамхель, покопавшись в памяти, не смог вспомнить подобного дня, когда буйство стихий в такой же степени смешало бы день с ночью, а шум гнущихся к земле стволов – со стоном и смехом…
Прислонившись к стене, схватившись руками за угол бойницы и таким образом избежав вполне реальной опасности быть сброшенным следующим порывом ветра вниз, в заполненный водой ров, или быть размазанным по стене донжона, ибо направление воздушного течения менялось едва ли не быстрее настроения Рихарта Руадье, Рамхель почувствовал себя немного лучше. Ярость взбесившейся природы нейтрализовала его собственный гнев, и подтвердила то, что сказал ему его старый слуга (и оруженосец в одном лице), когда Рамхель ворвался в свою комнату и приказал слуге собираться, потому что мы сегодня же, сейчас же убираемся из этого дома, я не намерен оставаться здесь больше ни минуты… «Милорд, – сказал слуга, – не сегодня. Нет, сегодня никак не возможно. Впрочем, выгляните на улицу сами и убедитесь, кто из нас двоих прав…»
Сейчас, держась за камень, чтобы ненароком, вдобавок ко всем остальным своим талантом не выучиться еще и летать, Рамхель убедился, что слуга прав. Бегство из дома снова откладывалось.
Скрипнула тяжелая железная дверь. Потом раздалось чертыханье, когда порыв ветра погасил факел в руках того, кто вслед за Рамхелем выбрался на крепостную стену. Обернувшись, Рамхель увидел, как один из отцовских солдат, в полном обмундировании – кираса, алебарда и все остальное – медленно поднимается по лестнице.
«Да уж, с таким количеством железа его со стены так просто не сдует…» – мысленно усмехнулся молодой дворянин.
– Молодой господин! – крикнул солдат, приблизившись вплотную к Рамхелю, иначе голос ветра заглушил бы его слова. – Здесь опасно!
Руадье только усмехнулся. По-видимому, разглядев его улыбку и сообразив, что так просто выполнить свою миссию ему не удастся, стражник двинулся вперед и прислонился к стене рядом с Рамхелем.
– Я и не упомню такого урагана, – сообщил он. – Столько лет служу, а такое в первый раз вижу… Недобрая эта буря, поверьте моему слову, господин Рамхель, недобрая. Вот и капитан Сенгольд приказал все сегодняшние дежурства на стенах отменить. Пойдемте вниз, господин… Если с вами случится что, с нас шкуру спустят… Пойдемте… Дурной ветер…
Сначала природное упрямство мешало ему подняться. Сейчас он не был расположен выслушивать какие бы то ни было советы, даже самые благоразумные. Напротив, ему хотелось действовать вопреки всему, даже логике, совершая как раз противоположное тому, что от него ожидали. Если говорят: здесь опасно, спустись – значит, он пробудет наверху еще час или два, и не просто будет стоять или сидеть, прячась за стену, а несколько раз обойдет замок по периметру, стараясь подольше оставаться на открытых местах, и тогда, возможно, отец поймет, что…
Но затем одна гордость одержала победу над другой, и Рамхель оторвался от стены, собираясь вернуться во внутренние покои замка. Плевать, что подумает отец. Плевать. Он не будет принимать решения, сообразовываясь с мнением Рихарта Руадье. Он будет таким, какой он есть и ничего не станет доказывать старому маразматику. Он, Рамхель, выше этого.
Пусть Рихарт бесится, пусть считает его кем угодно. Все равно завтра он уедет из этого замка. И на этот раз никто не сможет его остановить. Он и так уже слишком часто поддавался уговорам людей, которых слишком сильно любил. Пора начинать жить своим умом.
…Рамхель замер на самом краю лестницы – лестницы, ведущей вниз, в тепло и уют родового замка, в коридоры, освещенные факелами, в комнаты с наглухо закрытыми ставнями.
Кто-то рассматривал его. Рамхель ощутил это очень отчетливо – взгляд был липким, как патока, он обтекал виконта со всех сторон, не позволяя ему идти вниз, не позволяя сделать ни единого движения. Сначала Рамхелю показалось, что зрителей много, потому что смотрели на него сразу со всех сторон, но потом, когда тело окончательно отказалось его слушаться, он понял, что число наблюдателей не имеет в данном случае никакого значения. Скорее всего, он столкнулся с каким-то поганым колдовством, будь оно проклято… Возможно, это порча, насланная на замок, и стал первой ее жертвой. Гнев придал ему решимости, он изо всех сил рванулся вперед, уже готовясь кубарем скатиться по лестнице, и… и ничего не случилось. Напряжение сковало его мышцы, но с места он не сдвинулся даже на полшага. Даже не пошевелился.
За своей спиной Рамхель услышал негромкий смешок, почти неотличимый от песни ветра. В тот же миг взгляд (а может – объятья? невидимые руки эфирных духов?) стал иным, сгустком теплой слизи проник под одежду Рамхеля, пробежался по его груди, лизнул кожу, вызвав странную смесь ощущений – сильнейшее омерзение, перемешанное с почти сексуальным возбуждением – и растворился в теле юноши, проник в плоть и дотронулся до сердца.
И почти сразу же смех за спиной Рамхеля зазвучал снова.
– Господин! – раздался испуганный голос стражника. – Здесь что-то…
Голос оборвался, сменившись сипением, а Рамхель покрылся испариной. Что творится у него за спиной? Что увидел тот человек?
Но он не мог обернуться. А через несколько секунд понял, что человек, взобравшийся вслед за ним на крепостную стену, мертв. Рамхель отчетливо слышал его короткую агонию, слышал каждое движение, каждый хрип и лязг доспехов, раздававшиеся позади него – слышал, не смотря на оглушительный вой ветра. Отчаянное хрипение умирающего накладывалось на безумный голос урагана, создавая музыку, которая сводила Рамхеля с ума – а еще ему казалось, что тот, кто смотрит на него, знает, что происходит с его рассудком, и улыбается, наслаждаясь каждым мгновением его беспомощности…
…Вам интересно, что произошло со стражником? Он задохнулся. Воздух отпрянул от него, даже тот, что содержался в легких и глотке солдата, был выцарапан, выдернут чудовищем, пришедшим в дом Руадье. Так безжалостный сборщик налогов или служитель закона отнимает у нищего последний грош, у крестьянина – единственную корову, у ремесленника – его инструмент… Человек боролся. Он чувствовал воздух рядом с собой, он пытался доползти до него, но густая, плотная, почти твердая прозрачная стена отступала, лишь он протягивал к ней руку, и ветер смеялся над ним, над тщетностью его усилий, а потом лизнул его своим острым языком, но не так, как Рамхеля, а со вкусом, полной мерой: проник сквозь одежду и плоть и выпил душу…
Ветер, который был живым, не знал жалости. Чужая боль лишь усилила его собственное безумие. Он не стал убивать Рамхеля, он бросил его вниз, и на мгновение сыну Рихарта показалось, что он и вправду научился летать – когда камень донжона исчез перед ним, превратившись в бушующее пыльное крошево…
Стражник, не смотря на все свои переживания, умер быстро. Семье Руадье повезло куда меньше.
Удар неслыханной силы сотряс замок, обрушив в столовой прямо на обеденный стол огромную люстру, доселе неколебимо парившую под потолком – ее свечи зажигали в особо торжественных случаях, в обычной жизни предпочитая обходиться канделябрами или подсвечниками. Слуги, в этот момент находившиеся на ногах, попадали на пол, опрокинулось кресло виконтессы, но Рихарт, оказавшийся расторопнее даже своего младшего сына, успел ухватиться за край громоздкого обеденного стола, занимавшего едва ли не треть всего помещения. Так – с полусогнутыми коленями, держась, в ожидании нового удара, за ножку стола – он встретился с ураганом, пришедшим за его душой. После удара клубы пыли заволокли комнату, но когда наргантинлэ вместе со своей ношей вступил через пролом в столовую, пыль исчезла, словно по мановению волшебной палочки. И хотя все свечи погасли и в зале воцарился полумрак, сумерки так и не сменились бездонной ночью – наргантинлэ хотел, чтобы эти люди видели, что он будет с ними делать.
Существо, которое, словно сверток с подарком, принесло с собой Рамхеля, мгновенно заполонило собой всю комнату. Рихарт увидел, как распространяются вдоль стен и потолочных балок полупрозрачные жгуты, поддерживая залу, не давая ей развалиться раньше времени. Воздух, которым они дышали, перестал быть просто невидимой субстанцией, отныне он был плотью этого существа, взиравшего на них со всех сторон, трогавшего их кожу и тут же отступавшего обратно. Пока еще отступавшего…
Рамхель Руадье был поставлен на ноги, а с его рук и ног ветер убрал оковы. «Кажется, с мальчиком ничего не случилось… – подумал виконт, которому в первый миг взгляд сына напомнил взгляд бездушной куклы. – У него шок, но это пройдет…»
Он хотел броситься к сыну, обнять, убедиться, что тот и в самом деле цел – потому что все-таки было неизвестно, причинил ли демон ему какой-то вред или же нет, но каменный пол между ним и Рамхелем разорвался, взметнувшись вверх фонтаном обломков – как будто бич опустился на пуховую подушку, одним ударом выпотрошив ее и развеяв по воздуху ее содержимое. Рихарт отшатнулся назад.
Еще мгновение ветер кружил по комнате беспокойным зверем, а затем – по-прежнему, впрочем, оставаясь везде – сконцентрировался справа от Рамхеля, став сумеречным маревом, расплывчатой человекоподобной фигурой, сотканной из воздуха и тьмы.
И тогда ветер заговорил:
– Руадье… – прошептал ветер, и хотя это был именно шепот, его нельзя было не услышать, он прозвучал сразу во всей комнате, он прогремел громом в ушах Рихарта. Виконт понял, что пришелец обращается именно к нему, он чувствовал на себе его внимание – горячее и пылающее, как огонь геенны, и отстраненно-любопытное, подобно взгляду безумцев, не видящих то, что находится у них перед глазами. – Руадье, я пришел заставить тебя заплатить.
– За что?!. – едва смог выдавить скованный ужасом старик.
– Ты не знаешь.
На мгновение безумная надежда – еще более безумная, чем взгляд пришельца – посетила разум Рихарта.
– Как же я могу платить за то, чего не знаю?]. – закричал он. – Может быть, это ошибка, и я даже не делал того, за что ты меня хочешь заставить расплачиваться!..
– Это не ошибка, – ответил ветер. – Хотя ты и вправду ничего не делал. Но это не имеет никакого значения.
– Послушайте, но… – услышал Рихарт голос жены – даже сейчас она пыталась оставаться спокойной и рассудительной. Их никто не мог спасти, а смерть стояла совсем рядом, и они могли полагаться только на себя, на свой разум, ибо как-то иначе бороться с этой одушевленной тьмой было невозможно. Надо разговорить это чудовище, узнать, что ему нужно и согласиться на все его требования, выиграть время…
С самого начала этот замысел был обречен. Чудовище явилось в их дом не требовать и не ставить условия, а мстить.
– Довольно, – перебил виконтессу ветер. – Довольно. Мы отвлеклись. Вернемся же к тому, с чего начали!
Чтобы вернуть их настроение в нужное русло, он убил всех слуг, находившихся в зале – слепил их в один безобразный комок мяса и помял в невидимых ладонях. И музыка, музыка!.. Он никогда не забывал о ней. Крики умирающих звучали еще очень долго, пронзительными нотами врастая в его невидимые руки, и срываясь с них снова – чтобы, подобно стрелам, пронзить разум живых.
…Руадье упал на колени, затыкая уши руками, ибо слышать эти вопли было невозможно, а не слышать их – нельзя. Чудовищная боль умирающих, застывшая в воздухе, ломала его, подминала под себя, еще несколько секунд – и он he выдержит, его мозг взорвется, не в силах перенести этого кошмара… Его жена опустилась на колени рядом с ним. Ей было не так плохо, как Рихарту – убийственная сила концерта, устроенного ветром, была направлена по большей своей части на виконта – но ей было лишь немногим легче. На колени она опустилась, чтобы помолиться Джордайсу, Властелину Света и Господину Добра. Не смотря на всю свою рассудочность, она искренне верила в могущество Пресветлого, в его бесконечное благо и милосердие. Эта вера была внушена ей еще в детстве. К тому же, никаким иным оружием против этого адского духа она все равно не располагала.
Услышав слова молитвы, Рихарт, как мог, присоединился к ней. Он твердил молитву как заклинание, как оберег от силы, крошившей его разум – и в какой-то момент ему показалось, что безумие отступает и становится тише… А потом он услышал то, что в этот момент ветер говорил его сыну.
– …Руадье, – шептал ветер, чей взгляд был теперь сосредоточен на Рамхеле. – Руадье, это твои родители, видишь их? Вы – все, кто находится в этом замке – умрете. Но ты можешь спасти своего отца… можешь… если хочешь, конечно.
И хотя воздух визжал, как женщина, выл, как голодный волк, и до сих пор был наполнен голосами умирающих слуг, которые на деле давно уже были превращены в кровавую слизь, растертую по каменному полу – Рихарт явственно услышал ответ Рамхеля:
– Да… Да!!! Как!?. Как?!!
Ветер вырвал кинжал из ножен Рихарта Руадье и послал его к Рамхелю, остановив перед самым лицом юноши.
И когда бесплотный голос ответил, Рихарт понял, что весь этот спектакль разыгрывается ради одного-единственного зрителя – его самого.
– Убей себя. Убей – и твой отец останется жить.
С ужасом юноша посмотрел на кинжал, висевший перед его лицом. Но потом взгляд Рамхеля прояснился. Если чудовищу что-то нужно от них, значит, можно поторговаться.
– Отпусти их всех – и, клянусь тебе, я…
– Ты не понял, – выдохнул ураган. – Я не торгуюсь. Смотри.
Он поднял вверх Генриету Руадье и сделал с ней то же самое, что со слугами – смял, перемешав плоть и одежду, а потом метнул этот кровавый комок о стену. Он не слушал криков виконта и обоих его сыновей, и, лишь закончив с виконтессой, снова обратил внимание на юношу.
– Ну, так как?
Слова бессильны передать весь ужас, в тот миг объявший душу Рамхеля. На его глазах чудовище убило его мать – и ненависть пополам с невыносимой болью заставили его забыть о собственном бессилии. Он схватил кинжал и с безумным криком бросился на смутную расплывчатую фигуру.
Небрежным щелчком ветер отбросил его обратно, затем – обездвижил нижнюю половину туловища. Рамхель мог сколько угодно кричать, плакать злыми слезами и размахивать руками – но сдвинуться с места он не мог. Когда Рамхель бросил в чудовище кинжал, а ветер во мгновение ока вернул его обратно, старший сын Рихарта завыл от отчаянья.
– Убийца! – закричал он. Из глаз его лились слезы. Ему было мучительно от того, что убийца видит его слабым и беспомощным, но перестать плакать он не мог.
Мама…
– Ты хочешь спасти своего отца? – шептал ветер ему со всех сторон. – Хочешь? Хочешь?..
– Как я могу быть уверенным, что ты выполнишь свое обещание? – Как ни старался Рамхель говорить спокойно, получалось это у него весьма и весьма плохо.
«Не надо, сынок! Не делай этого!» – хотел закричать Рихарт, но воздух вышел из его глотки беззвучно, и никто его не услышал – как будто он говорил под водой.
– Я не даю гарантий, – ответил ветер.
Рамхель увидел, как жгуты темного воздуха возносят над обеденным столом его младшего брата. Рамхель посмотрел на отца – человека, который двадцать лет был для него дороже всего на свете, перед которым он преклонялся и которого едва ли не боготворил… Посмотрел – и не вспомнил о тех четырех месяцах, когда Рихарт унижал его и смешивал с грязью. Посмотрел – и увидел, что Рихарт смотрит на него, пытается что-то сказать, но не может, и рот старика открывается беззвучно, как у рыбы, выброшенной на берег. Рамхель отвернулся и вонзил кинжал себе в сердце.
– Не-е-ет!!! – во всю мощь своих старческих легких возопил Рихарт Руадье. На этот раз ветер не стал препятствовать его крику.
– Ты воспитал отважного сына, Руадье, – прошептал он в уши виконту, когда у последнего сорвался голос. – Это был лучший из трех. Теперь пришла очередь заняться младшим.
Он произнес последнюю фразу достаточно громко – так, чтобы Арман, по-прежнему парящий под потолком, тоже услышал ее.
– Не надо! – закричал семнадцатилетний мальчишка, гордый и высокомерный, остроумный и честолюбивый не по годам, третий сын Рихарта, которого виконт считал своей копией. – Не надо, пожалуйста! Не надо!.. Я все сделаю, все, что вы хотите, только не убивайте меня!.. Пожалуйста!..
– Рихарт! – прогремел ветер, уже не в силах скрыть свое торжество. – Мне кажется, ты немного ошибся в своих сыновьях!
И убил младшего.
– Господи, нет! – Рихарт снова почувствовал, что падает. Почему он еще жив?! Почему проклятое сердце до сих пор бьется в груди старика? Лучше тысячу раз умереть, чем видеть все это… – Боже мой, мои мальчики!..
– Твои мальчики? – переспросил ураган его собственным голосом. – Но ведь Рамхель был мразью, трусом, изгоем. Разве ты не рад, что так удачно избавился от него?
– Убийца!.. – выл Рихарт, похожий сейчас на смертельно раненного зверя. – Будь ты проклят! Будь… проклят…
– Ты будешь жить, потому что Рамхель заплатил за тебя своей жизнью.
Ответ Рихарта уже не был осмысленным. Стоя на коленях, он бессмысленно раскачивался то взад, то вперед. Его сотрясали рыдания.
– Не думай, – сказал ветер, еще раз облетев разгромленную столовую. – Что Рамону повезло больше. Я встретил его первым. Вот уже три недели, как его душа принадлежит мне.
– Ложь!!!
– Нет, папа, – на этот раз чудовище заговорило голосом Рамона. – Он убил меня на корабле Ноэса Лаувельта. Меня и всех остальных тоже. Из-за какого-то греха, которого ты даже не помнишь… Зачем мы умерли, папа?..
– Не надо, – взмолился Руадье в пустоту. – Господи, пусть это окажется ложью!..
– У тебя будет еще много времени для разговоров со своим богом, – ответил ветер, и это было последнее, что он сказал несчастному старику. Он разрушил замок, разобрал его по камешку, а потом, как ребенок возводит на месте упавшей башни из деревянных кубиков что-то новое, сложил иную постройку – грандиозный склеп для семьи Рихарта Руадье. Все трупы, а также то, что от них осталось, он раскидал на равном расстоянии от виконта, которого поместил в центр своего сооружения.
Никаких выходов из этого склепа он не оставил.
Виконта он убивать не стал. Причитания обезумевшего старика ласкали его слух, когда он покинул остров и устремился дальше на север.
8
…Зима выдалась тяжелой. А какой ей еще быть, если в доме только две женщины – старуха и слепая, а мужчины и в помине нет? Еще осенью Элиза наглухо закрыла двойные ставни и, как могла, законопатила все щели – только толку от этого чуть, потому как дров все равно недостает. Дрова надо было заготовлять еще летом, но кто будет их колоть?
Старуха?
Слепая?
У них был небольшой запас – помог Вельган, соседский паренек, племянник Ульрики. Но ведь не станешь же с него требовать, чтобы наколол всю поленицу до верху! Сколько сделал – столько сделал, и на том спасибо, потому как за работу все равно отблагодарить нечем. Вот и расходовали они дрова экономно, только-только чтобы поесть приготовить. И тихо при этом молились Джордайсу, чтоб хоть как-нибудь со своим запасом до весны дотянуть. Тепло из большой комнаты выветривалось быстро, в доме было лишь немногим теплее, чем на улице. Подойди к окну, протяни к ставням ладонь, и возникнет чувство, как будто прикасаешься ко льду – а ладонь еще ой как от окна далеко находится… Стены так и излучают холод, по ногам гуляют сквозняки, еда – плохая, и с каждым днем все хуже: высушенные летом травы, а теперь размоченные в воде, квашеная капуста, пшеничные зерна, сырые луковицы со стойким запахом гнили… Десны у Элизы и Лии пока еще не кровоточили. Пока. Элиза знала, что хуже всего будет в конце зимы, когда не останется даже того гнилого лука, который они с осени хранили в подполе.
С тех пор, как начались холода, они спали в одной постели. Перемещаясь по дому, они кутались во что только могли, но одежды у них тоже оставалось не так уж много, слишком многое из старых запасов Элизы было продано, слишком многое износилось и представляло из себя просто ворох лохмотьев. Так что нет ничего удивительного в том, что к концу декабря Элиза слегла. Она сопротивлялась болезни как могла, но день ото дня ей становилось все хуже. Ее бил озноб, глаза слезились, а по телу разливалась предательская немощь. Через неделю после начала болезни она кашляла уже почти беспрерывно, стараясь не прислушиваться к булькающим звукам в груди и к собственному неровному сиплому дыханию. Любые громкие звуки раздражали ее, поэтому Лия ходила по дому тихо, как мышка. Чаще всего она неподвижно сидела на краю кровати или ложилась вместе с Элизой, пытаясь согреть ее теплом собственного тела.
Как-то в один из бесконечных зимних вечеров Элизе стало совсем плохо. Она бредила, называла незнакомые Лие имена вперемешку со знакомыми, утверждала, что постоянно слышит детский плач, а когда Лия говорила: «Это только ветер, мама», – Элиза не верила ей. Она то тряслась от холода так сильно, что Лия чувствовала, как дрожит кровать, то начинала метаться и сбрасывать с себя рваные одеяла, потому что ей становилось жарко. Задыхаясь, она бормотала: «Это он, это он», – но кто «он» Лия так и не смогла понять. Однажды Лие показалось, что среди всех прочих имен, которыми бредила Элиза, прозвучало одно, ей знакомое – но, с другой стороны, как раз этого имени Элиза ну никак не должна была знать. Это было имя молодого человека из ее сна.
Меранфоль.
Лия прислушалась – имя больше не повторилось, старуха уже говорила о чем-то другом, мешая бредовые видения и реальную жизнь, и, поразмышляв несколько секунд, Лия пришла к выводу, что то, что она «услышала», скорее всего, ей просто померещилось. Слишком часто за прошедшие месяцы она мысленно возвращалась к туманному Острову Локи и меланхоличному юноше, терзаемому какими-то невеселыми думами…
Но на самом-то деле было совершенно неважно, что там бормотала Элиза в горяченном бреду. Важно было другое: она умирала. Мама умирала. Надо было что-то делать, потому что сама собой приемная мать Лии поправиться не могла. У них в доме не было не то что каких-нибудь лекарств – не было ни хорошей еды, ни теплой одежды. Не было никого, кто мог бы обеспечить Элизе нормальный уход – потому что то, что в состоянии сделать Лия, явно недостаточно. Вот уже два дня она разжигала огонь в печке самостоятельно, потому что надо было поить Элизу хоть чем-нибудь теплым и что-то кушать самой, но каждый раз эта простая для зрячего человека процедура требовала от нее массу времени и усилий, и все равно каждый раз она обжигала себе руки.
Нет, так помочь Элизе она ничем не сможет. Надо просить помощи у соседей. Унижаться, умолять их на коленях, но только спасти маму…
Она бесшумно вышла из комнаты. Она ничего не одела… Потому что она и так была одета во все самое теплое, что было у них в доме. Поплотнее запахнулась в старенький тулупчик, распахнула дверь и вышла в сени. Там было холоднее, чем в доме, но ненамного. Главный сюрприз ждал Лию на улице.
На улице была метель.
Их дом стоял за пределами поселка. Приблизительно Лия представляла себе, в какую сторону надо идти, чтобы попасть к дому Ульрики – Элиза несколько раз водила ее с собой в поселок – но она не была уверена, что не ошибется и не пройдет мимо. Кое-как добралась до калитки. Куда дальше? Кажется, направо. Да, повернуть направо, немного пройти и повернуть налево. Летом было проще – от их дома в поселок уходила утоптанная дорожка. Сейчас дорожку замело снегом.
Лия не знала, сколько времени продолжались ее поиски. Она заблудилась – буквально в двух шагах от деревни. Она ведь могла опираться только на собственное чувство направления и ориентироваться только на различные неровности почвы вроде оврагов и возвышенностей. Но метель быстро сбила ее и увела в сторону. Там, где раньше был овраг, теперь мог лежать здоровенный сугроб, а там, где летом надо было через каждый шаг перепрыгивать через рытвины и канавки, теперь могло расстилаться ровное снежное поле. На том перекрестке, где надо было повернуть налево, стоял старый заброшенный колодец, которым пользовались разве что летом, да и то редко. Почти каждый раз, когда Элиза вела ее в деревню, Лия касалась колодца рукой (а один раз даже сильно ушибла руку). Сейчас она долго искала его, чтобы понять, где нужно будет повернуть, но так и не нашла. Колодец занесло снегом. Поэтому Лия прошла чуть дальше, чем следовало бы. Когда она повернула, ей показалось, что все-таки она сделала это там, где надо – как и положено, местность постепенно понижалась, по бокам дороги намело высокие сугробы – но почему «дорога» так и норовит еще больше отклониться вправо?.. Через пятнадцать минут Лия окончательно убедилась в том, что ошиблась. Она перелезла через сугроб и пошла туда, где, по ее мнению, должна была сейчас находиться деревня. Но она ошиблась снова. Ей казалось, что она движется черепашьим шагом, поскольку все время приходилось бороться с метелью и глубоким снегом, и она действительно шла очень медленно – но все же не так медленно, как полагала сама. Поэтому, когда она повернула, она снова прошла мимо деревни.