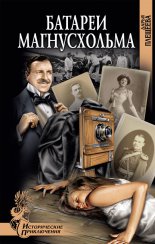Ураган Соколов Игорь

Что сильнее: телесные муки или страдания духа?.. Сначала Лие было холодно, потом холодно и страшно, а потом только холодно. Руки, обмотанные платком, давно закоченели, в валенки набился снег, лицо горело, лоб заледенел, по щекам стекала холодная вода, образовавшаяся из снежного крошева, которое вновь и вновь со злобой бросала пурга ей в лицо. Ей стало страшно, когда она поняла, что заблудилась, и, возможно, вскоре замерзнет, упадет без сил и станет одним из бесчисленных снежных холмиков, которые постоянно попадались ей на пути и сбивали с шага. Она пыталась кричать, но ее никто не услышал. Через некоторое время страх прошел, сменившись тупым оцепенением – она просто шла, шла, шла, без конца переставляя ноги, наливающиеся свинцовой тяжестью… Левая, правая, левая, правая… Она боялась чересчур отдалиться от деревни, и поэтому в выбранном направлении никогда не шла, что называется, «до упора». Пройдя немного в одну сторону и не обнаружив поселка, она поворачивала и шла в другую… Она ведь не знала, куда ей нужно идти.
И в результате кружила на одном и том же месте.
Она кричала, кричала до хрипоты – безуспешно. В другую погоду в поселке ее бы услышали – сначала собаки, а потом люди, но вьюга заглушала все звуки, ее песнь – торжественная, победная – звучала все громче, и Лия чувствовала, что скоро уже не сможет бороться с одолевавшей ее сонливостью…
Она упала в снег, и, попытавшись встать, упала снова. Она поняла, что подняться больше уже не сможет…
Элиза Хенброк задыхалась. Ее лицо блестело от пота, а губы просили: «Пить», но ласковые руки, даровавшие ей эту последнюю милость, куда-то исчезли, а вместо них остались лишь жажда, жар и неуспокоенная совесть.
Что сильнее: телесные муки или страдания духа?.. Последние сорок лет ей слишком часто снились кошмары; а иногда кошмары приходили и днем – и это было хуже всего. Вздох ветра – его голос, блеск во тьме – блеск его глаз, жуткое ощущение присутствия постороннего в совершенно пустой комнате – ощущение его присутствия… Поначалу она еще могла справляться со своим страхом, но с возрастом это становилось все сильнее, и приходило к ней все чаще. Если бы она не взяла на воспитание Лию, то сошла бы с ума. Лия спасла ее, потому что о ней надо было заботиться, и заботиться куда больше, чем о любом другом ребенке – и все эти заботы помогли Элизе сохранить рассудок. Но иногда, если Лии не было рядом, это возвращалось снова, и тогда темнота переставала быть темнотой, и становилась изможденным мальчиком лет двенадцати или тринадцати – таким, каким он никогда не был и никогда не будет – мальчиком с бледной кожей, по которой стекала холодная морская вода, с волосами, слипшимися от соли и взглядом, проникающим в самое сердце. Мальчик говорил: «Мама», и шел к ней, и тогда Элиза отступала, а потом без памяти оседала на пол, или начинала кричать, или бездумно, не замечая текущих по щекам слез, смотрела на ребенка с кожей утопленника до тех пор, пока, сделав еще шаг или два, он не растворялся в воздухе…
И так – сорок лет, затем – болезнь вперемешку с кошмарами, а затем, когда болезнь перейдет в смерть, и пробуждения уже никогда не будет, ее существование станет одиим-единственным бесконечным кошмарным сном… это будет называться адом. Адом без жаровен и чертей, без клещей и сковородок – к чему все это, если темные глаза мальчика с мокрой кожей заставляют ее мучиться куда сильнее?
Так что сильнее: телесные муки или страдания духа?
«…Господи, ну хоть кто-нибудь бы помог мне! Еще год, два, еще хотя бы несколько лет жизни, только бы отдалить этот кошмар, я ведь знаю, что ты никогда не простишь меня, не возьмешь в свое сияющее царство, или ты, всеблагой и всемилостивый, может быть и простишь, но мальчик никогда меня не отпустит Господи сделай хоть что-нибудь я не хочу видеть его глаза пошли мне не святого не чудотворца а простого знахаря или врача у меня нет денег чтобы заплатить им ну-что-Тебе-стоит взять немножко денег у Элизы молодой и богатой и заплатить им Ты-ведь-все-можешь я-не-хочу-умирать это-все-из-за-того-поганого-докторишкизря-я-ему-пла-тила-такие-деньги…»
9
…Карие глаза Иеронимуса Валонта внимательно разглядывали Элизу. Это была совсем не та женщина, которая три месяца назад пришла к нему на прием. Ни счастья, ни радости, ни ауры довольства, что сопровождает всех людей, уверенных в своем будущем, теперь не было и в помине. Какое-то глубокое несчастье поразило ее, разбило всю ее жизнь – и Элиза до сих пор так и не смогла оправиться от этого удара. Лекарь догадывался, что это могло быть за несчастье. Богатый любовник бросил. Сделал ребенка и бросил.
Обычное дело. Самое обычное дело в этом мире, где некоторые люди до сих пор почему-то воображают, что существует некая великая «высшая справедливость».
Впрочем, личные проблемы Элизы Хенброк касались магистра медицины Иеронимуса Валонта в самую последнюю очередь. Кроме только одной проблемы – проблемы здоровья Элизы. За это Иеронимусу Валонту платили деньги, и в этом деле он был готов помочь ей, как мог.
– Ну-с, как мы себя сегодня чувствуем? – бодреньким голосом спросил он, присаживаясь на стул возле ее кровати.
Элиза – бледная, со слезящимися глазами, распухшим носом, с ног до головы укутанная пледами и одеялами – слабо кивнула. Закашлялась, торопливо приложила к губам шелковый платочек. Когда она платочек от губ отняла, доктор успел увидеть сгусток беловатой слизи, мокрым пятном расползавшийся по тонкой ткани. Потом Элиза торопливо платочек свернула и сунула под подушку: пусть даже и доктор, все равно неудобно.
Когда Элиза возвращалась в город, она думала о Эксферде, о Терейше, о своей несчастной любви, о разбитой жизни – о чем угодно, но только не о своих сиюминутных удобствах. Ехала она хотя и в закрытых, но насквозь продуваемых повозках, а пару раз – в обычных крестьянских телегах, спала где придется и как придется – и вот результат.
– Спасибо, доктор. Хорошо.
«Любопытно, – подумал Иеронимус Валонт. – Зачем она врет? «Хорошо»! Как же! Я даже отсюда чувствую, как она горит. Интересно, это что у нее, гордость такая своеобразная? Или деньги кончились?.. Плохо, если второе… Плохо… Хотя непохоже – вон до сих пор в каком доме живет! В чем же тогда дело, а?..»
Он потрогал лоб Элизы, заставил открыть рот и заглянул в него, приложил коротенькую медную трубочку широким концом к ее груди, а тонкий запихал себе в ухо и заставил Элизу некоторое время глубоко дышать. Потом задал несколько вопросов, фильтруя для себя ответы Элизы, так как было очевидно, что по некоторым, ей одной известным причинам, она во что бы то ни стало стремится приукрасить правду. Потом провел еще пару простеньких медицинских ритуалов – из числа тех, которые используются врачами для предварительного осмотра больных. Хотя ему и так уже все было ясно. Ему все было ясно еще во время первого визита. Но надо было потянуть время, создать некую видимость деятельности, убедить Элизу в собственной необходимости и незаменимости.
Иеронимус Валонт был молодым врачом. Ему необходимо было выглядеть респектабельным, солидным и независимым, подобно его более старшим коллегам – а вот денег на солидность и респектабельность у него еще не было. Потому он и крутился, как только мог. Старался создать хотя бы видимость оных положительных достоинств.
– Так-с, – сказал он, доставая из сумки какие-то крохотные сверточки. – Вот эти вот порошки. Три раза в день. Да-с… Капли у нас еще есть?
– Да, доктор. Я все делаю, как вы велели.
– Ну, вот и правильно, голубушка. Недельки две еще полежите, а там и видно будет…
– Две недели?!.
– Да, да. Две недели, никак не меньше…
– А нельзя ли побыстрее? – Элиза смотрела на него почти умоляюще, но Иеронимус Валонт только огорченно руками развел.
– Тут уж ничего не поделаешь. Значит так. Вставать старайтесь поменьше, и уж тем более из дому, пока не поправитесь, не выходите… Две недели всего. Не переживайте так, – он ободряюще похлопал ее по руке. – Это не так уж много. Пролетят – сами не заметите… Я ведь все-таки не волшебник.
Элиза убрала руку.
– Конечно, – тихо сказала она, отворачиваясь. – Лучше бы я к знахарке обратилась. Любая знахарка вмиг бы эту порчу сняла.
Магистру медицины Иеронимусу Валонту захотелось ударить Элизу чем-нибудь тяжелым, наорать на нее и наговорить ей кучу гадостей, но он ничего такого не сделал. Печальное состояние собственного кошелька удержало его от этого, более чем опрометчивого, поступка.
– Ну вот, опять вы за свое, – сказал он тоном доброго папочки, вынужденного изобразить некоторую строгость по отношению к своему ненаглядному, но донельзя избалованному чаду. – Опять вы об этих предрассудках. Никто на вас порчу не наводил, это типичное…
– Нет, наводил!.. – процедила Элиза, поворачиваясь обратно. Валонт увидел теперь, почему она отвернулась – она плакала, и не хотела, чтобы он это видел. – Наводил! Я вам рассказывала про ту старуху… Это она виновата!..
Иеронимус Валонт уже слышал эту историю. В какой-то безызвестной деревушке нищая старуха подошла к Элизе и стала выпрашивать милостыню. Элиза ей ничего не дала. Старуха, вцепившись в рукав дорогой Элизиной шубки, со слезами на глазах, принялась умолять ее именем Пресветлого Джордайса… Видать, с утра уже набралась, старая грымза, а опохмелиться не на что было… Элиза, естественно, ей снова отказала…
– Она и выглядела точно так же, как я сейчас!.. – настойчиво продолжала Элиза доказывать свою правоту. – И глаза слезились, и горячая была, как печка, и… и все остальное!.. Всю шубку мне заплевала, уродина… Вцепилась так в руку, а сама говорит – умираю! Вот с нее-то ко мне вся порча и перешла!.. Поверьте, доктор, нехорошая эта была старуха!
Доктор Иеронимус Валонт тяжело вздохнул.
– Не болтайте ерунды, – сказал он строго.
Элиза прикрыла глаза… Перед ней так и стояло лицо той старухи – больной, изможденной, умирающей…
– …Вам надо не мучить себя всякой чепухой, а думать о своем ребенке, – продолжал Иеронимус Валонт. – И молиться Джордайсу, чтобы роды прошли без осложнений. Не вовремя вы заболели, голубушка, прямо скажем, не вовремя… И куда вас только в такую холодину понесло?..
Элиза вытерла слезы.
– Господин доктор, – сказала она, твердо глядя ему в глаза. – Я хочу избавиться от ребенка. Я заплачу.
– Ну что вы такое говорите, Элиза… – Иеронимус нервно приподнялся со стула. – Полежите немного, успокойтесь, и эта блажь у вас из головы выйдет…
– Это не блажь. Я не хочу ребенка. Я заплачу вам. Много.
Несколько секунд Иеронимус Валонт продолжал стоя рассматривать свою пациентку.
– Во время беременности, – сказал он как можно мягче, – у женщин часто случаются сильные перепады настроения. В этом нет ничего странного, это естественный процесс. В вашем же случае все осложнено вдобавок еще и болезнью. Возможно, сейчас вы пребываете в апатии, все вам безразлично, а предстоящие заботы о ребенке воспринимаются как обременительные тяготы… Уверяю вас, это только временное явление. Вы скоро поправитесь, потом будут роды, а когда вы возьмете ребенка – своего ребенка – в первый раз на руки и станете кормить его, все эти глупости мигом вылетят у вас из головы. Вы поймете, какое счастье вы обрели, какое…
– Оставьте, – сказала Элиза. – Я все уже решила. И если вы не можете помочь мне, я найду другого доктора. Или знахарку.
Иеронимус Валонт обессилено опустился в кресло и несколько минут молчал.
– Хорошо, – вздохнул он наконец. – Мы с вами еще вернемся к этому разговору. Но пока вы не поправились, даже и не думайте о всяких «средствах» – и уж тем более не обращайтесь к знахаркам. Это может убить вас.
Пройдет пятнадцать дней, и Элиза снова заговорит о том, чтобы вытравить плод. За это время Элиза успеет позабыть лицо отвратительной старухи, вымаливавшей у нее подаяние – лицо, которое поначалу показалось ей таким знакомым… Пугающе знакомым. Элиза забудет попрошайку, но с тех пор, не отдавая себе в этом отчета, начнет сторониться зеркал и отражений, где ее будет поджидать женщина, с каждым годом все более и более походящая на старую нищенку…
За пятнадцать дней Элиза почти поправится. Почти – потому что не смотря на чудодейственные снадобья доктора Валонта, какая-то часть болезни останется в ней навсегда, и время от времени будет давать о себе знать. Пока Элиза будет молода, частые простуды не обеспокоят ее, ее молодой организм будет справляться с ними самостоятельно, и потому она не посчитает их чем-то значительным или опасным. Но чем дальше, тем сильнее станет до поры затаившаяся в ней болезнь, и через десять, через двадцать лет запросто отмахнуться от очередной простуды Элиза уже не сможет.
…По прошествии двух недель ее намерение избавиться от ребенка Эксферда осталось по-прежнему твердым. Доктор Иеронимус Валонт предпринял несколько попыток переубедить ее – впрочем, довольно вялых попыток. Исполнив таким образом свой нравственный долг, он дал Элизе «средство», предупредив, что она рискует своим здоровьем, принимая данное снадобье – слишком много времени уже прошло, слишком поздно Элиза обратилась к нему с этой просьбой. Но и последнее предупреждение не поколебало решимости бывшей любовницы Эксферда Леншальского. Она приняла снадобье, легла в кровать и стала дожидаться требуемого эффекта. К вечеру у нее начались спазмы, а через несколько часов ей стало так плохо, как не было даже во время предыдущей болезни. Она впала в беспамятство, и громко стонала – а конвульсии продолжали сотрясать ее. Ее тошнило и рвало, хотя желудок Элизы был пуст с самого утра. Владелец дома, напуганный ее состоянием, послал слугу за Иеронимусом Валонтом. Может быть, это спасло Элизе жизнь. Может быть, нет – поскольку лекарь почти ничем не помог ей, разве что запретил применять по отношению к Элизе доморощенные способы лечения.
Так или иначе, Элиза выжила. И ребенок ее – тоже. «Средство» не подействовало. Ей не удалось вытравить плод.
Она еще три или четыре недели не вставала с кровати. По настоянию лекаря ее кормили чуть ли не насильно – сама Элиза была настолько измучена и духовно и физически, что отказывалась от любой еды, которую ей предлагали. Она хотела только спать. Ни о чем не думать, не двигаться и не видеть, как с каждым новым днем увеличивается ее живот. То, что должно было стать ее гордостью, превратилось для нее в пытку. Есть женщины, для которых дети – это все, женщины, которые в девичестве мечтают не столько о муже, сколько о детях, и с радостью готовы отдать всю себя, все свое время, все внимание и весь огромный запас терпения и любви заботам о собственном потомстве. Материнская любовь. Материнский инстинкт. Элиза была другой. Нет, я не хочу сказать, что она была напрочь лишена того чувства, которое человечество во все времена полагало «самым святым» и «самым возвышенным». Нет женщины, которая была бы совершенно лишена этого чувства. Элиза была готова заботиться о своих детях, отдать им все свое время, внимание и т. п… лет этак через семь. Или через пять. Или даже через год или два, но только при условии, что жить она будет в Леншальском замке, в окружении многочисленных слуг и любящего мужа, каждую неделю ездить на бал, наслаждаться обществом почтительных поклонников (почтительных, галантных и безупречно вежливых – а вовсе не таких как Рихарт Руадье!), а о ребенке станут заботиться бесчисленные няньки, мамки, бабки, воспитатели и учителя.
Но тащить это ярмо самой? В одиночестве? Не имея ни малейшего представления о том, как жить и что делать, когда закончатся деньги, оставленные графом Эксфердом? Она знала, что доктор Иеронимус Валонт прав: она рано или поздно полюбит этого ребенка. Полюбит – если смирится с своей участью, если позволит своим чувствам, своим инстинктам владеть собой. Она будет жить в нищете, но зато у нее будет маленький источник бесконечных забот и радостей.
Как мило.
У нее на руках будет человечек (свой собственный маленький живой человечек), который никогда не предаст ее… по крайней мере, до тех пор, пока во всем будет от нее зависеть. Ей будет трудно, ей будет очень тяжело, но в нем она будет искать – и находить – утешение, и бесконечное счастье следовать своему материнскому предназначению, своему материнскому долгу. Он даст ей силу – потому что, держа на руках своего ребенка, она почувствует, что в этом мире есть что-то слабее ее самой, что-то, зависящее только от нее лишь, и это знание наделит ее уверенностью в себе. Ребенок станет преградой между ней и пустотой, с рождения окружающей каждого из живущих.
Да, она знала: это возможно. Но, к своему несчастью, она была слишком сильна, чтобы сразу и безоговорочно поддаться своему инстинкту, и слишком умна, чтобы не понимать, что ее ждет в самом ближайшем будущем. А ждет ее нищета и торговля собственным телом: надо же будет хоть как-то кормиться. Правда, этого можно избежать. Есть даже целых две возможности избежать участи уличной проститутки. Первая: найти мужа. Все равно какого – старого, хромого, глухого, кривого… Какого угодно. Главное, чтобы он согласился заботиться о ней и ее ребенке. Выйти замуж и распроститься со всеми девичьими мечтами о любви, о богатстве и высоком положении. Прожить такую же жизнь, как прожили до нее тысячи женщин: зациклившись на своем маленьком домашнем мирочке и тихо моля Джордайса о том, чтобы вечером муж не пропил все то, что успел заработать днем. С утра до позднего вечера тянуть на себе все хозяйство и воспитание детей, и каждую ночь ложиться в кровать с нелюбимым человеком. Это будет либо старик, либо дурак. Элиза знала, что хорошие мужья на дороге не валяются. Особенно в ее положении. Ей придется цепляться за любую возможность выскочить замуж, поскольку толпы поклонников не спешили обивать пороги ее дома. Кому она нужна, с ребенком на руках? Только старику или идиоту.
Стоило ли ради этого ссориться с родителями, уходить от Карэна – от нежного, любящего Карэна?..
Была еще и вторая возможность: вернуться домой, повалиться в ноги батюшке и матушке и на коленях вымолить у них прощение. Но стоило Элизе представить, что последует за ее возвращением… Может быть, родители и простят. Может быть. А может быть – вышвырнут из дома, но если этого все-таки не произойдет… Карэн, конечно, теперь на ней не женится. О ней станет сплетничать вся деревня, и двери отцовского дома, конечно же, вымажут дегтем. Ей припомнят все ее прегрешения – и действительные, и мнимые, а бывшие соперницы вместе с бывшими подругами с удовольствием смешают ее с грязью. Вечные насмешки, косые взгляды, сплетни, пересуды, презрение или снисходительное сочувствие…
Доченька, ты ведь не хочешь быть похожа на Элизу Хенброк, правда?
Элиза была слишком горда для того, чтобы вернуться домой и терпеливо снести все то, что будет там ее ждать.
…Она начала есть, когда у нее стали крошиться зубы. Ребенок вытягивал из нее все соки. Она поняла, что посадив себя на добровольную голодовку, ничего не добьется – ребенок возьмет все, что ему нужно, из ее собственного организма. А с чем она тогда останется? С безубым ртом? С кожей, натянутой на кости? Красота – это последнее, чем она еще располагала, в считанные месяцы лишившись и семьи, и богатого любовника, и какой бы то ни было определенности в собственном будущем.
Расплачиваясь с доктором Иеронимусом (фактически, это были ее последние деньги), она спросила, где находится Дом Шамраля и как можно отыскать его. Она чрезвычайно удивила магистра своим вопросом.
– Голубушка, – потянул Иеронимус Валонт. – Вам вовсе незачем туда ехать. Здесь, в городе, имеется множество повитух, превосходно знающих свое дело. Если угодно, я могу продиктовать вам их адреса. Дом Шамраля – приют для нищенок и проституток. Это совершенно неподходящее место для честной женщины вроде вас. К тому же, приют находится далеко отсюда, а вам сейчас лучше не…
– Уважаемый господин Валонт, – перебила его Элиза. – Я не прошу вас давать мне советы. Я прошу вас только сказать, где находится Дом Шамраля и объяснить, как мне туда лучше добраться… Или, – тут она позволила себе выплеснуть всю ненависть и все презрение, которое испытывала к этому человеку. – За эти сведения мне тоже нужно будет вам заплатить? Ну, говорите, – сколько?
Иеронимус Валонт смешался. За свои услуги он брал с Элизы плату по высшему тарифу, полагая ее женщиной обеспеченной и в деньгах не нуждающейся – как раз такой, которая без ущерба для себя может немного поправить его, Иеронимуса Валонта, незавидное финансовое положение. Однако теперь он задумался. Действительно ли она является богатой госпожой, обладающей значительным капиталом и постоянным источником дохода, или же он выманил у нее последние ее деньги? Но нет, нет… Лучше об этом не задумываться. Раз Элиза платила – значит, она могла себе это позволить.
– Дом Шамраля, – начал он свои объяснения, – или, как его еще называют, Приют Шамраля, находится на берегу моря, примерно в трех-четырех днях пути отсюда. Если вы двинетесь по Восточному Тракту, то…
Элиза внимательно его выслушала. Она не умела ни читать, не писать, а поэтому была вынуждена полагаться только на свою память. Она постаралась не упустить ни одного слова из того, что говорил Иеронимус Валонт. В путь она отправится не скоро, через два-три месяца, когда подойдут сроки. Кто знает, что изменится за это время? Быть может, у нее не хватит решимости сделать то, что она задумала. Быть может, все будет с точностью до наоборот. Элиза не хотела сейчас об этом думать.
Дом Шамраля – приют для беременных нищенок и проституток. А также для женщин, по каким-либо причинам не желавших рожать у себя дома. Приют, как явствовало из названия, был создан человеком по имени Шамраль (по происхождению – презренным хасседом) и являлся мероприятием абсолютно благотворительным. С женщин, которые приходили в приют (многие – за несколько месяцев до родов), не взималось за проживание ни единого гроша – что, конечно же, не могло не вызвать самых диких слухов и пересудов в среде людей добропорядочных и благонадежных. Благотворительность? Хмм… Благотворительность в отношении «падших» женщин? Хмм и еще раз хмм… Благотворительность в отношении падших женщин со стороны человека, происходящего из племени хасседов, чья анекдотическая жадность всегда была притчей во языцех? За этим явно что-то кроется. Явно. В чем только не подозревали Шамраля: и в торговле роженицами, и в торговле детьми и отдельными частями их тел, и в извращенной любви к женщинам, находящихся на последних месяцах беременности, и в поощрении проституции… Единственными, кто поминал хасседа Шамраля добрым словом, были те самые женщины, которые покидали его приют. Для многих из них недорогая, но обильная, хорошая и вкусная еда, подаваемая четыре раза в день, чистые простыни, и заботливый уход, которым их окружали в приюте, были чем-то заоблачным, нереальным, фантастичным, не из этой жизни.
Тогда, в конце декабря, Элиза всего этого еще не знала. Как и большинство людей на острове, она полагала Дом Шамраля грязным, нечестивым местом. В то же время она была достаточно умна, чтобы понимать, что все самые дикие слухи о приюте почти наверняка являются выдумкой или откровенным враньем. Хотя бы уж потому, что Эксферд Леншальский, не смотря на все его, мягко говоря, недостатки, никогда бы не позволил, чтобы на его острове кто-то торговал детьми. Скорее всего, Приют Шамраля – какой-нибудь грязный барак, выстроенный грязным хасседом во искупление своих грязных хасседских грехов, где никому до никого нет дела, куда можно придти, произвести на свет божий свое чадо и уйти – и никто не поинтересуется ни твоей судьбой, ни дальнейшей судьбой твоего ребенка…
Свою ошибку она поняла лишь в начале марта. В теплом крытом фургоне Элиза добралась до конца Восточного Тракта. Это были глухие места – каменистые, безлюдные. От Тракта в нужную ей сторону уходила наезженная дорога, но Элиза постеснялась попросить возницу довести ее до самого приюта. Впрочем, возница – крепко сбитый мужичок с окладистой бородой – наверняка и сам все понял: женщина на сносях, просит остановить фургон на перекрестке, откуда прямая дорожка к приюту… Понял – но не выказал никакого желания помочь ей, не шевельнулся, чтобы удержать ее и не предложил довезти до приюта. Стараясь не смотреть на Элизу, он молча принял плату, стеганул лошадей и укатил дальше. А Элиза поплелась к Дому Шамраля.
Приют и в самом деле располагался на краю острова – там, вдалеке от людских глаз, не видя его и не слыша, общественная нравственность была готова, хотя все же и с немалым трудом, терпеть это «гнездо разврата». Измотанная тяжелой дорогой, Элиза нашла приют лишь к вечеру. Она замерзла, устала и внутренне уже была готова к тому, что в приют ее не пустят, или потребуют за это умопомрачительные деньги, или к тому же окажется, что приют вообще закрыли два месяца назад. Или к какой-нибудь другой злой выходке судьбы. Но все вышло совсем иначе. Дом Шамраля… Это и в самом деле оказался именно дом – чистенький, трехэтажный, с черепичной крышей, окруженный ухоженным садиком и низкой кирпичной оградой… Конечно же, Элизу расспрашивали, кто она и откуда. Не слишком навязчиво, и не преследуя при этом каких-либо особых целей. Ей просто сочувствовали, как сочувствовали каждой женщине, приходившей в Приют Шамраля. Да и то сказать, значительная часть прислуги, работавшей в родильном доме, состояла из тех женщин, которые когда-то пришли сюда с большим животом, гонимые нищетой или общественным презрением. Здесь оставались работать те, чьи дети умирали во время родов или вскоре после них. Заработная плата была мизерной, фактически они работали за кров и еду, но… но за пределами приюта у них вообще не было средств к существованию. Они были готовы молиться на Шамраля за эту работу.
Внимание и забота, которыми с первых же дней окружили Элизу, оказали противоположный эффект: она насторожилась и замкнулась в себе. Исходившие от окружающих сочувствие и готовность понять и помочь были искренними, и это-то ее и пугало, поскольку она сама быть искренней с ними не собиралась. В последние месяцы мир был жесток к ней – что ж, она достаточно сильна, чтобы принять эту жестокость как должное, посчитать то, что произошло с ней, суровым уроком, и, ожесточив свое сердце, сыграть с окружающим миром по новым правилам. Уж во второй-то раз она свою удачу так просто не упустит. И добьется своего любой ценой. Любой.
И вот теперь, в начале ее новой жизни, когда она только-только обрела нужное состояние духа для того, чтобы выполнить то, что задумала, окружающий мир являет ей не новые шипы и когти, не возводит на ее пути новых преград – нет, ей предлагают тепло и сочувствие, и она ощущает, как начинает подтаивать лед ее собственного сердца Разве тем трем женщинам, что живут в одной комнате вместе с Элизой, легче, чем ей? Вот Мари, изнасилованная собственным братом и вышвырнутая родителями на улицу, к своему мнимому любовнику. «Ступай к тому, от кого нагуляла», – было ей сказано после того, как она отказалась назвать имя отца ребенка. Вот Рида, милая, добрая Рида с белой, как молоко, кожей, гулящая девка, подрабатывавшая в придорожной таверне и даже не знающая имени отца своего ребенка. На этот счет Рида строит самые разные предположения, но все же по преимуществу подозревает «того, беленького, с которым мы веселились три ночи подряд». Вот Ада, престарелая нищенка (и кто только на нее польстился?), сквернословящая через каждое слово и постоянно прячущая сухари под подушку: там у нее свой «запасец»… Разве им – легче? Им некуда идти, как и Элизе, но у нее есть еще несколько дорогих платьев и золотых безделушек, и она знает, как будет устраивать свою жизнь, когда выйдет отсюда, а эти женщины, хотя подчас и пытаются изобрести какие-то планы на будущее, надеются, в основном, только на то, что «Господь их не оставит».
Далеко-далеко отсюда, на другом острове, в другой жизни, ей было сделано некое предложение, которое она тогда отвергла. Но человек, знатный человек, которой ей сие предложение сделал, оставил за ней возможность вернуться. И теперь она этой возможностью собиралась воспользоваться. Ту, прошлую Элизу, наивную девочку, которой давно уже нет, вывернуло бы от одной мысли лечь в постель с человеком, который ей противен. А она, Элиза нынешняя, думает об этом совершенно спокойно, как о вопросе уже решенном. Рихарт Руадье ей больше не представляется отвратительным самцом. Он ей безразличен. Но она привлекает его. И она ляжет с ним в одну постель, и будет любить его, и выполнять все его прихоти, потому что он – ее последний призрачный шанс вырваться, наконец, из этой нищеты, избавиться от вечного страха перед завтрашним днем и навсегда перестать унижаться и экономить каждый грош… Она завоюет его. Может быть, помимо плохих, она откроет в нем и какие-то хорошие качества, и научится симпатизировать ему. Не любить. Любить она уже никогда и никого не сможет. Но она будет изображать самую огненную страсть, она вцепится в Рихарта, как кошка, и не отпустит его так просто, как Эксферда. У нее уже есть горький опыт. Она теперь знает, как надо себя вести, а как – не надо, она не будет раздражаться по пустякам, она не будет изводить любовника своими капризами, нет, она знает, что ей нужно и будет твердо идти к своей цели… Не беда, если Рихарт не захочет на ней жениться. Главное, чтобы он, хотя бы несколько раз, вывел ее в свет. Она уже не станет с таким пренебрежением, как раньше, относиться к своим потенциальным ухажерам. Она найдет себе подходящего – пусть не такого красивого, как Эксферд, и не такого знатного дворянина. И выйдет за него замуж.
Только вот… Как быть с ребенком? Возможно, ради ее красоты Рихарт и возьмет когда-то отвергнувшую его «крестьяночку» себе в любовницы. Но если ее будет по рукам и ногам связывать младенец, то вряд ли она сможет на что-то рассчитывать. Какие, к черту, балы и светские вечеринки, если ей нельзя будет ни на шаг отойти от кричащего кусочка розовой плоти? Какая влюбленность, если большую часть времени она будет проводить не с виконтом, а с сыном его друга? Если она придет к Рихарту с младенцем на руках, он будет воспринимать ее не как любовницу, а как попрошайку. Он поймет, что она зависит от его милости, поймет, для чего она пришла к нему. II будет относиться к ней соответственно.
Все рушилось из-за крохотного существа, которое каждый день росло в ней. Вот уже несколько месяцев она ненавидела своего еще не рожденного ребенка – с тех пор, как поняла, что он является единственным препятствием на выбранном ею пути. Ненавистью она подпитывала свое решение, а оправдывала оное решение жизненной необходимостью.
Зачем ему жить – в нищете?
Зачем ему жить – если собственная мать станет ненавидеть его, причину крушения своих последних надежд?
Зачем жить двум несчастным нищим, если один из них (точнее – одна) может обрести счастье – пусть даже и ценой жизни другого?
Однажды у нее спросили: как ты назовешь своего будущего ребенка? Она ответила: пока не знаю, но потом у нее спросили об этом во второй и третий раз: ну, что, не решила еще? и она ответила, лишь бы ответить: Меранфоль. Она назвала первое имя, которое пришло ей в голову. Так звали ее деда, отца ее матери.
Ее отчужденность от остальных женщин, живших в Доме Шамраля, не могла остаться незамеченной. По отношению к ней стали проявлять еще большее внимание и заботу, полагая, что в недавнем прошлом Элизы было какое-то сильное потрясение, которое заставило ее замкнуться в себе. Точно так же, как она сейчас, в первые два месяца пребывания в приюте вела себя Мари: но тепло и ласка все-таки взяли свое, и девушка покинула свое мрачное внутреннее узилище, в котором пребывала более полугода. С Элизой этого не произошло. Она никого не подпускала к себе близко, хотя со всеми старалась быть безукоризненно вежливой. Это было не всегда просто: роженицы в приюте были всякие, но почти все – из низов общества, и хотя добросовестная прислуга и пыталась сгладить все конфликты, которые время от времени вспыхивали между ними, удавалось это далеко не всегда. Крахмальное белье и плач новорожденных, улыбки будущих матерей и крики рожениц, неслышные шаги Альгины, юродивой лунатички из соседней комнаты, сытные обеды и завтраки, и постоянно – молоко, сметана, молочные продукты, яичная скорлупа в меду… Элиза старалась не пить молока. Все равно она не будет кормить грудью своего ребенка. Молоко она меняла на яичную скорлупу и творог. Зубы у нее не успели сильно испортиться, а употребляя эту пищу, она берегла их от дальнейшего разрушения.
…Простыни, мокрые из-за отошедших околоплодных вод, тихий сон новорожденных, застывшие лица женщин, чьи дети родились мертвыми, деловитые советы, начинающие сыпаться со всех сторон на каждую новую молодую маму, лихорадочная суета, когда какое-нибудь чадо собиралось появиться на свет слишком рано, наплевав на все прогнозы и расписания, отвращение к мясу и жирной пище, чьи-то голоса, чьи-то шаги, чьи-то движения… Дни и ночи сливались перед глазами Элизы в одно, ночи были заполнены бредом, а дни – игрой на пределе сил: да, у меня все нормально, да, все хорошо, да, спасибо, не надо. Она часто плакала во сне, но не помнила, почему. Все, что она выносила из своих снов – это воспоминания о кошмарах, это голоса, раздающиеся за дверью, голоса, шепчущие за окном, голоса, зовущие ее к себе, голоса, сливающиеся с шумом листьев и скрипом несмазанных петель, голоса, никогда не говорящие с ней внятно… Мозаика из обломков воспоминаний, совмещение реальности и кошмаров, бессонные ночи и дни, проведенные в полусне, чужие слова, чужие жесты – вот что останется в памяти Элизы от времени, проведенного в Доме Шамраля. Самих родов она не будет помнить. Следующая сцена, которая застынет в ее памяти, сцена, которую Элиза во что бы то ни стало будет стремиться забыть, но забыть никогда не сможет – морской берег. Высокие скалы, тучи, летящие по хмурому небу, подгоняемые злыми весенними ветрами. День? Ночь? Сумерки? Я не знаю. Ветер рвет из рук Элизы сверток, который она прижимает к себе. Она не слышит крика младенца. Ребенок спит? Или она просто на время разучилась воспринимать звуки? Но нет – она ведь по-прежнему слышит голос ветра, и сейчас – куда отчетливей, чем раньше.
Она подходит к краю скалы. Внизу пенится серо-зеленое море. Океан ревет, как бешеный зверь. Это время весенних бурь, время трубящих ветров, время штормов, крошащих в своих ладонях огромные корабли как старые, трухлявые поделки из щепок и бересты.
И впервые ей кажется, что голос ветров становится понятным.
«Если тебе это не нужно, – говорят ветра, – отдай нам. Ни в землю, ни в колодец, ни в огонь, ни в древесное дупло, ни в расщелину между камнями. Нам. Нам!..»
Но это ложь: ветра не умеют говорить. Тогда еще не умели. Она сама наделила их душой – сама, когда бросила своего сына вниз со скалы. Неуспокоенная душа Меранфоля нашла себе новое пристанище – в потоках воздуха, в тенях и темноте, во снах Элизы. Она так и не услышала его крика – даже когда он был еще жив, когда летел, кувыркаясь, вниз, в жадные рты морских волн – а, может быть, в оскаленные пасти прибрежных скал; она не видела, куда именно. Она смотрела на желтую полосу горизонта и думала: все кончено, я сделала это. Потом она повернулась, спустилась со скалы и пошла в город.
…Следующей ночью на восточное побережье Леншаля обрушилась невиданная по силе морская буря. Каким-то чудом Приют Шамраля уцелел, хотя и пострадал изрядно, но вот полудюжине рыбацких поселений повезло меньше – их начисто, вместе с местными жителями, смыли разгулявшиеся морские волны. Была безнадежно испорчена морская пристань – та самая, к которой четыре месяца назад подошло судно, перевозившее графа Эксферда и его молодую жену. Было вырвано с корнями несколько старых деревьев, испорчено с десяток мельниц, сорвано множество соломенных крыш, опрокинуто полсотни фургонов, снесено больше сотни нищенских лачуг – но людских жертв было не больше и не меньше, чем обычно случается при подобных стихийных бедствиях. Ту ночь Элиза провела на постоялом дворе, но заснуть ей удалось только к утру, потому что когда в твоей комнате от напора ветра с треском вылетают ставни и ветер начинает переворачивать мебель, раскидывать одежду по полу и рвать из рук одеяло, это не очень-то располагает ко спокойному сну. К утру неистовая стихия утихомирилась. Выспавшись, Элиза пошла дальше.
В городе она провела несколько недель – ей нужно было немного отдохнуть, привести себя в порядок и выяснить, как часто корабли с Леншаля отправляются в рейс на нужный ей остров. Как оказалось – часто. Через три недели, окончательно еще не оправившись от родов и всего, что было с ними связано, Элиза села на судно, следовавшее прямиком до Склервонса – основного порта во владениях Руадье. Изначально она собиралась провести в городе месяца два-три, но поняла, что не выдержит два-три месяца совершеннейшего безделья. Совесть не мучила ее, она просто не смогла бы столько времени усидеть на одном месте.
Во время плаванья она узнала, что порт расположен довольно далеко от резиденции виконтов Руадье – из Склервонса ей придется несколько дней добираться до замка. Поскольку корабль, огибая остров, пройдет совсем рядом с замком, Элиза попросила высадить ее именно в этом месте. Капитан согласился, и через несколько дней она сошла на дикий песчаный берег, а шлюпка с матросами, доставившими Элизу на остров, поплыла обратно. Почти сразу же после прибрежной полосы начинался лес – сначала сосновый, потом смешанный.
Ближе к вечеру Элиза вышла на наезженную дорогу, но засветло добраться до замка не успела, а потому решила заночевать в лесу, под каким-нибудь деревом. Однако для ночевок под открытым небом было еще слишком холодно (только-только начался апрель), она быстро продрогла и поняла, что все равно не сможет заснуть. И еще замерзнет вдобавок. Поэтому она встала и пошла дальше. Через час или даже меньше она наткнулась на заброшенную избушку, поблагодарила Джордайса за этот подарок судьбы, забралась на лавку и заснула. Утром ее разбудили громкие голоса за окном. Выглянув наружу, она увидела каких-то людей, одетых в зеленое (судя по всему – лесничих и егерей), и среди них – того, кого она искала. Рихарта Руадье. Очевидно, виконт выбрался на охоту. А, может быть, просто захотел прогуляться по своему лесу, подышать свежим весенним воздухом. Элиза подошла к нему…
Их объяснение было коротким и немногословным, и по окончании оного виконт отвел красавицу обратно в сторожку, в то время как егеря глумливо – или завистливо – пялились ему вслед. Далее у Элизы и Рихарта произошла интимная близость, во время которой Элиза убедилась, что все-таки поспешила: слишком мало времени прошло после родов, и заниматься любовью ей было больно. Но она постаралась не подать виду, что происходящее вызывает у нее какие-то неприятные ощущения. К тому же, ни малейшего возбуждения она не ощущала. Это была та часть в их взаимоотношениях, которую ей придется просто перетерпеть, ведь это не так уж обременительно – лежать внизу и ничего не делать… Нет, ну конечно же, она пыталась изобразить неземную страсть, и неизмеримое блаженство от потуг Рихарта Руадье, пытавшегося как-то расшевелить ее, но это у нее получалось плохо – хотя она сама об этом и не подозревала. Элиза не была профессиональной проституткой, то, что она сейчас делала – то есть отдавалась за деньги нелюбимому человеку – она делала впервые, и поэтому нет ничего удивительного в том, что Рихарт быстро разгадал ее обман. Он польстился на Элизу из-за ее искренней, по словам Эксферда, страстности, и теперь был разочарован. Он не раз видел и много лучшую игру, а вот более худшую ему доводилось встречать не так уж часто. Уже без всякого удовольствия закончив свои труды, он оделся, кинул на кровать золотую монету и вышел из сторожки. Сжимая в кулаке золото, Элиза последовала вслед за ним. Она смотрела, как он собирает своих людей, как садится на лошадь и уезжает – на охоту или по каким-то иным своим делам.
Она и понимала, что происходит, и не понимала. В ее душе звенела пустота. Все кончено.
Ее призрачный шанс и в самом деле оказался только призрачным. Рихарт удовлетворил свое любопытство. Она ему больше не интересна. Все рушилось, разваливалось, вода вытекала из решета, гибкая скользкая рыба удачи выпрыгивала из рук в тот самый миг, когда она наконец-то уверялась в том, что крепко держит ее за жабры, и не было ни добра, ни зла, ни глумливой усмешки на лице судьбы. Окружающий мир не жесток и не добр – ему просто нет никакого дела до наших несчастий, и ты никогда не унесешь больше того, что сможешь поднять…
10
– …Пресвятой Джордайс!
– Бедная девочка…
– Несите ее сюда, к огню.
– Где вы ее нашли?
– В поле. Она…
– Февла, ты поставила воду греться?
– Да.
– Ее надо раздеть и укутать чем-нибудь теплым… Гернут! Отойди, идиот! Не рви с нее валенки! Надо аккуратно, вот так… У нее же все ноги закоченели…
– Неплохие, кстати, ножки…
– Та-ак!.. Все мужчины – марш отсюда!.. Жан, это и тебя касается.
– Да, да, сейчас, мама… Я только хочу сказать, что когда я ее сюда нес, она все бормотала про свою старуху…
– Про Элизу-то?
– Ну, да…
– С ней-то что?
– Что со старухой, Жан? Окочурилась, что ли, бабка?
– Не знаю.
– Надо бы глянуть, что с ней.
– Правильно мыслишь, Гернут. Одевай шубу– и вперед.
– Батя, ну почему всегда я…
– Давай-давай, без разговоров.
– Там же метель…
– Быстро!
– Пусть лучше Жан сходит. Он все равно одетый.
– Тебе вмазать, что б понял?! Бегом!..
«Ну бычара же ты, батя, – влезая в валенки, зло подумал Гернут. – Как ни есть бычара…»
Хлопнув дверью, он выскочил из дома. Метель слегка поутихла. Сверху падали крупные хлопья снега. И по-прежнему не видно ни зги. Идти к сумасшедшей, а возможно, уже давно мертвой старухе у Гернута не было ни малейшего желания. Но выбора у него тоже не было, и он потащился сквозь снег к дому Элизы. Какого черта эта бабка живет так далеко?..
В это время в доме Кларина вокруг Лии женщины вовсю продолжали суетиться. По счастью, Жан, когда нашел ее, сразу же растер ей лицо и руки снегом и, была надежда, что худших последствий обморожения Лие удастся избежать.
Обнаружила девушку собака Жана и привела затем к ней своего хозяина. Он тащил Лию до дома более четверти мили, но не замаялся – даже вместе со всей одеждой девушка, которая по росту, если их поставить рядом, выходила чуть выше Жана, весила очень мало. Она была тощая, как спичка.
Когда Жан внес ее в дом, она все еще была без сознания, но тепло и хлопоты домашних Кларина скоро привели Лию в чувство. Она то всплывала на поверхность сознания, и начинала неразборчиво бормотать какие-то слова, то вновь погружалась в беспамятство. Затем у нее начался жар. Она металась в бреду, стонала: «Мама, мама…» – и успокоилась только тогда, когда Ринвен, жена Кларина, раз, наверное, в десятый повторила: «Тише, девочка, тише… С твоей мамой все будет в порядке. Мы об этом позаботимся. А ты спи».
И Лия уснула. И во сне к ней пришло видение.
Лучом света, оттолкнувшись от вязкой земной плоти… вздохом теплого летнего неба, возвращаясь в породившую вздох высоту… взглядом без глаз, смехом без губ и гортани, движением без мышц и костей, жестом без рук и пальцев… Лия устремилась вверх, в теплое синее летнее небо и, поцеловав на лету птицу, помчалась над морем. Времена года – как игральные карты: лето, зима, осень, весна… Вот – льдины плывут по серому океану, и горизонт затянут хмурой пеленой, вот – запах грозы в сладком воздухе, и на горизонте клубятся огромные черные тучи, вот – ослепительное солнце высвечивает море насквозь, делая его похожим на драгоценный аквамариновый камень, вот – печаль, и слезы неба, и крики птиц, стремящихся на юг… Как правило, Лия выбирала лето. Или весну. Не стала она делать исключений и на этот раз.
Она нырнула в океан, пронзив толщу вод подобно белому копью, брошенному херувимом с небес, и долго в глубине играла с рыбами и морскими гадами, щекотала брюхо дельфинам и дергала за плавники зубастых акул. Она нашла разбитый корабль, потерпевший крушение – очевидно, пиратский, если судить по тому количеству золота, которое содержалось в его трюмах. Лия рассыпала золото по морскому дну и некоторое время любовалась полученным узором, заставляя монеты сиять отраженным светом… Ее собственным светом. Потом она поднялась наверх, потому что океан потемнел, а ей захотелось узнать, куда пропало солнце.
…Она вынырнула в центре бури. Океан ревел, вздымая высокие, как горы, пенные валы. Лия рванулась ввысь, проникла за облака, улыбнулась вечному Солнцу, и уже хотела удалиться в какой-нибудь другой мир, потому что она предпочитала спокойную, солнечную погоду всем прочим погодам, как вдруг нечто в ревевшей под ее стопами буре привлекло к себе ее внимание. Она оглянулась, и, поскольку не могла, состоя из чистого движения и солнечного света, долго оставаться на одном месте, заскользила обратно. Почти сразу же она поняла, что в этой буре ей показалось странным. Там, в глубине морского шторма, она почувствовала присутствие Второго, который играл со стихиями так же, как ребенок со старыми вещами – передвигал их и сдвигал вместе, ставил друг на друга и переворачивал, попутно размышляя о том, что же из всего этого в результате его усилий может получиться. Это был именно Второй – без всякого сомнения, существо мужеского пола, Лия это поняла сразу. Чем займется девочка, когда выйдет играть на улицу? Погладит котенка, поиграет с подружками в «дочки-матери». А мальчишка? Возьмет палку, станет водить палкой по ребристому забору, начнет охоту на лягушек и ящериц, по возможности разрушит чей-нибудь песочный домик (если таковой обнаружит), или что-нибудь сломает… Да, это был именно Второй. Только мужчина стал бы баламутить столь грандиозную массу воды просто так, от нечего делать… И тут Лия поняла, что Второй ее тоже заметил.
Ураган двинулся к ней, окружил ее сетью смерчей… Что за бесцеремонные манеры! Он хочет поглотить ее свет? Ха, пусть попробует!..
Солнечным лучом она выскользнула из медвежьих объятий урагана и, исчезнув за горизонтом, тотчас появилась снова – уже позади него. Черный ветер изменил направление и снова двинулся к Лие. В отличие от Лии он не был стремителен, он тек неспешно и плавно, но, несмотря на эту кажущуюся медлительность, он вполне мог поспорить в скорости с солнечным лучом. Лия, не ожидавшая от ветра такой расторопности, едва не попалась, и буквально чудом сумела вывернуться из его многочисленных гибких рук. Взлетая вверх, она рассмеялась. Ей не было страшно.
Ураган умерил свой бег. Стихии лишены каких бы то ни было человекоподобных форм, однако на мгновение у Лии возникло совершенно отчетливое чувство, будто они смотрят друг другу в глаза.
– Ты?!! – спросил, прошептал, проревел ураган.
И тогда она тоже его узнала. Она рассмеялась и поднялась еще выше.
– Ах, так это вы, юный философ! – насмешливо обронила Лия. – Нечего сказать, вежливо же вы обращаетесь с девицей, которой совсем недавно признавались в любви! Вам следовало бы поучиться хорошим манерам.
И, продолжая смеяться, понеслась прочь. Ураган еще несколько секунд медлил, озадаченный ее словами, а затем, принимая предложенную игру, устремился следом.
Еще никогда Лия не летала так быстро. Обогнать облако или птицу, ветвистую молнию или стрелу в полете ей ничего не стоило – для нее это было детской забавой. Обычный ветер был для нее так же недвижим, как и земля, по которой ходят люди. Но Меранфоль, черный ветер, сын шторма и ночи, был быстрее, чем солнечный свет. Он был там – и вот, он уже здесь. Он несколько раз настигал ее, но не мог ни поймать, ни удержать. Лия убегала, а он гнался за ней. Так было до тех пор, пока им не наскучила эта игра. Они остановились. Лия то кружила вокруг наргантинлэ, то уходила за облака, то скрывалась за горизонтом и мгновенно возвращалась обратно. Она двигалась столь быстро, что за ней не смогла бы угнаться и мысль. Ураган же стоял неподвижно, столбом бесцветной клубящейся тьмы степенно вырастая из океанских волн. Лия решила поддразнить его еще немножко. Она посмеялась над его неуклюжестью.
– Я мог бы поймать тебя, – ответил черный ветер. – Но я боялся причинить тебе вред.
– Рассказывай, рассказывай, зазнайка! – легкомысленно бросила она. – Говорить мы все горазды…
В густом, как патока, и твердом, как сталь, воздухе ей послышалась усмешка.
– Да, – произнес ураган (и, как ей показалось, он улыбался при этом). – Да. Конечно же, ты права. Во всем.
– Во всем?
– Во всем.
– Ну вот… – разочарованно протянула она, меньше чем за мгновение облетев вокруг черного столба и вернувшись на свое прежнее место. – Теперь ты соглашаешься со мной. Почему так быстро?
– Разве тебе это не нравится? – немного удивленно спросил ветер.
– Так значит, ты готов согласиться с чем угодно, только чтобы угодить мне?
– А тебе не нужно, чтобы я признавал твою правоту?
– Ты признаешь не по-настоящему.
– Откуда ты знаешь? – усмехнулся ветер.
– Будь я на земле, я бы сказала: у тебя это на лице написано…
В том месте, где высился наргантинлэ, воздух, казалось, стал еще плотнее – он приобрел жесткую, почти кристаллическую твердость. У Лии мгновенно исчезло желание смеяться. Она чувствовала, как внезапно изменилось настроение живого шторма, но не могла понять, чем это вызвано – не могла до тех пор, пока он, уже совсем другим голосом, не задал вопроса:
– Ты – человек?
– Сейчас – нет.
Может ли солнечный свет недоуменно пожимать плечами? Если да, то, отвечая, именно это она и сделала.
– Но обычно – да?! – проревач шторм.
– Какая разница, Меранфоль? Я не хочу думать сейчас о том, кем я была там, внизу, на этой глиняной лепешке. Ты ведь тоже, когда мы были на Острове Лжи, не хотел говорить мне, кем являешься на самом деле.
– Да, не хотел. Но я сомневаюсь в том, что причины, из-за которых мы не любим возвращаться к своему прошлому, у нас одни и те же.
– Вот как? Хорошо, тогда слушай: там, внизу, я робкая девчонка, не умеющая и двух слов связать в присутствии посторонних. К тому же, я слепая. Не от рождения – в возрасте примерно полутора лет надо мной вдосталь поизголялись какие-то люди, и скорее всего – это были мои настоящие родители. Сейчас я умираю от холода и истощения – я уже и забыла, когда я в последний раз ела досыта. На земле меня ничего хорошего не ждет… Почти ничего… Понимаешь теперь, почему я не хочу вспоминать? Я слишком редко здесь бываю, чтобы попусту терять время на всякие мрачные мысли. Я ведь все равно ничего не могу изменить.
– Слепая? – с сомнением повторил ветер. Казалось, что услышал он в лучшем случае лишь половину из того, что она рассказала. – Не знаю… Но… слепая?.. Сколько тебе лет, Лия?
– Почему ты спрашиваешь?
Ветер не принял ее вопроса.
– Мне нужно знать, – настойчиво произнес он.
– Ну хорошо. Двадцать. Может, чуть больше. Ты доволен?
– Да.
– И что значили все эти расспросы?
– Ты – не та.
– Что значит: «не та»?
– Не та женщина, которую я ищу.
– Что означает ва… ваше заявление, господин Меранфоль? – несколько опешив, но все же постаравшись скрыть возмущение, поинтересовалась Лия.
Ураган вздохнул.
– Это значит, что я не попытаюсь убить тебя. Видишь ли, – поспешно добавил он, опережая ее новые вопросы или возмущенные восклицания. – На земле есть женщина, которую я давно хочу найти. Я не знаю, как ее зовут, я не знаю, где она живет, не знаю, жива ли она вообще… Я… – он запнулся, – я… проникал в разумы многих мужчин и женщин, но пока так и не смог узнать о ней ничего определенного. Ты хочешь спросить, зачем она мне понадобилась? – Он ненадолго замолчал. – Я хочу отомстить ей.
– За что? – тихо произнесла Лия. А вдруг… Вдруг это все-таки она в чем-то провинилась перед Меранфолем, и обезумевший ветер сейчас – и уже всерьез – набросится на нее?
Лия не боялась. Здесь, внутри виденья, она вообще не умела бояться. Но и разрушать хрупкие, только-только еще складывающиеся взаимоотношения со своим новым знакомым ей тоже не хотелось.
– Она причинила мне вред, – коротко сказал Меранфоль.
Надо заметить, что это заявление Лию несколько обнадежило. Не то, чтобы она была рада тому, что кто-то когда-то повредил Меранфолю, но, по крайней мере, теперь она могла быть уверена, что не имеет к этому никакого отношения.
– Вред? Тебе? Но какой?..
– Я не хочу говорить об этом, – отрезал Меранфоль. И, уже совсем другим тоном:
– Прости. Прости, что доставил тебе несколько неприятных минут. Но я должен был спросить.
– Понимаю.
– Прости, – еще раз повторил он. – Как я могу искупить свою вину?
– Как? – Она задумалась. Здесь и сейчас она не умела не только бояться, но и робеть – и оттого без малейшей застенчивости собиралась воспользоваться представившимся шансом. Только… что бы такое можно попросить у живого шторма?
Ага, вот!
Она вспомнила их первую встречу.
– Отведи меня к Старшим.
Ураган несколько секунд молчал. «Будет отговаривать», – подумала Лия. И не ошиблась.
– Зачем? – задал Меранфоль вполне логичный, с его точки зрения, вопрос.
– Хочу на них посмотреть.
– Зачем? – повторил он.
– Ну что ты пристал: зачем, зачем? – тоном капризной девочки произнесла она. – Любопытно. Ясно? ЛЮ-БО-ПЫТ-НО. Есть еще вопросы?
– Нет.
– Тогда пошли.
Ураган снова вздохнул.
Тьма, из которой он состоял, плавно потекла сквозь миры – а Лия, периодически вырываясь вперед, полетела рядом. Морские волны и острова, песчаные пляжи и лесные озера, скалистые утесы и рыбацкие поселения не единожды мелькнули под их стопами, пока они, обгоняя Солнце, мчались на запад. Иногда они проносились над кораблями, и тьма наргантинлэ на несколько секунд касалась душ мореплавателей, а сами корабли зависали в беспредельной пустоте, но живой шторм двигался дальше, сегодня ему не были интересны эти люди, и море и солнце возвращались на свои места, а люди на палубах падали на колени и благодарили своих богов за то, что те уберегли их от голодного чудовища, рыщущего по океану в поисках поживы… А эти двое, Лия и Меранфоль, не замечая людей, неслись дальше, вперед и вниз, приближаясь к закату, сквозь землю, сквозь мир, где не было моря – был лишь великий воздушный океан, по которому плавали летающие корабли альвов, сквозь мир, где стеклянный песок скрывал развалины древних городов, разрушенных в великой войне, о которой ныне никто не помнит и не знает из-за чего она началась и кто принимал в ней участие, сквозь верхние слои Преисподней, где железные птицы кружили по небу, где непомерно разросшиеся города были окружены смогом, а демоны принимали вид механизмов, сквозь области вулканов и дыма, где солнце исчезало в копоти и пепле, а над жерлами огнедышащих гор парили люди-ящеры, сквозь темное море, населенное чудовищами, сквозь мутный, мерзкий, ледяной туман, в котором застывало все живое, и Лия едва не застыла тоже, едва не лишилась памяти, разума и внутреннего света в этом краю сизых сумерек, сквозь глыбы первозданной материи, кружащейся в пустоте… Они догнали закат. А потом Лие показалось, что они шагнули за пределы, в которых пролегает дорога небесных светил, и оказались в месте, где не было вещей и предметов, не было ни земли, ни неба, а было лишь нечто, простирающееся от одной бесконечности до другой, и это нечто было живым, оно было подобно Меранфолю в тот миг, когда тот неподвижно стоял над морем, но, вместе с тем, оно было в тысячи, в миллионы раз больше. И тогда Лия вдруг ощутила себя слишком маленькой, слишком слабой и незначительной, чтобы сметь приблизиться к этому существу еще хоть на шаг.
– Это – Старший? – шепотом спросила она тогда.
И Меранфоль, который рядом с этим существом казался крохотным облачком, убегающим от грозовой тучи, так же тихо ответил:
– Да. Это – Старший.
Она остановилась и подумала о том, что если все-таки заставит себя подойти ближе, то, наверное, тотчас же умрет. Она просто не сможет пересилить притяжения Старшего и выбраться обратно. Жгуты прозрачного или темного воздуха – такие же, как у Меранфоля, только во много раз толще и длиннее – обхватят ее, и уже никогда не отпустят на землю, а потом равнодушно раздавят ее свет и заструятся дальше… Заметит ли Старший, что мимоходом уничтожил что-то живое в своем странном мире, где ничто живое существовать не способно? Лия весьма в этом сомневалась. Она не знала, чем сейчас занят Старший: может – спит, а может – просто размышляет о чем-то, но не удивлялась тому, что их до сих пор не заметили. Скорее, она этому тихо радовалась. Привлекать к себе внимание этого огромного жуткого существа она совершенно не хотела.
Она (все так же тихо, как и в первый раз) сказала:
– Он такой огромный…
– Ага. Теперь ты удовлетворена? Я прощен?
– Да. Спасибо.
– Спасибо за что? – удивился Меранфоль.