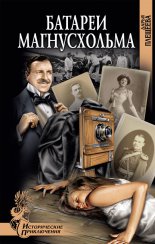Ураган Соколов Игорь

– Убираться? – переспросил Ягнин. – Это с острова, что ли?
– Ну да, – сглотнул Гернут.
Ягнин хмыкнул.
– Чтобы с острова уплыть, деньги нужны. У тебя есть деньги, Родри? (Родри отрицательно покачал головой, не переставая, впрочем, при этом враждебно смотреть на Гернута). У него нет. У меня тоже нет. И у этого, – он кивнул на Ольвера, пребывающего в полной прострации, – тоже нет. Как мы отсюда без денег свалим?
– Вот деньги, – сказал Гернут, доставая кошель. – Здесь достаточно, чтобы вам всем с острова хоть завтра уплыть. Не истратьте только все под этим делом, – он щелкнул себя по горлу. – И Мануэля с собой захватите, не забудьте.
…Когда он вернулся домой, Кларин с порога завернул его обратно. Вышли в сени.
– Ну, что? – спросил отец, в упор глядя на Гернута.
– Все сделал, как сказано… – произнес Гернут, опуская глаза.
– И деньги отдал?
– Отдал.
Кларин заскрежетал зубами. У него поперек горло стояло то, что приходилось платить этим ублюдкам, чтобы они убрались с острова.
– Когда они… отчалят?
– Не знаю… На днях… Завтра, может…
– Балбес! – Кларин размахнулся и закатал Гернуту оплеуху. – На днях!.. Ничего по-людски сделать не можешь… Вот споймают их, а следом – тебя, посмотрим, как запоешь, дурак…
Они вернулись в дом. Жалко, конечно, денег, но заплатить было необходимо. Завтра они с Элизой пойдут до бальи и сообщат, что Гернут как будто бы видел старых своих приятелей, вылезавших из старухиного дома. Про Гернута старуха ничего не скажет. Но допустить, чтобы бальи поймал его дружков, нельзя ни в коем случае. Потому как бальи быстро их расколет: узнав, что Гернут на них донес, дружки мигом заложат и его тоже. Поэтому пусть их ищут… и не найдут. Время пройдет – глядишь, Элиза и успокоится. А эти ублюдки… авось на каком-нибудь другом острове сгниют. Все равно по таким петля плачет. Это с первого взгляда видно. Где-нибудь они свое все равно да получат.
18
Прошло полторы недели. Дружков Гернута так и не нашли. Элиза хотела снова идти к бальи – с тем, чтобы выдать Гернута, но Кларин снова – и на этот раз куда с большей легкостью – отговорил ее. Она смирилась. Принимала от него деньги и продукты. Ждала, когда же все-таки поймают насильников. Но втайне уже отчетливо понимала, что никто никого не поймает. Скрылись они куда-то. Сбегли. Залегли на дно. Только Гернут и оставался на виду… Так про него она уже с Кларином договорилась. И нарушить договор, тем самым отказавшись от помощи богатого соседа, она не могла. Не смела.
Одно грело душу – Гернут свое, вроде бы, получил. Кларин разукрасил ему рожу синяками. Вся деревня могла видеть это, хотя никто толком не знал – почему и за что. Кларин открылся только жене – когда та, еще в первый день, набросилась на него с руганью и криками: «Что ж ты сына калечишь, нелюдь!» Кларин, сдержав гнев, отвел ее в сторонку и все по порядку рассказал. Ринвен поначалу не поверила, взбеленилась: «Наговаривают они на нашего!» Кларин рявкнул на нее и приказал заткнуться – чем и убедил в своей правоте. Вместе стали думать, что делать дальше. Сальде, жене Гернута, они ничего говорить не стали. К чему? И без ее мнения обойдутся. К тому же она была на последнем месяце, вот-вот должна была разрешиться от бремени, и ссорить ее с мужем, даже таким непутевым… Зачем?
Элиза тоже никому ничего не рассказала. Даже Ульрике. Душа у соседки добрая – но язык без костей, а договор с Кларином Элиза соблюдала. Хотя подчас молчать становилось почти невыносимо. Но она молчала. Расскажешь – и что потом ответишь на вопрос, почему Гернута бальи не сдала? Ответишь, что купил ее Кларин за мешок муки, корзину грибов и бочонок соленых огурцов? Нет, так не ответишь. Стыдно.
Ульрика сочувствовала ей, жалела Лию, навещала их едва ли не каждый день, приводила с собой Вельгана – чтоб помогал по хозяйству. Вельган не отказывался, хотя работа на чужом дворе отнюдь не доставляла ему удовольствия. Работа вообще не доставляла ему удовольствия. Она просто была привычна. Он давно уже усвоил, что проще сделать то, что просят или требуют, чем ругаться и спорить. Так что в деревне его считали трудолюбивым парнем, хотя и малость глуповатым. В чем-то он был похож на вола – неторопливый, полусонный, равнодушный ко всему на свете. Хотя нет, не ко всему… В жизни Вельгана тоже были свои маленькие удовольствия. Пойти на речку, искупаться или посидеть в тишине, половить рыбу. Поспать утром подольше. Зайти вечером за сарай, убедиться, что никого поблизости нет, вызвать в своем воображении одну из соседских девчонок, засунуть правую руку в штаны…
Так что нельзя сказать, что Вельган был равнодушен абсолютно ко всему на свете.
Но когда Ульрика начала рассказывать Элизе про то, что недавно произошло в городе – про то, как демон-ветер разрушил несколько домов, и, визжа во всю глотку, взлетел в небо – Вельган только зевал и думал: «Когда ж мы домой пойдем?» Эту историю он уже слышал. И не раз. Ее рассказал Ульрике какой-то знакомый торговец. Теперь об этом знала уже вся деревня. И Вельган присутствовал на большей части пересказов. Он выучил эту историю уже наизусть, но молчал, не злился и не раздражался, когда Ульрика снова начинала ее пересказывать – и каждый раз ее рассказ был чуть длиннее, чем прошлый. Он вообще был терпеливым, как вол, этот славный соседский парнишка.
Элиза, слушая Ульрику, искренне ужасалась и удивлялась. И хотя ей всегда были интересны деревенские сплетни, на середине рассказа она вдруг поняла, что предпочла бы не знать этой истории. Сие открытие удивило ее. Что тут не так, что неправильно?.. Ей казалось – еще минута, и она поймет, что. А Ульрика продолжала говорить, расписывая все новые подробности и не обращая никакого внимания на странную озабоченность своей подруги…
– Подожди! – остановила ее вдруг Элиза. – Аптекарь?.. Что это был за аптекарь?
Ульрика всплеснула руками.
– Да откуда ж я знаю? Какой-нибудь городской шарлатан, наверное. Все они шарлатаны. И чернокнижники. Вот одного из них демоны, видать, и забрали к себе. Верно мне отец Лукиаф говорил…
– Как звали-то аптекаря этого, не знаешь?
– Нет, не знаю… – помотала головой Ульрика. – А тебе-то на что?
– Был у меня в городе один знакомый… Может быть, это он… Иеронимусом его звали, Иеронимусом Валонтом. Хотя он вроде врачом был, а не аптекарем… Магистром. Ученым. Со степенью даже.
– Не знаю я ничего ни про каких-таких валонтов, – ответстовала Ульрика. – Имя-то какое хасседское, прости Господи… Чернокнижники они все, как один. Колдуны. Если заболит чего – молиться надо, или, если уж совсем невмоготу – к знахарке сходить. Или к кузнецу – пусть закует хворь и в ларчик спрячет… А потом – сразу в церковь, чтоб грех замолить. Только грех это куда меньший, чем к докторам ученым обращаться. Все беды на земле от этой премудрости диаволовой…
…Когда Ульрика ушла, Элиза еще долго не могла найти себе места – что-то мучило ее, не давало покоя. Села ужинать – кусок в горло не лез. Впрочем, кусок ей в горло не лез вот уже полторы недели. Казалось бы, все есть: ешь-пей – не хочу! И вот – на тебе… Не хочу.
Ветер, ветер… Снова, снова, каждый раз – одно и то же. Разрозненные, по времени сильно отстоящие друг от друга события, начинали тянуться друг к другу, грозя собраться в нечто единое целое, едва она, с неохотой и внутренним страхом обращалась к ним. Итак, сначала был Руадье – шесть лет назад ветер сложил пирамиду
пирамидку
из камней его замка. Потом – граф Эксферд Леншальский. Его замок развалился на куски, и сам он, как и Руадье, погиб вместе со своей семьей. Теперь ветер превратил в груду щебня целый квартал вместе с какой-то аптекой… Мысль была дикая, но… что, если это Иеронимус Валонт? Хотя его, вроде бы, посадили в тюрьму… А если уже выпустили? И он стал заведовать аптекой?.. Мысли Элизы путались, память отказывала ей. Да она и раньше не очень-то многое знала о судьбе Валонта после ареста.
Ветер… Сколько уже лет она слышит в ветре его голос? Она не думает об этом, старается забыть, но – сколько уже лет? Она не помнит. Слишком много. Слишком большая разница между ней, Элизой нынешней, уродливой нищей старухой, и Элизой-тогдашней, Элизой-красавицей, Элизой молодой и цветущей…
Сколько, говорите, лет? Ей кажется, что уже вечность.
Она заламывает руки и невидящим взглядом смотрит в сторону, не замечая, как Лия, сидящая напротив, застывает в своем кресле. Лия чувствует, что с матерью творится что-то не то. Она напрягает слух, пытаясь понять, что происходит. Но Элиза не знает этого.
– Меранфоль, – бормочет она. – Неужели это ты?.. Неужели ты все-таки существуешь?.. Неужели ты бродишь где-то неподалеку, выслеживая, вынюхивая добычу, бродишь вокруг, как волк мимо издыхающего…
– Мама! – Лия вскакивает и, огибая стол (не рассчитав движение и сильно ударившись о край бедром – впрочем, это сейчас неважно) идет к ней. Элиза вздрагивает, слыша ее голос, а Лия опускается перед ней на колени и касается ее рук своими – узкими и тонкими {Будто у знатной дамы, мелькает мысль у Элизы).
– О ком ты говоришь? – спрашивает Лия, и Элиза вдруг замечает, что ее дочь испугана.
– А?.. – переспрашивает Элиза. Поначалу она не понимает вопроса, а когда понимает, то не находит, что ответить.
– О ком ты говоришь? – повторяет Лия. – Ты называешь имя – Меранфоль. Кто это?
– Но… это… Так… – теряется Элиза. – Неважно…
Она гладит Лию по голове и повторяет:
– Это неважно… Почему ты спрашиваешь?
– Мне нужно знать, – говорит Лия. Ее лицо обращено к Элизе – и матери начинает казаться, что ее слепая дочь сейчас смотрит на нее.
– Это человек или ветер?
Вопрос вышибает из Элизы дух. Она задыхается. Она пытается остаться спокойной – но ее выдают руки, которые до сих пор держит в своих руках Лия.
– Откуда… ты про это… знаешь? – наконец выговаривает она.
– Значит, ветер, – говорит Лия, получившая ответ на свой вопрос. Она встает и отворачивается. Но Элиза вскакивает и, схватив ее за плечи, разворачивает к себе.
– Откуда ты знаешь?!! – кричит она.
– Я видела сны, – говорит Лия. – Сны, где был ветер. Я не знаю, добр ли он… нет, вряд ли. Он буйный и подчас безжалостный. Он сам по себе. Но он не любит людей. И еще я знаю, что он ненавидит одну женщину… и давно ее ищет…
– …Что ты ему сделала, мама? – тихо спрашивает Лия после короткой паузы.
Спотыкаясь и едва не падая, Элиза выбегает на улицу. Она не плачет – нет, это слезятся старухины глаза. Нет, она не плачет… Ей кажется, что еще немного – и она завоет, закричит, не в силах дальше сдерживать то, что рвет ее грудь изнутри. Она не хочет, чтобы это произошло в доме, не хочет пугать Лию еще сильнее. Она распахивает двери…
На улице – гул и вой, гнутся к земле и скрипят старые деревья, воздух насыщен влагой и грозой. Небо черно, как ночью. Вот, вдалеке, из черных туч падает на землю нить молнии. Следом – еще одна. Ветер – почти тверд, почти осязаем. Элиза видит, что в стороне деревни происходит что-то странное… Там очень темно, но кажется, что в этой темноте перемещаются по воздуху какие-то очень большие предметы. Она зажимает рот рукой. Она еще не понимает, что происходит.
– Элиза Хенброк, – слышится ей вдруг среди свиста. Слова приходят как будто издалека, однако с каждым словом говорящий приближается.
– Элиза Хенброк, – повторяет ветер. – Наконец-то я нашел тебя.
19
Плыл по морю кораблик… Трехмачтовое торговое судно. Называлось «Сильвия» – в честь первой (давно покойной) жены капитана. Капитан, Эльсэр Хадриго, одновременно являлся также и владельцем корабля. Ему было уже под пятьдесят, а «Сильвией» он владел только год или два – когда денег, которые он копил предыдущие тридцать лет, хватило наконец на покупку собственного судна. Он был очень горд этим обстоятельством и лелеял «Сильвию», как родную дочь. В команде у него были надежные, испытанные люди – все те, с кем он сработался в предыдущие годы, команда, которая знала и уважала своего капитана – равно как и капитан знал и ценил каждого из них. Правда, после приобретения «Сильвии» он стал строже и наказывал провинившихся матросов куда жестче, чем раньше – ведь это было его судно, и он был готов убить любого, по чьему злому умыслу или недосмотру возникла бы угроза «Сильвии». Палуба была всегда выдраена, выскоблена почти до зеркального блеска, в трюме всегда было сухо, перевозимые товары – рассортированы и разложены по порядку. Все вещи стояли на своих местах. Груз всегда доставлялся в срок или даже чуть раньше, чем обещалось. Эльсэр был осторожен и если чувствовал, что сделка дурно попахивает или если сомневался, что сможет доставить товар вовремя, предпочитал сразу отказаться от сделки, какие бы ему не сулили барыши. Хотя он прекрасно разбирался в ценах, в отношениях между различными торговыми компаниями, действующими на Архипелаге и лично был знаком с большинством владельцев этих компаний (а также с владельцами складов, мелкими собственниками и торговцами – зря он, что ли, занимался перевозкой грузов три предыдущих десятилетия?), и знал, когда стоит рисковать, а когда – не стоит, теперь он предпочитал не рисковать вовсе. Остаться без корабля или подмочить свою репутацию теперь, когда он только начинал свое дело – ну уж нет, лучше он останется без крупных барышей, чем пойдет на такой риск. К тому же, он и честной торговлей зарабатывал неплохо. Новичок на его месте быстро бы разорился – казалось, налоги, которыми обкладывали торговцев владельцы островов, должны были задушить всякую торговлю, однако это было не так. Эльсэр знал многих нужных людей, знал, что нужно этим людям… Кроме того, между налоговыми сборами на каждом отдельном острове существовала довольно сильная разница: где-то стригли овец и изготовляли сукно – там, как правило, приезжих, привозивших ткани с других островов, облагали такой пошлиной, что дешевле было бы заранее, еще в море, выкинуть этот товар за борт. Где-то выращивали пряности – на такой остров, как правило, было бесполезно соваться с тем же товаром. При этом могло быть так, что сами жители данного острова испытывали нехватку того товара, который они же, вроде бы, и производили – все уходило на продажу. Компании, занимавшиеся изготовлением и продажей, скажем, тех же самых тканей, душили (посредством владельца острова, устанавливавшего огромные пошлины) всякую постороннюю торговлю на своей территории. До интересов простых людей никому, естественно, не было дела.
Нужно было знать все нюансы, чтобы не попасть впросак. За три десятилетия Эльсэр успел превосходно изучить местные порядки, знал, когда, как, что, на каком острове и в какой последовательности нужно покупать и продавать, чтобы потихоньку наживать капитал, вовремя платить деньги матросам и своевременно вносить плату за прекрасный особняк, приобретенный в рассрочку на его родном острове. На Лен-шале.
Ныне «Сильвия» шла к Склервонсу. После гибели виконтов Руадье у острова не было единого хозяина, за власть над ним боролись несколько мелких дворянских родов. Портовый город Склервонс пока еще не достался никому из них – можно сказать, что временно он имел статус свободного города. Правда, в последние годы власть мэра, прежде верно служившего Руадье, существенно возросла – фактически, все шло к тому, что мэр города и его окружение станут одной из партий, претендующей на единоличное управление островом. Но вряд ли (по мнению Эльсэра) это случится в ближайшее время. Если король, конечно, не назначит кого-нибудь своим прямым указом. Однако вскоре после гибели Руадье снова появились хасседы со своими законными требованиями, и король предпочитал не принимать никакого официального решения по этому поводу. И пока что – вот уже шесть лет – условия для торговцев и ремесленников в Склервонсе складывались самые благоприятные.
Корабль шел, считай, порожняком – Эльсэр рассчитывал основательно загрузиться в Склервонсе. Вез он туда несколько сот инструментов из металла – в Склервонсе всегда были проблемы с железом. Несколько сотен железных слитков – у него был контракт с кузнецами Склервонса. Три десятка изделий из серебра и бронзы – тарелки, кувшины, столовые приборы. Еще в трюме было надежно упаковано двадцать шесть склянок с эфирными маслами, но Эльсэр не рассчитывал много выручить за них на Склервонсе. Еще – это хранилось в сундуке в его каюте – он вез кое-что, что продавать в ближайшее время не собирался вовсе. Четыре шкатулки с жемчугом. Он купил их в Леншале.
В последнее время в этом районе Архипелага участились внезапные бури. Поговаривали даже о появлении наргантинлэ. Эльсэр предполагал, что на цены экспортируемых товаров в целом эти слухи никак не повлияют – торговцы не станут ради каких-то слухов отказываться от вполне реальной прибыли, но вот суеверные рыбаки и ловцы жемчуга – могут. Не то, чтобы вообще никто не согласится выйти в море – скорее всего, они просто начнут требовать большую плату за свой труд. Итак, следовало ждать подорожания рыбы и жемчуга.
Отправной точкой «Сильвии» была одна из Леншальских пристаней. Сначала Эльсэр затарился в городе, а потом обошел остров и принял на борт железные слитки – платить за то, чтобы слитки везли ему через весь остров, он считал неразумным. На той же пристани он принял на борт четырех пассажиров. Их наружность не показалась Эльсэру заслуживающей доверия, но они смогли за себя заплатить. Поскольку он не слышал, чтобы был объявлен розыск на ребят с похожими приметами, то согласился довезти их до Склервонса. Правда, у него сложилось впечатление, что им все равно, куда плыть.
Был среди них один, у которого просто на роже было написано: «бандит». Встретил бы Эльсэр такого на дороге – обошел бы стороной. Или первым бы ударил, не дожидаясь, пока этот висельник, проходя мимо, сам в него что-нибудь воткнет. Однако верховодил в этой компании другой парень, повыше, он и договаривался с Эльсэром, и капитан предпочел закрыть глаза на его недоброго попутчика. Двое оставшихся ничего особенного из себя не представляли. Юнец и болтун. Последний – тоже себе типчик. В первый же вечер сел с матросами играть в кости. Эльсэр разогнал их, урезав игравшим матросам жалование, а гостей предупредил, что подобные игры на его корабле запрещены. Через некоторое время он случайно услышал, как Ольвер уговаривает одного из матросов сыграть где-нибудь в укромном уголке, чтобы капитан не увидел. Он не вмешивался, ждал, чем это кончится. А кончилось тем, что игрока угомонил их старший, Ягнин. На том и разошлись.
В общем, вели четверо пассажиров себя тихо, хотя не похоже было на то, что ребята это смирные да правильные. Значит, был повод сидеть смирно – выходит, и впрямь от тюрьмы бежали.
…Небо на юго-востоке почернело на второй день пути, когда корабль, обогнув остров Ассенхольм, на всех парусах шел к Склервонсу. Был ясный солнечный день, небо чистое, дул попутный ветер. Солнце отражалось в воде – казалось, вода в этом месте превращается в золото. Скрипели снасти, нос «Сильвии», как клинок, рассекал зеленые волны… Капитан шел по своему кораблю и вдруг почувствовал – что-то не так. Он оглянулся. Минуту назад ничто не предвещало опасности, но сейчас… Тьма надвигалась на корабль, тьма, раскинувшая покрывала от востока до запада, тьма, обнимавшая, казалось, полмира. От горизонта до горизонта. Ее приближение не было быстрым – о нет, она появлялась и перемещалась мгновенно, медленнее разве что мысли, и, вместе с тем, тьма была величественно-нетороплива и никуда не спешила. Тишина объяла корабль в последние секунды – тишина, в которой погасли даже крики матросов, в панике забегавших по палубе. Лишь Эльсэр стоял недвижно, не шевелясь, вцепившись руками в перила и смотрел в лицо приближающемуся мраку. Ему было известно многое – цены и люди, законы и способы обойти их, течения и рифы, порты и пристани, города и рыбацкие деревушки. Он не раз попадал в бурю и однажды лишь чудом спасся сам и спас свой корабль. Но что можно было противопоставить этому – он не знал. К тому же, тьма приближалась слишком быстро. Они все равно ничего не успели бы сделать.
А потом солнце погасло, сгустились тени, море было выпито до дна, вместо воды тоже стала тьма, и первый удар наргантинлэ, будто исполинский молот, обрушился на «Сильвию». Казалось, «Сильвия» закричала, как живая. Капитана подняло в воздух вместе с перилами, за которые он держался, однако к этому моменту Эльсэр Хадриго был уже мертв – удар наргантинлэ не оставил в его теле ни единой целой кости. Еще миг – и корабль парил в пустоте.
Тысячи рук наргантинлэ шарили по палубе, тысячи языков его пробовали на вкус все, что находили на судне. Корабль разваливался на части, от парусов оставались лишь лохмотья, а потом ветер уносил и их – в пустоту, к пределам кошмаров и снов, в ничто. От людей, которых находил ветер, тоже оставались одни лохмотья. Он убивал их походя – не за ними он сегодня охотился. Наконец, он собрал всех, кого искал – выцарапал из трюма, отлепил от досок и снастей, в которые они судорожно вцеплялись и перенес на палубу, к себе поближе. Запах боли привел его к ним – запах ее боли. С высоты изогнувшегося над кораблем смерча смотрел на них Меранфоль. «Какие ничтожества, – думал он. – Букашки. И они осмелились повредить моей Лии?!»
Он не желал просто убивать их. Для каждого из тех, с кем он встречался, он изобретал особенную смерть – ставил декорации, расписывал роли и начинал представление, где был только один зритель – он сам. И эти четверо не должны были стать исключением. Поэтому сначала он заглянул в их сознание (двое из них при этом, Мануэль и Ольвер, обделались от страха: ощущение, когда Меранфоль заглядывал в них, было такое, будто их тела разорвали, разъединили грудные кости, разломили на части черепа и выставили их обнаженные души на распашку – а чьи-то пальцы, скользкие, неуловимые, сладострастно мяли их сердца, вгрызались в их самую сущность, перемалывая мозг и память – подобно рудокопу, ищущему в груде щебня крупицы золота), затем вернул им зрение и индивидуальность – на время. Он узнал все, что хотел. То, что они сделали с Лией, было запечатлено в их памяти, и он помнил, что Лии это очень не понравилось. Для него самого сношения людей или животных было чем-то абстрактным, всего лишь набором определенных движений, но…
– Сейчас, – сказал он им, трепещущим, едва не теряющим сознания от страха. – Ты и ты, – он указал, кто, – спустите штаны. А вы двое, – он обратился к оставшимся, к Родри и Ягнину, – сделаете с ними то, что вы сделали со слепой девушкой.
Они переглянулись и снова обратили взоры вверх, туда, откуда, как им казалось, доносился голос. Но в тот миг, когда они смотрели друг на друга, сколь многое можно было бы прочесть в их глазах! Да, все четверо боялись – но как различен был этот страх! Мануэль полагал, что это Кара Божья – все в строгом соответствии с идиотскими историями его придурошной тетушки, которая вдруг перестала казаться ему такой уж придурошной. Ольвером владел один животный страх. Телесные жидкости выливались из него, что называется, изо всех дыр – изо рта, распахнутого в бессмысленном нытье, капала слюна, штаны у него были мокрые насквозь, а моча образовала под ногами небольшую лужу. Из глаз текли слезы. Его фигура олицетворяла собой в этот миг само раскаянье – о, как он жалел о том, что прикоснулся к этой девчонке, как жалел о том, что связался с Ягнином и Родри! Он был готов молиться чему угодно, кому угодно – лишь бы его пощадили. Он больше никогда так не будет. Он будет самим ангелом, воплощенной добродетелью – только оставьте ему жизнь! И ему можно было бы даже поверить: его страх был настолько силен, что память о нем Ольвер сохранил бы на всю оставшуюся жизнь – он и в самом деле стал бы монахом, аскетом или кем-нибудь в этом роде; он, впрочем, был готов стать кем угодно, даже последним рабом на галере, лишь бы ушло прочь то, что явилось в тот день за их душами.
Родри тоже боялся и его страх тоже в большей степени был страхом животного, чем человека. Но все же это был совершенно другой страх. Это был страх, мешавшийся со злобой – если бы он мог, он бы дрался за свою жизнь, дрался с отчаяньем волка, загнанного в угол.
И лишь Ягнин пытался трезво оценить свои шансы выжить. Эта тварь с ними разговаривает? Значит, может быть, есть еще какие-то шансы остаться в живых?..
– То есть… эээ… – сказал он, снова посмотрев на своих товарищей.
– Приступайте, – промолвил ветер, которому надоело ждать.
Итак, двое заняли надлежащие позиции, а вторая пара приблизилась к ним сзади. Но даже появись сейчас перед Родри и Ягнином две прекраснейшие и соблазнительнейшие куртизанки, вряд ли бы они смогли доказать им свою мужественность. Страх перебивал в них все другие чувства. Плоть отказывалась повиноваться им, хотя они прилагали к тому немалые усилия – бесполезно. Они готовы были едва ли не плакать от отчаянья. Им обоим казалось, что еще секунда промедления – и ветер обрушится на них, лишит единственного шанса на спасение. Который, как они полагали, у них все-таки был.
– Никак? – раздался насмешливый голос с высоты. – Ну ничего, я помогу вам.
И он влился в их тела, заиграл на их нервах, как на натянутых струнах, влил кровь туда, куда нужно (с такой силой, что их пенисы едва не лопнули, и кровь проступила на поверхности кожи), и отошел в сторону. И тогда (поскорее, поскорее, пока возбуждение не ушло!) двое старых приятелей – Ягнин и Родри – трахнули двух других своих приятелей – Ольвера и Мануэля. Ольвер только хрюкнул и захрипел, когда Ягнин вошел в него. Мануэль сжал зубы и постарался не застонать.
И, пока их тела совершали почти механические движения, оба ощущали странное, чисто умственное наслаждение – наслаждение почти дьявольское, наслаждение безумием и противоестественностью происходящего. Или это наслаждалась та часть Меранфоля, которая по-прежнему оставалась в них?
Когда все было кончено, и ветер ослабил свое воздействие, первое, что почувствовали Ягнин и Родри – ужасную, дикую боль. Оба истекали кровью. Ветер, возможно, немного перестарался с давлением.
– А теперь, – прошептал ураган, – поменяйтесь местами.
Им было уже все равно. Родри и Ягнин согнулись и встали на колени, Ольвер и Мануэль подошли к ним сзади. Но когда ветер начал вливаться в них, как это делал с их предшественниками, Мануэль вышел из ступора, в котором пребывал последние пятнадцать минут. Нечто чуждое вновь проникало в него, начинало править его телом – и ощущение это было в сто крат отвратительнее того, что он испытывал только что, когда Родри, казалось, разрывал на части его задний проход. Ощущение распространяющейся по телу нечистоты – ощущение чего-то липкого и скользкого, как помои, но имеющего множество зубцов и лапок, и в этом смысле походящего на множество расползающихся по животу, паху и ногам, насекомых…
– Нет! – закричал он. – Пожалуйста, не надо! Я ведь не трогал ее!.. Даже пальцем не прикоснулся… Я не хотел!..
Он много чего еще говорил, мешая слова и слезы, захлебываясь плачем. Даже «Простите» было в этом бессвязном вопле.
Ветер, казалось, несколько секунд размышлял. Рассматривал юношу. Потом разрезал наложенные швы и снова вскрыл его душу.
– С тобой позже, – сказал он Мануэлю, отбросив его в сторону. – А вы – продолжайте!
И, пока Ольвер, как кукла, раскачивался позади Ягнина, ветер поднял Родри – бедняжка, тот ведь остался без пары! – и стал развлекаться с ним сам. Ветер надул его – так, что сначала лопнули его кишки, а потом – кожа на животе и спине. Отслужившую свое игрушку ураган отбросил прочь. Потом взялся за оставшуюся пару. Смял их в одно целое – месиво из мяса и костей, своеобразную желеподобную массу, но удержал их души в желе их тел, и даже обострил их чувства. И позволил их голосам звучать.
Это длилось почти минуту. Мануэлю казалось, что сейчас он сойдет с ума от этого дуэта. Но затем желе растеклось по палубе, и голоса Ольвера и Ягнина стихли… Именно стихли, а не прекратились совершенно – ведь теперь они будут вечно звучать в великом хоре черного ветра. И тогда Мануэль понял, что настал его черед.
– Пож… жалуй… ста… – Едва смог выговорить он.
Ветер рассматривал его. Смотрел, смотрел, смотрел…
– Значит, ты ничего не делал?
Мануэль смог только кивнуть.
– Совсем ничего?
– Ты же… зна… ешь…
– Да. И это верно. Ты ничего не делал. Как же, – казалось, ветер улыбнулся, – как же я смею отнимать у тебя жизнь?!
Он сделал еще несколько кругов по палубе, обходя Мануэля – потоком черных слез, полночным маревом, клоками летящих по воздуху волос, густой тучей мошкары.
– Ну так живи, – предложил он, покидая это место. И добавил, оглянувшись:
– Если, конечно, сможешь.
Крича, как дьявол и смеясь во всю глотку, он умчался на северо-запад, и вправду оставив Мануэля в живых. Вновь вернулось солнце и море, и редкие белые облачка, плывущие по иссиня-голубому небу. Мануэль очутился в воде. Корабль был превращен в щепу, в опилки. Из последних сил, кое-как удерживаясь на воде, Мануэль оглянулся – направо, потом налево. Вокруг – сколько хватало взгляда – простиралось бесконечное безбрежное море. Ни острова, мимо которого они проплывали, когда на них набросился ураган, ни единого ориентира. Только вода, вода, вода – и ничего больше…
20
Расстояния ничего не значили для него, отношения со временем у него тоже были иные, чем у людей – он мог выпасть из мира смертных на несколько лет, и для него самого прошло бы только мгновение, а мог объявиться в чужом прошлом, исчезнуть и снова умчаться в будущее – но только свое собственное прошлое он изменить не мог, не мог проникнуть туда, где он уже был однажды. Впрочем, он не осознавал, что для него все-таки существуют ограничения. Он ходил везде, где ходить был свободен. Сотни миров и удивительные области между мирами, все пределы обитаемых сфер – там, где расстояния искажаются и возвращают обратно каждого, кто осмелится приблизиться к их границам, безбрежные моря на западе, пустыни востока, лавовые моря преисподен и льдистые небеса, в которых в самые холодные ночи духи создают алмазные дворцы и города – все было открыто ему. Везде он был, везде знали его и называли по-разному. В некоторых землях ему поклонялись, как богу, хотя он и не подозревал об этом.
«Меранфоль» – что за странное имя? Оно мучило его и жгло – его, никогда не имевшего имени. Он разрезал свои игрушки на части, пытаясь понять, что у них находится внутри, а когда не добивался цели – уничтожал их. Он так долго искал и разрушал – не зная даже, чего именно он желает – полностью вернуть себе это имя или совершенно избавиться от него. Но он чувствовал некую необходимость что-то со всем этим сделать, и делал – хотя, может быть, не всегда то, что было нужно. В такие минуты человеческая душа Меранфоля была как клинок в его руках, как оружие, правящее воином во время битвы – а он сам лишь смотрел со стороны и удивлялся происходящему. Вместе с тем он сам же и был Меранфолем и еще десятью тысячами душ камней и животных – он был единым целым, чем-то большим, чем все они по отдельности.
Предметный мир воспринимался им довольно убого, он почти не видел его и уж, во всяком случае, не придавал ему значения. Боль и отчаянье, ненависть и гнев были для него куда материальнее, весомее, чем деревья и горы. Так он нашел Ягнина и Родри, Ольвера и Мануэля. Боль была как желтый песок, рассеянный в черно-сером мире, а четверка бандитов была окружена «песком» Лииной боли с ног до головы. Найти их не составило труда. Убив их, он бросился по следу – песочные нити, тускнея, висели в воздухе, но путь туда, откуда они пришли, пока еще был ясным. Путь снова привел его на остров Леншаль, но ветер не знал этого. Для него этот остров отстоял на тысячу измерений от того Леншаля, который он посетил в первый раз и на две тысячи – во второй. Это были совсем разные миры – мир старого графа, мир Иеронимуса Валонта, и теперь еще один, новый, третий мир…
И здесь он нашел еще одного человека, окруженного золотым песком. Он ворвался в селение и убил их всех – соседей этого человека, его ближних, его беременную жену и его самого. И они умерли не самой легкой смертью, какое-то время он забавлялся с ними, но вас затошнит от его забав, я не желаю рассказывать о том, что он сделал с семьей Гернута и с ним самим. Он пощадил лишь Жана – выкинул его из разваливающегося дома и не притронулся к нему больше; и может быть, Жан был единственным человеком, который повстречался с черным ветром, и остался после этого в живых. Ибо Жан (в глазах Меранфоля) был окружен иным светом – светом ее любви, нежно-алым, как коралл или утренняя заря. Меранфоль не видел лица Жана, но он увидел поцелуй, запечатленный на его руке, и не коснулся этого человека. Быть может, это был последний раз, когда разум одержал в нем верх над безумием, затмевающим все и вся. Уже войдя в деревенский дом, разрушив статуэтки святых, снеся крышу, и поймав обитателей дома, жалких, трепещущих, своими бесчисленными нитями, он сдержал подступающее безумие, заглушил – на время – голоса мертвых людей, червивые души которых приказывали ему разнести здесь все в щепки немедля, сию же секунду, и помиловал Жана.
– Уходи отсюда, – сказал он юноше. – За твою жизнь уплачен выкуп, но если ты повернешь обратно, я забуду о нем. Уходи.
И отвернувшись, возвратился в дом. Занялся Гернутом и его женой. Они кричали – а ветер ловил их крики и возвращал обратно, нанизывая, как серебряные колокольчики, на свои невидимые руки. Под конец он перевернул дом, растащил его по бревнышку, вырвал с корнем столетние деревья, вздыбил землю и разрушил все селение. Больше здесь его ничего не держало. Пора было уходить, но он медлил. Он чувствовал нечто странное… Совсем рядом. Он потянулся туда…
Когда он приходил, то был не только тем, что видели люди – облаком темноты, клубком смерчей, горой перемещающегося мрака. Там, где он появлялся, он занимал собой все пространство, он проникал в воздух, которым дышали люди и животные, касался изнутри их легких, гладил их кожу ветрами. Воздух был его плотью, и он мог – хотя и очень смутно – ощущать вещи и за пределами своей темноты. И вот теперь на периферии чувств он уловил еще один запах – едва слышный, истершийся о время, но столь знакомый ему по своим отчаянным, безысходным снам.
И тогда он понял, что нашел наконец то, что искал столько лет. И, расправив невидимые плечи, поднявшись во весь рост над разрушенной деревней, едва не смеясь от счастья, он шагнул к женщине, отнявшей у него когда-то так много.
– Элиза Хенброк, – сказал он, и время остановилось. – Наконец-то я нашел тебя.
…Элиза отшатнулась от двери. Был поздний вечер, но то, что приближалось, превратило его в глубокую ночь. Закрывая небо, клубились облака, освещаемые лишь редкими вспышками молний – казалось, сам мрак шествовал к ней, и скрыться от него было невозможно, и стены отцовского дома мигом перестали казаться ей надежной защитой. Ветер победно трубил в свой охотничий рог – наконец-таки он загнал добычу, уходившую от него так долго. Воздух стал твердым – ей показалось, будто прозрачная рука прикоснулась к ее лицу и погладила по щеке. Касание было похоже на кожу лягушки, на прикосновение влажной руки мертвеца, поднявшегося из могилы. Она содрогнулась и отступила, дрожа от омерзения. А он был уже совсем близко, он ревел и крутил деревья, он окружал дом кольцом мрака, он ломал изгородь, продираясь к ней, и мешал ей дышать. С немалым трудом ей удалось захлопнуть дверь и заложить засов. Как будто бы стало легче. Но тотчас же Элиза услышала, как усиливается его зов, как стены дома содрогаются от напора приближающегося урагана и поняла, что стены вряд ли его удержат. Она бросилась через сени обратно к Лии.
Лия стояла посреди комнаты, напряженно вслушиваясь во что-то, молчаливая, как всегда. Она тоже что-то почувствовала, но Элизе сейчас не было дела до ее мыслей и предчувствий.
– Сюда, скорее, – закричала она, отодвигая старый драный коврик. – В подпол!
– Мама, – сказала Лия, поворачиваясь к ней, но не двигаясь с места. – Это…
Но Элиза не стала ее слушать. Откинув крышку подпола, она вцепилась в Лию и едва ли не силой стащила ее вниз. Лия повиновалась. Она была как предмет мебели, который можно двигать как угодно, но Элиза не удивилась этому. Лия была начисто лишена собственной воли. За двадцать лет, которые они прожили вместе, не было случая, чтобы Лия воспротивилась ей хоть в чем-то, и ее повиновение Элиза приняла как должное.
К тому же, им действительно нужно было спасаться. Ветер был уже в доме. Он качал стены, разбрасывал солому, сложенную на крыше, свистел из всех щелей и вслепую шарил по комнате. Когда они были в погребе, Элиза услышала, как с полок посыпались горшки, как зазвенела кухонная утварь, как что-то несколько раз глухо ударилось об пол – похоже, ветер перевернул лавки и стол. Затем она закрыла дверцу подпола. Несколько секунд как будто бы ничего не происходило. Женщины вжались в самый дальний угол этого крохотного помещения и со страхом ждали, что будет дальше. Элиза молилась. Больше ей ничего не оставалось делать.
Потом они услышали громкий треск и вой ветра как будто усилился – смысл этого они поняли не сразу, только после того, как сорвало крышку погреба. Из угла, где они таились, было видно не все отверстие, ведущее наверх – только его краешек, но и того было довольно, чтобы понять, что их дома больше уже не существует. Ураган снес его и теперь тянулся к ним, осторожно заглядывал в погреб – словно охотник в нору, где притаились диковинные звери.
Стены погребка начали осыпаться. Из пола ветер выдернул несколько досок, совсем рядом с лестницей, отверстие, ведущее наружу, расширилось, стало как рваная рана – расползающаяся под стараниями врача, стремящегося извлечь из раны посторонний предмет. Они чувствовали себя как мыши, нору которых разрушает собака или кошка. Бежать было некуда.
А ветер был уже внутри. Деревянная лестница дрожала и раскачивалась, но пока еще оставалась на месте, чего нельзя было сказать о предметах, хранившихся в погребе. Горшки с маслом и сметаной, вязка колбасы, мешки с мукой и крупами… Все то, что подарил Элизе Кларин теперь, на ее глазах, поднималось в воздух, вылетало в отверстие и исчезало, кружась, внутри урагана. Вот уже начали качаться и дергаться тяжелые бочонки с солеными овощами. Ветер шарил по погребку, рвал их одежду, тянул их к себе. К своему ужасу, Элиза вдруг почувствовала, как ее ноги начинают скользить по земляному полу, сколько она не вжималась в угол погребка… Она барахталась, хрипела, сопротивлялась, пыталась удержаться, но ветер был сильнее.
– Элиза Хенброк, – сказал он ей. – Тебе не скрыться от меня.
Это был не голос – как беззвучный гром прозвучали его слова. Она чувствовала, что ее уже переворачивает, тащит к выходу… И вдруг Лия вырвалась из ее рук и шагнула к лестнице. Она попыталась вцепиться в дочку, но не успела.
– Лия!!! – Истошно закричала старуха. Но Лия не слышала ее. С трудом сопротивляясь бешеным порывам ветра, она ухватилась за ступеньки лестницы, подняла лицо вверх, как будто могла видеть, и крикнула:
– Меранфоль!
Элизе показалось, что ураган на мгновение остановился. Что-то, презрительно-далекое, высокомерно выглядывавшее из-за туч, снова посмотрело на них – но уже как-то иначе. Впрочем, нет, не на них. Элиза почувствовала, что внимание Меранфоля обращено уже не на нее. Только на Лию.
– Ты?!! – беззвучно спросил ураган.
– Я. Возьми меня вместо Элизы.
– Не-е-ет!!! – завопила старуха, но крик ее потонул в грянувшем после слов Лии безумном вое. Стихнувший было ветер вернулся – на этот раз с удесятеренной силой. Погребок разворотило, лестницу разнесло в щепы. Элиза видела, как жгуты черного ветра обвились вокруг Лии и стали поднимать ее вверх. Лия не сопротивлялась – да и не могла бы сопротивляться, даже захоти она этого. Элиза кинулась к ней, но была сбита с ног, какие-то предметы били ее по голове, плечам, спине, пока она пыталась подняться. Голос ветра стал невыносим – это был плач, крик, вой – все, вместе взятое. Сотни голосов рвали тело мира, проникали под черепную коробку, оглушали и сводили с ума. Ей еще удалось поднять голову…
А потом все стихло. Ураган ушел. Не обращая внимания на синяки и порезы, она выбралась из разрушенного погребка. Дома не было, как не было и ничего в округе, что не было бы разрушено или исковеркано. Шипя и плача от боли в кровоточащих ладонях, она доползла до тела Лии – идти у нее не было сил. Старуха обняла ее и горько зарыдала, баюкая голову своей приемной дочери у себя на коленях. Она ничего не видела. Ее дочь умерла.
Урагана уже не было, но если бы Элиза подняла голову, то еще бы смогла увидеть изгибающийся столб смерча, который двигался на восток. Он покидал землю, все долги были уплачены, и Меранфоль, человеческое дитя, поврежденное этим миром и жестоко этому миру отомстившее, растворилось в сути черного ветра, не оставив следа. Еще миг – и смерч исчез, растаял в подступающей темноте.
Но старуха не видела этого. Она плакала, она выла зверем над своей мертвой дочерью – одна, посреди разбросанных на земле обломков.
Заходящее солнце бросило последний луч вслед скрывшемуся на востоке наргантинлэ. Луч дрожал и какое-то время еще висел в воздухе даже после того, как зашло солнце. Потом исчез и он, и тьма опустилась на землю.
СТЕНА ВОКРУГ МИРА
Орден Ягов начал охоту за мной из-за ерунды, сущей безделицы. Судите сами: станут ли серьезные, разумные люди суетиться из-за убийства какого-то алкаша? Да, что там, «убийство»!.. Ба, какое громкое слово! Это и убийством назвать нельзя. Наоборот – рыцари Ордена Ягов должны сказать мне спасибо за то, что в их вонючем городе живой падали стало немного меньше. Но где там!..
Вы любите пьяных? А нищих? А темнокожих побирушек, так и стреляющих глазами: как бы срезать кошелек с пояса честного человека? А тупых обывателей, не понимающих ни черта из того, что вы пытаетесь им сказать? Подумайте над моим вопросом всерьез. Я спрашиваю вас не о каких-то мифических пьяницах, нищих, побирушках или обывателях – о которых вы, возможно, где-то слышали или читали, а о простых, самых обычных, которых вы видите каждый день рядом с собой. Вы любите их? Вам они приятны?.. Ничего подобного! Вы ненавидите их, так же как и я. Я ненавижу человеческое ничтожество в любом его проявлении. Думаете, их можно исправить, изменить, как-то расшевелить? Я так не думаю. Я реалист. Это отбросы, человеческая падаль, так сказать, «испорченный материал». Думаете, Творец не умеет ошибаться? Еще как умеет! Большая часть человечества – Его сплошная ошибка. Вы считаете иначе?.. «Каждый человек имеет право»?.. Вот только не надо этого дерьма. Ненавижу ложь. Если вы так считаете – пойдите и раздайте свое имущество нищим! Что, не спешите отрывать свою задницу от стула?! Тогда не надо лицемерить. Вы такие же, как я. Вы думаете так же, как я, только не смеете (или не умеете?) доводить свои мысли до логического финала. А у меня нет предрассудков.
Если человек так и не смог выйти из скотского состояния, убить его – не больший грех, чем, скажем, зарезать свинью. Не согласны? А давайте-ка, спокойно, без эмоций, разберемся – а что, в самом деле, плохого в этом «убийстве»? Когда вы идете мимо помойной ямы, и вдруг видите там пьяницу, валяющегося среди отбросов, что вы подумаете? «Ну и свинья!» – подумаете вы. И совершено правильно подумаете! А теперь – внимание, задаю вопрос! Что плохого в убийстве свиньи? Ни-че-го. Кстати, вы часто свинину едите? Я – не очень. Не люблю. Слишком много жира.
Так чем же человек, о котором вы сами только что подумали «ну и свинья!» лучше свиньи обычной, похрюкивающей? Ничем не лучше.
Скажете, что он все-таки имеет человеческий вид?.. Это какой же, позвольте узнать? Две руки, две ноги, одна голова, да еще и штаны в придачу? Но ведь и обезьяна так же устроена, и одеть ее можно, если захотеть. Может, сошлетесь на то, что любезный вашему сердцу пьяница умеет, хотя и с трудом, говорить? Ну и что? – спрошу я у вас. Попугай тоже умеет. Что-что? «Разумно говорить»? Разум? Какой еще разум? Какой, я вас спрашиваю, разум вы ищете в этом теле? Нет тут никакого разума и никогда не было. Да и может ли человек, обладающий хоть искрой разума, по собственной воле скатиться в скотское состояние? Мое мнение таково, что не может. Я, знаете ли, высокого мнения о человеке.
Но в общем и целом, все это совершенно неважно. Я вам тут рассказываю о том, из-за чего Орден Ягов на меня охоту начал, а вы меня какими-то псевдофилософскими вопросами отвлекаете. Хотите считать прямоходящих свиней людьми? Да и пожалуйста! Целуйтесь с ними на здоровье! А меня от этого удовольствия избавьте.
В общем, приехал я в Кэлэмтон под вечер. Иду, ищу подходящую гостиницу. Лошадь устала. Мы с ней проделали долгий путь от самого… Да, именно оттуда. Издалека.
Я тоже устал, но я-то человек, и знаю, чего хочу и куда еду.
Иду, значит, ищу гостиницу… И тут мне под ноги вылетает этот. Всю жизнь ненавидел пьяных и нищих… Что они мне сделали? – спрашиваете. Отвечаю: не ваше дело. Я тут не на исповеди и историю своей жизни вам рассказывать не собираюсь. Если вы знаете, что такое жизнь, поймете меня. А если всю жизнь с вас пылинки сдували, что ж – желаю вам и дальше в молоке купаться, но объяснять вам что-либо бесполезно: все равно не поймете.
Судя по всему, субъект, так неудачно налетевший на меня, был пьяницей со стажем и, видимо, только что подрался с женой. Из двери, откуда он вылетел, выглянула и жена – здоровенная бабища с лицом, похожим на стену. Почему на стену? А как по-вашему, стена – это острый предмет или нет? Вот и ее лицо было таким же тупым. Про таких говорят (и очень точно говорят, замечу я в скобках): «настоящая корова». И ведь действительно – корова! Точнее и не скажешь. Разве ее жизнь более осмысленна, чем жизнь рогатой мычащей скотинки, пасущейся на лугу?
Но мне никакого дела до этой убогой парочки не было. Мне и сейчас до них никакого дела не было б, если бы не поднялась вся эта кутерьма. Много таких убогих в нашем мире. Слишком много. Живут, как коровы и свиньи и дохнут, как коровы и свиньи. И все в порядке, никого это не волнует… Мне просто не повезло, что из-за этого алкаша такая каша заварилась… Ну да ладно, об этом потом.
Толкнувшему меня вонючке я раны (оставленные скалкой) лобзать не стал. Пнул я его в ближайшую мусорную кучу и тут же забыл о нем. Меня волновали гораздо более важные вещи. Я уже говорил – мое тело устало, но то тело, а не разум! Чем дольше я живу, тем быстрее, сильнее, лучше работает мой разум, тем полнее мой дух осознает скрытые в нем самом силы и возможности. Именно поэтому я – человек, а не ходячая падаль. Я знаю, что такое настоящее зло и настоящее добро. Кстати, если уж мы затронули эту тему, замечу: большинство людей не имеют ни о добре, ни о зле никакого понятия. Они называют добром собственные предрассудки, а злом – обычную правду. Я лично считаю, зла в чистом виде не существует вообще. В этом мире слишком много дерьма, вот и все. Нет никакого Великого и Могущественного Зла. Добро в этом мире встречается, но очень редко. Вы полагаете иначе? Я докажу вам обратное в два счета. Я помню мальчика… да, я очень хорошо помню одного маленького мальчика, который лет тридцать назад плакал от голода. Он стоял на улице, но не умел ничего просить. Мимо проехала богатая карета, обдав его грязью – очевидно, сидевшие в карете люди были слишком заняты умными разговорами о гуманности и философии – а может быть, просто торопились на вечернюю службу в храме Единого. В общем, были заняты и не заметили. Что это, зло? Я раньше думал, что зло. Но потом, когда поумнел, понял – это не зло. Это просто один из многочисленных кусков дерьма, плавающих в мировом океане. Когда вы, извиняюсь, срете, разве это зло? Нет, это просто малопривлекательное зрелище. Не больше и не меньше. Карета укатила, мальчик стоял, плакал, а потом торговка дала ему яблоко. Просто так. Вот это было добро. Можно даже с большой буквы написать – Добро. Мальчик сожрал яблоко, но так и не понял, с какой редкостной удачей ему довелось столкнуться. С самим Добром! Это уже потом, когда он подрос и кое-что начал соображать, до него доперло, что он тогда видел. И подросший мальчик вернулся в город и попытался разыскать уличную торговку. Он хотел отдать ей все, что имел. Он вообще, знаете ли, был готов сражаться за Добро со всем миром. К сожалению, торговка уже давно лежала в могиле. А уморили бедную женщину ее же дорогие родственнички. Так что пришлось мальчику всю эту ходячую падаль аккуратно вырезать и дом, где они жили, к чертовой бабушке сжечь. Исключительно из чувства нравственного долга перед Добром.
…Ну да ладно, вернемся-ка мы в Кэлэмтон. Пьяница вылез из мусорной кучи и чего-то вякнул мне вслед. Я не обернулся – и это обстоятельство, похоже, придало ему храбрости. Он подобрал палку и пошел за мной. Хотите спросить, откуда я узнал, что он подобрал палку, если не оборачивался? А как яги могут прыгать на пятнадцать метров в высоту с места и прошибать стену ударом кулака? Вот так же и я знал все, что он делает за моей спиной, хотя и не оборачивался.
Когда субъект… Нет, не субъект. Какой он, к чертям, «субъект»! «Субъектик» – и то от силы. Так вот, когда субъектик подбежал поближе, я ему мигом горло перерезал, кинжал об евойную одежду вытер и дальше пошел. Когда до угла дошел, слышу – баба орать начала. Дура, что с нее взять. Ей бы радоваться да плясать от счастья, а она орет в полный голос – как будто бы небо на землю упало…
Ну что еще рассказывать? Нашел какую-то гостиницу, покушал по-человечески в первый раз за последнюю неделю, лег спать.
Не рассчитал я кой-чего. Ошибся. С кем не бывает. Слышал раньше ведь про этот Орден Ягов. Слышал, что попадаются среди них редкостные идиоты. Слышал, но не верил. Думал, что все это показуха. И ведь были у меня основания не верить – были, вы поймите! Какие основания? А вот как-то раз довелось мне развязывать язычок одному аристократишке… Как развязывать? Известно как. Как языки развязывают?.. Так вот, тема нашей беседы была совсем посторонняя, никакого отношения к Ягам не имеющая, но в пылу словоохотливости, которая напала на моего аристократишку после того, как я его над огнем подвесил, выболтал мне друг сердешный кой-чего о яге, который будто бы под контроль работорговлю взял в Изумрудном море. Я, как услышал, сразу подумал про них: «Ну вот, теперь все ясно. Нормальные люди. Сами живут и другим жить дают. А борьба со злом – это так, лапша для простонародья».
Ошибся я. Крупно ошибся. А может, просто не повезло. Не с умными людьми встретился, а на идиотов нарвался. Идиотов везде хватает. И среди простонародья, и среди колдунов-ягов. Но я, как всегда, о людях заранее только хорошее думал. По себе судил. И в этом-то и ошибся.
Ночь прошла спокойно, и день тоже, а вот на следующую ночь просыпаюсь. Шум какой-то внизу.
– Чё за дела? – интересуюсь у Советника.
– Это по твою душу идут, – отвечает мне ехидно.
– Кто? Сколько? – а сам встаю и быстро одеваться начинаю.
– Шестеро. Городская стража.
– Колдунов среди них нет?
– Нет, – успокаивает меня Советник.
«Ну вот и отлично», – думаю. Я все равно из этого города уезжать собирался.
Когда эти идиоты ворвались в мою комнату, я им глаза отвел и в углу на табуретку сел. Идиоты ругаются, в моих вещах роются, в окно выглядывают. Я сижу себе спокойненько на табуретке. Жду.
Вещи все мои перерыв и ни под кроватью, ни в шкафу меня не обнаружив, идиоты, бренча доспехами, поперлись вниз – допрашивать хозяина на предмет: а не прячет ли он меня в кладовке? Тут, значит, я шмотки аккуратно в сумку складываю и через окно на улицу вылезаю.
Хошь не хошь, а надо было дожидаться утра, потому как только утром городские ворота откроют. Перешел улицу, подергал ближайшую дверцу – заперто. Я только глянул на Советника, а он уже сразу все понял: внутрь дома шмыгнул и с той стороны мне дверцу открыл. Я на второй этаж поднялся и у окна устроился. На девку, что в этой комнате дрыхла, я заклинание соответствующее наложил – чтоб крепче спалось. Если повезет, дня через три проснется. Если не повезет – не проснется. Сижу у окна, жду чего дальше будет.
Когда идиоты в мою комнату опять заглянули, то, конечно, обеспокоились чрезвычайно. На их тупых рожах, когда они суетиться начали, так и было написано большими печатными буквами «Чё-то тут не то». А что именно «не то» – и сами понять не могут. Я от смеха чуть из окна не вывалился.
И тут два идиота, посовещавшись, убежали куда-то. А когда обратно прибежали, с ними вместе дамочка прибыла. Волосы светленькие, ножки стройненькие, фигурка ладненькая, личико смазливое до невозможности. Солнышко мое, лапочка, рыбонька! На дыбу бы тебя вздернуть, цены бы тебе вообще не было!..
На плече у дамочки значок Ордена Ягов болтается. Но и без значка невооруженному глазу ясно, что перед нами – типичная ягиня. Стоит только на меч, мужскую одежду и танцующую походку посмотреть. Или на морду взглянуть отрешенную, спокойную-спокойную, как будто дамочку сзади поленом по затылку основательно приложили. Но у меня-то глаз не простой, а как раз правильно вооруженный. Так что я ее приближение еще издали почуял, еще до того как увидел. Почуял – и быстренько все мысли из головы на хер выкинул, пульсацию собственного гэемона по возможности приглушил и Советнику приказал сидеть тихо и не рыпаться. Потому как живая ягиня – это вам уже не шуточки. Это противник сурьезный.
Ягиня начала по трактиру шариться, что-то выискивать, вынюхивать… так, наверное, идиотам казалось, которые за ней по пятам на задних лапках бегали. А я видел кое-что другое. Время от времени я ощущал ее внимание – не на мне, к счастью, останавливавшееся, а просто внимание. Как пульсирующий шар, ее внимание расширялось, захватывая сразу несколько улиц, а потом снова сужалось. Будь я небрежен, она бы сразу меня почуяла. Но я прилежно твердил «Ом мани падме хум» или прочую херню, услышанную далеко-далеко на юге, так что все обошлось. Дамочка вылезла из трактира и поперлась в другие кварталы этого вонючего городка, над которым, дескать, Орден Ягов простер свое милостивое покровительство – поперлась своим пульсирующим вниманием в других частях города меня искать. Советник, когда это увидел, даже хихикать начал, но я на него так посмотрел, что он мигом перестал своим дебильным смехом мне мозги полоскать. Дамочка несколько раз возвращалась – каждый раз все в большем расстройстве чувств. Мне ее даже жалко стало. «Ах ты бедненькая, – думаю. – Что, обидели лапочку? Игрушечку отняли? В темных магов мечиками потыкать не дали? Ты мое солнышко!.. А может, ты еще и девственница? Эх, снять бы с тебя кожу живьем – какая бы у нас с тобой тогда любовь могла получиться!..»
Но на нежности времени уже не оставалось, потому как светало и пора было сматываться из города. Дождавшись момента, когда ягиня в очередной раз куда-то поперлась (видать, не укладывалось у нее в голове, что я в это же самое время могу спокойно наблюдать за ней из окна), я вышел из дома, пересек улицу, зашел в конюшню, вывел оттуда свою лошадь и уехал. Естественно, меня никто не видел, даже те два идиота, которых ягиня оставила сторожить мою лошадь. Зачем оставила? – сам до сих пор не могу понять. Знала ведь уже, что я умею глаза отводить. Наверное, на всякий случай оставила. Для порядка, так сказать. Для отчетности.
Солдаты на воротах меня тоже не заметили и не запомнили. В общем, вырвался я из этого вонючего городка и дальше по своим делам поехал. Быстро поехал. Можно даже сказать, поскакал. Галопом.
Пропажу коня (это я уже потом узнал) обнаружили быстро, а вот через какие ворота я город покинул – разобрались не так скоро, только к середине дня. Погоню организовали. Делать им что ли, больше нечего? Я уже ведь уехал. Что им еще надо? На хрена я им сдался? Ну да ладно. У дураков своя логика, у умных людей – своя. Сколько не бейся – ни умные дураков, ни дураки умных понять никогда не смогут.
О погоне я узнал на третий день. Еду себе спокойно, уже и темп слегка сбавил и тут чую – чё-то не то. Советник ни с того ни с сего зашевелился. Ну, я его сразу пинаю и перед своим мысленным взором в полный рост вызываю.
– Чё за дела? – спрашиваю.
– Так и так, – докладывает. – Погоня.
Я ему:
– Ну так бегом марш. Одна нога здесь, другая там.
Он мне:
– Будет исполнено, босс.
И вот когда отряд, возглавляемый все той же светленькой дамочкой, взбирался на очередной пригорок, одна из лошадок споткнулась и – какая жалость! – кувыркаясь, полетела вниз. Вместе со всадником, разумеется. Вы себе представляете, каково катиться вниз с пригорка, кувыркаясь вместе с собственной лошадью, так и не сумев вытащить ноги из стремян? Лошадь себе все ноги переломала, а про всадника уже и говорить не приходится. К большому огорчению, я это зрелище наблюдать не мог, да и о том, что в тот день учинил Советник, узнал много позже. Многое мне не нравится в Советнике. По правде сказать, сволочь он редкостная. Глаз да глаз за ним нужен. Доверять ему ни в коем случае нельзя. Да что там! Уж лучше я этой же самой ягине доверюсь, чем Советнику! У него свои цели, у меня свои. Я его цели знаю как свои пять пальцев, потому и использую. У нас с ним своего рода игра в кошки-мышки. А вот кто был в игре кошкой, а кто – мышкой, потом станет ясно, когда игра закончится. Так вот… О чем это я? Ах да. Все, решительно все мне не нравится в этой архисволочной дряни, в моем неизменном Советнике. Но кое-что все-таки нравится. Чувство юмора. Да, чувство юмора – это единственное, в чем ему никак не откажешь.
Итак, лошадка упала, человечек немножко сломался, а дальнейшее себе уже нетрудно представить. У дамочки сразу возник выбор: мужика лечить или за мной дальше гнаться? А мужика лечить надо было срочно, потому как ни одной целой кости в нем после кувыркания вместе с лошадью не осталось и он не то что одной ногой в могиле стоял – он там уже крепко сидел и как раз размышлял, наверное, как бы ему лечь поудобнее.
Нравственная дилемма, так сказать. К чести нашей дамочки, разрешила она ее совершенно верно. Стала лечить своего солдатика. Браво! Аплодирую стоя! На лечение она потратила огромное количество сил и времени – как минимум сутки просидела рядом с этим придурком, вливая в него свою энергию. Я за это время уехал в такую далекую даль, что преследовать меня стало совершенно бесполезно. Все счастливы, все довольны.
На этом чудной эпизод из моей жизни, связанный с посещением Кэлэмтона, собственно говоря, закончился – но, к сожалению, было и продолжение. Помните, я сказал в самом начале, что мне не повезло? Вот в том-то и дело. Со своей стороны, как вы могли заметить, я действовал совершенно безупречно. Но – увы! Судьба, случайность, невезение… Никто от этого не застрахован, так ведь?
Приблизительно через год я снова оказался в этой же стране – правда, в другом городе, соседнем, немного покрупнее. Соседнем – это семь дней пути верхом на лошади в хорошем темпе. Миль триста или около того. Само собой, по прямой расстояние в три раза короче, но по прямой только птицы и ведьмы летают. У вас ступа есть? У меня нет. Яги – чтоб они все передохли, ублюдки – тоже летать пока еще не научились. Так что не надо считать расстояние на карте по линейке. От Кэлэмтона до Антрика – триста миль, никак не меньше. Это я вам говорю. А уж моему-то слову можно верить, потому как накатался я по нашему чудесному, но совершенно дерьмовому миру столько, сколько вам во сне не снилось и в мечте не мечталось.
Короче. Живу я в Антрике. Не в трактире живу, а в богатом доме целый этаж занимаю. Шесть комнат. Чистенькие занавески на окнах. Живу тихо, никого не трогаю, веду себя яко агнец. И тут…
Не знаю, кто на меня настучал. Но кто-то настучал, это точно. Используя дедуктивный метод, можно даже предположить – кто. Кто-нибудь из тех, кто в Кэлэмтоне меня год назад видел. И по случайности через год в Антрике оказался. И по случайности меня на улице встретил. Я-то, добрая душа, иду себе спокойно, в мировую философию мыслями погружаюсь, просветленным духом над миром тленным взмываю и дерьма по возможности стараюсь не замечать – а кто-то уже бежит, слюной брызжет, донести на меня торопится… Как подумаю об этом, такое зло за душу берет, что прям… Да я бы… Да этого стукача… Да мне бы его в руки хоть на часок…
Уф! Спокойно. Спокойно… Видите, как вы меня разозлили? Не надо меня злить. Спокойно. Ом-мани-падме-хум. Отче-наш-иже-еси-на-небе-си и т. п. Что я говорю, спрашиваете? Да я и сам толком не знаю. Какая-то восточная чушь. А могу и что-нибудь из северного репертуара выдать. К примеру: к тебе, владыка рун, сеятель битв, взываю… Ну все. Улыбнулись, вдохнули и выдохнули. Успокоились. Можно дальше рассказывать.
Итак, живу я в Антрике. И вот как-то раз, когда я, как честный работник пера и вообще интеллигентный человек, сидел за столом и изобретал одно замечательнейшее устройство… Кстати, устройство действительно замечательнейшее, судите сами. Оно способно двинуть науку вперед семимильными шагами. Вот, задумайтесь… Да, попробуйте задуматься, хотя я и понимаю, как это для вас тяжело. Так вот, задумайтесь над вопросом: какая, по-вашему, самая муторная часть в ходе человеческого жертвоприношения? Думаете? Ну думайте дальше. Я, как человек, знающий об этом не понаслышке, скажу вам прямо: не люблю, когда пленники дергаются. Некоторые недалекие люди поят пленников сонными зельями, но с этими людьми вам дел никаких лучше не иметь, потому как ни хера они в черной магии не смыслят. Чем острее будет осознание жертвы, тем лучше. Обязательно это учитывайте. Так вот, в традиции жертвоприношений, установившейся среди людей нашей профессии мне не нравятся две вещи: то, что пленник дергается и то, что процедура, даже в идеальных условиях, проходит слишком медленно. Моя замечательная машинка должна была решить обе этих проблемы. С одной стороны находится алтарь. Рядом стоит заклинатель и читает соответствующие тексты. С боку выстраивается очередь пленников. Все пленники связаны цепью. Цепь накручивается на ворот, подтягивая к машинке пленников. Когда они оказываются вблизи, машинка насаживает их на вращающиеся колья и шлепает на алтарь. Потом ворот совершает полный круг, боковой нож отрезает уже дохлому пленнику руку, на которой была цепь, а само тело пленника вращательным движением выбрасывается в сторону, противоположную нашей «живой очереди». Там, само собой, быстро вырастает горка трупов, но всегда можно подписать каких-нибудь дебилов отволакивать эти трупы в сторону. В крайнем случае, можно заставить двух пленников (последних в очереди) заниматься этой работой – чтобы не скучно было им ждать. Так или иначе, это совершенно несущественная проблема по сравнению с огромной важностью моего изобретения. Если хотите, я вам потом схемку набросаю.
Какой-нибудь ортодокс может возразить мне – дескать, подобная машинка сводит на нет всю эстетику ритуала, единообразно выполнявшегося из века в век. На подобные возражения, которые могут делать только ортодоксы и педерасты, я отвечу прямо, в максимально доступной форме: дорогие мои, надо стоять к прогрессу лицом, а не поворачиваться к нему, извиняюсь, жопой. Друзья, пора бы уже слезать с пальмы!
Итак, Антрик… Да, Антрик, прекрасный город. Окно открыто, я вдохновенно работаю, Советник молчит уже почти два дня – и это очень хорошо, потому что я люблю уединение и очень не люблю, когда меня отвлекают от творческого процесса, и тут…
– К тебе гости, – говорит Советник.
– Да ну? – Мое благодушное настроение все еще при мне, и я не спеша подхожу к окну и осторожненько – очень осторожненько – выглядываю на улицу.
Эту светловолосую длинноногую драную козу я узнал сразу. Рядом с ней крутился какой-то пацан… Нет, не мальчишка, как вы, возможно, подумали, а вполне взрослый парень с развитой мускулатурой. Я говорю «пацан», потому что он тоже был ягом, только слабее – в смысле управления собственной энергией – чем светловолосая дрянь. Про отряд кретинов с мечами и арбалетами, который их сопровождал, и упоминать не буду – это так, довесок к реальной силе – довесок, который сам по себе ничего не значит. А дамочка за минувший год определенно окрепла. Определенно. Мне еще нестерпимее, чем тогда, год назад, во время первой нашей встречи, захотелось увидеть ее на дыбе. Но я заставил забыть себя о сантиментах, прекрасно понимая, что сейчас менее чем когда-либо подходящее время для нежностей. Еще я понял, что в своем плавании по бескрайнему океану жизни наткнулся на кусок дерьма весьма значительных размеров, обогнуть который будет не так-то просто.
Она пока не применяла своих способностей – очевидно, опасаясь меня спугнуть. Уговаривала хозяйку дома впустить ее внутрь. Ага, ее – и еще целый отряд вооруженных людей. Совсем плохо у девочки с головой. Когда у тебя за спиной вооруженный отряд, надо не уговаривать хозяев пустить тебя в дом, а врываться силой, делая вид, что так и надо. Но ее неожиданная глупость – это очень кстати. Я быстро нацепил жилет, подхватил ножны с мечом, проверил – на месте ли кинжал, и ломанулся вон из квартиры. Само собой, по парадной лестнице я спускаться не стал, выпрыгнул из окна во внутренний двор, распахнул дверь напротив, сшиб с ног какого-то козла, вздумавшего встать у меня на дороге, взбежал вверх по скрипучей лестнице, вышиб еще одну дверь, перепугал до смерти парочку, увлеченно сношавшуюся на широком сундуке, пробежал мимо, распахнул окно, спрыгнул на улицу и уже почти праздновал победу… И тут она меня засекла. Ее пульсирующее внимание вонзилось в меня и больше не отпускало. У меня не было ни времени, ни возможности возвести соответствующую защиту – сначала нужно было уйти с оживленной улицы. Я не настолько силен в магии, чтобы одновременно защищаться от колдовства ягини и отводить глаза простым людям.
Я бросился бежать. Очень скоро я понял, что обогнуть кусок дерьма, плавающий в мировом океане, сегодня мне так и не удастся и что этот кусок плывет прямо на меня. Вашего покорного слугу, отшельника, философа и светило научной мысли современного мира догоняли два тупых придурка. Один придурок и одна полная дура, если быть точнее. Ну спрашивается – что они ко мне пристали? Что им от меня надо? Сидели в своем Кэлэмтоне – и сидите себе дальше! Я что, лезу в ваш Кэлэмтон? Ваших родственников режу и убиваю? Антрик – свободный город. Я здесь, вы там. Какие еще вопросы? Но нет – им все мало. Крови моей хотят. Скачут за мной, как два ополоумевших кролика, через людей на ходу перепрыгивают. А я, извините, через людей перепрыгивать не умею. Не обучен. Я, извините, по вашей милости должен людей с дороги сшибать. Кому-нибудь и голову могу случайно проломить. Вас это беспокоит? Нет? А почему нет? Крови моей хотите до такой степени, что уже обо всем забыли? Черта лысого вы получите, а не меня. Зубами загрызу, если придется. Попробуйте взять!
Попробовали. Вообще, соревноваться с ягами в скорости или силе – дохлый номер. Полные отморозки. Дикари. Никакой культуры…
Когда стало ясно, что оторваться от них уже не удастся, я нырнул в ближайший переулок, обогнул мусорную кучу и, пробежав мимо намертво закрытых ворот, спрятался за выступом стены. У меня была фора в шесть или семь секунд, и я использовал ее полностью – в то самое мгновение, когда я вжался в каменную стену, двое ублюдков достигли переулка. Пацан хотел было рвануть вперед, но дамочка его удержала. Догадливая стерва. Жаль, что я не прирезал ее еще в Кэлэмтоне. Да я, по сути, ее просто пожалел – и вот вам пожалуйста!.. А меня кто пожалеет, а?
Я почувствовал, как сужается ее внимание – она хотела точно определить место, где я прячусь. Я сделал все, чтобы помешать ей, но мог я сейчас не так много. Итог наших обоюдных действий был следующим: она знала, что я нахожусь совсем рядом, на расстоянии не более тридцати-сорока футов, но где именно – не узнала, не смогла пробиться.
Я услышал, как яги тронулись с места. Тогда я вцепился Советнику в горло и зашипел (мысленно, только мысленно – тело мое оставалось таким же неподвижным, как и стена, к которой я прижимался):
– Сделай что-нибудь!!!
– Что?.. – прохрипел полузадушенный Советник.
– Не знаю!!!
Он пискнул что-то уже совсем невразумительное, и я отпустил его. Советник находился в таком же отчаянном положении, как и я. Если меня сегодня прирежут, ему тоже придется несладко. Опять – бесконечное забвение, тьма, неизбывный голод, вечность, раздробленная на мгновения, каждое из которых наполнено мукой…
Яги за это время продвинулись еще на несколько шагов. Когда они обогнули мусорную кучу, Советник вошел в крысу и, бросившись на светловолосую стерву, вцепился ей в ногу. Он правильно выбрал цель. Она, не смотря на обучение, оставалась женщиной. Она не завизжала, но ее концентрация была нарушена. Она стряхнула с ноги крысу, юноша быстро повернулся к ней, я выскочил из укрытия и ударил его кинжалом – все это случилось одновременно. К сожалению, мальчишка все-таки успел уйти вниз и в сторону и вместо сердца клинок вонзился ему в плечо, но на обратном движении я располосовал ему руку от плеча до локтя. Один уже не боец, но что это меняло? Хотя я выиграл ход, партия была проиграна. Я своим мечом заблокировал клинок ягини, отвел его в сторону, крутанулся на месте и попробовал дотянуться до нее кинжалом… Кинжал только рассек воздух. Последнее, что я увидел в этот вечер – подкованный сапог, летящий мне прямо в лоб.
Потом наступила тьма.