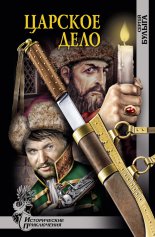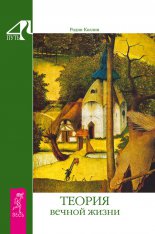Батареи Магнусхольма Плещеева Дарья
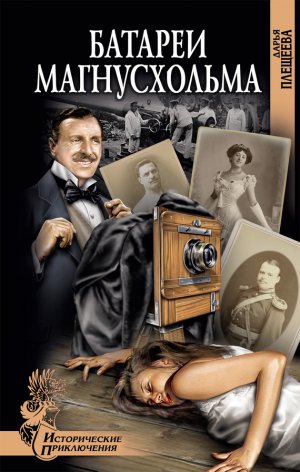
— Да, господин Гроссмайстер!
— Идем туда.
Но дошли не сразу — несколько раз пришлось прятаться от служителей, которые деловито ходили с тачками, граблями и вилами. Начинался их трудовой день. К тому часу, когда парадный вход открывался для посетителей, служителям полагалось закончить все дела и спрятаться.
Наконец Лабрюйер и мальчишки взобрались на холм и спрятались за угол «горного кафе».
— Вон, вон, — показал Кристап. — Посмотрите — они на этот круг садились!
Крыша «голубиного домика» была не простая — ее затянули белым полотнищем, посреди которого был красный круг, в поперечнике не меньше аршина, обведенный жирной черной линией.
Лабрюйер продолжал задавать вопросы и узнал — в первый раз птиц гоняли ночью, а когда уже немного посветлело — несколько голубей посадили в корзинки и унесли. Парнишки забеспокоились — не воровство ли это. Но оставаться до того часа, когда совсем рассветет, они боялись.
Естественно, они прикатили слишком поздно, чтобы успеть поставить велосипеды в сарай. Выкрутиться удалось, но им хотелось знать, что означает эта суета с птицами. Они поехали во второй раз — ближе к утру. При них голубей сажали в корзинки. Толстый мужчина взял две корзинки и понес к дыре в заборе. Мальчишки, хоть и трусили, но друг перед другом показывали неистребимое мужество. Поэтому они пошли следом и увидели, что мужчина увозит обе корзинки на автомобиле.
Тут они сообразили — птиц учат прилетать издалека в родной домик. Им стало любопытно — когда голуби вернутся, и они пошли обратно. Голуби вернулись поочередно, в течение получаса, когда было почти светло, и тот из мужчин, кто оставался при домике, стал брать их в руки и сажать в гнезда. Но на каждой из четырех птиц было что-то странное.
— Как маленький черный ранец, только спереди, — объяснили мальчишки.
— Хорошо, что вы все это мне рассказали и показали, — сказал Лабрюйер. — А теперь едем в кондитерскую!
Он знал недорогую поблизости от Матвеевского рынка, усадил там парнишек, купил им кофе с неимоверным количеством сливок, две тарелки с пирожными, а сам пошел в фотографическое заведение.
Нужно было рассказать о своем зоологическом вояже Хорю. При всей нелюбви к этому странному человеку.
Птицы, которые обучены прилетать в свой домик издалека, опознавая его сверху по красному кругу, неспроста были подарены фрау Бертой зоологическому саду. Чтобы убедиться в этом, Лабрюйер хотел увидеть план Риги и окрестностей.
Такой план имелся у Хоря — висел в лаборатории на стене.
Лабрюйер постучал в дверь.
Хорь сразу же вышел к нему — но с такой физиономией, как будто его поведут на эшафот.
— Добрый день, фрейлен Каролина, — зная, что где-то поблизости Ян, поздоровался Лабрюйер.
— Господин Гроссмайстер, я должен просить у вас прощения, — хмуро сказал Хорь. — Я был невежлив и вообще показал себя с отвратительной стороны.
— И в этом раскаиваетесь? — спросил сильно удивленный Лабрюйер.
— Я был неправ.
Лабрюйер видел — раскаянием тут и не пахло.
— Ладно, все это мелочи, — сказал он. — Я сейчас съездил в зоологический сад. Я не знал, что там обнаружу — а обнаружил что-то нехорошее. Мне нужен план Риги с окрестностями.
— Прошу вас, — с ледяной любезностью Хорь пропустил Лабрюйера в лабораторию.
Лабрюйер с четверть минуты смотрел на план.
— Не больше десяти верст, если по прямой. Есть в нашем ведомстве люди, которые занимаются голубиной почтой?
— Есть, господин Гроссмайстер.
— Нужна помощь такого знатока.
И он рассказал о своей вылазке в зверинец. Хорь слушал и кивал.
— Все совпадает и соответствует, — завершил Лабрюйер. — Голуби вместе с домиком доставлены в нужное место совершенно открыто, чуть ли не под духовой оркестр. Фрау Шварцвальд и кто-то из борцов тайно приезжают ночью в зверинец — мы это своими глазами видели. Они забирают голубей и везут их в северном направлении. Мне кажется, они постепенно увеличивают расстояние между «голубиным домиком» и той точкой, где выпускают птиц. Птицы изучают дорогу — насколько они вообще способны что-то изучать. В конце концов голуби доставляются на морской берег Магнусхольма, от которого до зоологического сада верст десять. При этом они пролетают над батареями, которые там возводятся. Но это имеет смысл, только если уже придумана фотокамера, которую можно прицепить к голубю. Я не знаю, что такое прицепляли к голубям, я это сам не видел, могу только предполагать.
— Такая камера придумана. Ее изготовил немецкий аптекарь Юлиус Нойброннер. И он же проводил опыты с почтовыми голубями. Я читал об этом… — Хорь задумался. — Горностай, как всегда, был прав — сюда следовало посылать именно меня. Я знаю, где взять сведения о почтовых голубях, и сегодня же этим займусь. Но ведь как все складывается к выгоде и пользе «Эвиденцбюро»! Леса почти облетели, и все строительство — как на ладони. А когда выпадет снег — так вообще будет замечательно!
— Будем ждать, пока выпадет снег? — спросил Лабрюйер. — Имейте в виду, им тут задерживаться не стоит — после смерти Адамсона…
Хорь так посмотрел на Лабрюйера, что тот понял: торжественные извинения можно считать недействительными. Но у Лабрюйера был еще один козырь в рукаве.
— Если вы справляетесь в фотографии без меня, то я, пожалуй, съезжу на Театральный бульвар. Я подсказал Линдеру, где следует искать моего крестника — того, с порванной рукой. Очень может быть, что он там, на бульваре, уже сидит и дает показания.
Не дав Хорю произнести хоть слово, Лабрюйер быстро вышел из лаборатории.
Ему осточертело это странное существо в «хромой» юбке, полосатой блузке и вороном парике. Он слишком долго считал Хоря чудаковатой эмансипэ, хотя и знал, что бог весть кому серьезное задание бы не поручили. Но, как всякий мужчина, он смотрел на «фрейлен Каролину» несколько свысока и прощал ей чудачества так, как сильный человек прощает слабого. Норовистый характер он тоже прощал — а вот когда все то же самое взялся проделывать Хорь, Лабрюйер был порядком раздражен.
Из салона Лабрюйер телефонировал Линдеру.
— Ты очень кстати! — сказал инспектор. — Можешь приехать сию минуту?
— Могу. Вы его взяли?
— Точно. Жду!
В комнате, где инспекторы Сыскной полиции проводили допросы, действительно сидел крупный парень с забинтованной рукой. За спиной у него стоял надзиратель.
— Входи, садись, — по-русски обратился Линдер к Лабрюйеру. — Полюбуйся на крестника.
— Он по-русски не знает?
— Ни в зуб ногой, — подумав, вспомнил смешную поговорку Линдер. — По-немецки понимает. Но молчит.
— Может, немой?
— Вряд ли.
— Ну, попытаюсь… — И Лабрюйер, перейдя на немецкий, встал перед молчуном и сказал одно-единственное слово:
— Дурак!
Выждав немного, он продолжал:
— Они уедут, а ты тут останешься. И тебе придется отвечать за все. Думаешь, Сыскная полиция забудет, что ты напал ночью на полицейского? Ты окажешься в тюрьме. Там не будет опытного врача, чтобы лечить твою руку. Ткани и мышцы срастутся неправильно. Ты будешь тут — с больной рукой, не сможешь заработать себе на жизнь, а они будут там — в Вене. И забудут о тебе, как только отъедут от Риги на пару миль. Посмотри на меня, дурак! Это я тебе руку порвал. Узнал теперь? И я не успокоюсь, пока ты не сгниешь на каторге!
Парень молчал, но по лицу было видно — все понял.
— Ты позавидуешь своему дружку — которому в подворотне свернули шею. Ты думал — рижская полиция по ночам спит? Нет — она за такими дураками, как ты, охотится. Ты нездешний, поэтому молчишь. Если заговоришь — я пойму, откуда ты родом. Твой покойный дружок — австриец, его по речи опознали. И ты, видать, тоже.
Парень опустил голову. Лабрюйеру даже стало жаль его — такие крупные, мордастые, туповатые верзилы часто становятся игрушками в чужих руках.
— И в тюрьме ты будешь жить на казенном пайке. А ты прожорлив, это сразу видно! Больше не будет колбасок, жаренных на сале, и копченого сала не будет, и ветчины, которую для бутерброда режут пластами в дюйм толщиной! А дадут тебе кашу на воде и кусок черного хлеба к чаю. Но ты и это не сможешь съесть — ты еще не научился держать ложку в левой руке. Так что молчи, сделай одолжение. А я позабочусь, чтобы в тюрьме тебе дали самых мерзких соседей по камере! Благодарю, господин Линдер. Я все этому дураку сказал, что хотел. Прощайте.
Лабрюйер гордо вышел из комнаты и усмехнулся. Сейчас умница Линдер объяснит верзиле, что зря тот разозлил сердитого высокопоставленного господина, нужно как-то исправлять положение. Линдер с виду — мягкосердечный красавчик и отлично этим пользуется…
У дверей Полицейского управления Лабрюйера ждал Росомаха.
— Я знал, что ты сюда побежал. Хорь там злится — ты его, видать, обставил?
— Черт его разберет. Пойдем куда-нибудь. Посидим и выпьем хотя бы водки.
— Это ты здорово придумал. Потому как на трезвую голову до сих пор не поняли, кто из борцов — наш. Сам же говорил — время поджимает.
— Поищем питейное заведение на Мариинской.
Заведение-то они нашли, но разговора не получилось — навстречу шел молодой атлет Иоганн Краузе. Он, судя по лицу и голосу, был рад встрече с Лабрюйером, так что за стол они уселись втроем. Росомаха был представлен заезжим из Москвы по делу промышленником.
— А где же ваш друг Штейнбах? — спросил Лабрюйер. — Вы ведь с ним неразлучны, как два голубка из не помню чьей басни.
Краузе вздохнул.
— Штейнбах на меня разозлился. И я даже не понимаю, в чем дело. Если она ему самому понравилась, отчего он за ней не ухаживает?
— За кем, господин Краузе?
— За дамой.
— Так, может, начнем с тоста за здоровье вашей дамы? — сразу предложил Росомаха, и Лабрюйер поразился, как быстро он входит в роль бесшабашного гуляки. Даже пьяный румянец, кажется, на щеках появился.
Краузе выпил стопочку шнапса, закусил подкопченной колбаской, на которую намазал порядочно горчицы.
— Называйте меня Ян, я ведь латыш, — жалобно сказал он. — Надоело корчить из себя немца…
— Ну так что позволил себе наш друг Штейнбах? — спросил Лабрюйер.
— Я решил поухаживать за фрау Шварцвальд, — признался Краузе. — Она хоть и говорит всем, будто замужем, а никто этого мужа не видел. И она на меня поглядывает!
— А что, ты парень красивый, что ж ей не поглядывать? — Росомаха засмеялся.
— Да, мне девушки это говорили… А она, фрау Шварцвальд, такая, такая…
Лабрюйер кивнул — возможно, фрау Берта, сама того не замечая, пустила в ход все свои уловки обольстительницы. Не могла иначе, когда рядом такой красавчик…
— А он меня чуть ли метлой отогнал! Взял на конюшне метлу… ну что это такое?.. Сказал — эта женщина не для таких, как я. Просто запретил! А кто он такой? Он у нас в чемпионате или предпоследний, или последний!
— Выпейте еще шнапсу, друг мой Ян, — сказал Росомаха. — Она женщина красивая, но для вас стара. Она старуха. Она только Штейнбаху в самый раз, потому что он тоже старик.
— Да, да! — воскликнул Краузе. И потом Лабрюйер с Росомахой насилу от него отделались.
— Вот как это прикажете понимать? — спросил Лабрюйер. — Он единственный из всех борцов заслуживает прозвища «Бычок». Значит, его ко мне подослали? Но что хотели этим сообщить?
— Он не похож на душителя, — заметил Росомаха.
— Не похож. Но если он — «Бычок», то всего можно ожидать. Я, кажется, напрасно выпил вторую стопку шнапса…
— Может, тебе прилечь? — спросил Росомаха. — У тебя вид — как будто ты три дня не спал. Там, помнишь, Барсук себе ложе оборудовал. Он сейчас на лесопилке, возит доски в лес — для строительства. Так что приляжешь в углу, а если что случится — я тебя подниму.
— Это мудрое решение.
Вернувшись в фотографическое заведение, Лабрюйер пробрался в угол за рулонами с задниками, разулся — и улетел…
Длился этот полет часа два, Лабрюйер проснулся сам, ощущая легкость и бодрость во всех членах. Он бы даже назвал это состояние молодостью. Но вот брюки помялись неимоверно.
Лабрюйер выглянул в салон. Там было пусто. Ян читал книжку. И в самом деле — кто в такую промозглую погоду вздумает запечатлеть свою физиономию?
Просмотрев конторскую книгу, Лабрюйер вздумал прогуляться. Вряд ли кто из приличных знакомых шастает сейчас по улицам и увидит его мятые штаны. Где-то в углу стоял нарочно для таких случаев приобретенный зонтик.
Он дошел до Александро-Невской церкви, вздумал было зайти, уже зонт сложил, уже перекрестился на наддверный образ, но посреди Александровской отчаянно затрезвонил трамвай, прогоняя с рельсов какого-то растяпу, и Лабрюйер невольно повернулся — взглянуть, что там такое. Трамвай прошел, а на противоположной стороне улицы он увидел супругов Красницких. Они откуда-то возвращались в гостиницу, вдвоем под одним зонтом, прижимаясь друг к другу, как юные любовники, и черные локоны задорно торчали из-под модной дамской шляпки-«корзинки», прикрывавшей пол-лица. Лабрюйеру даже показалось, что он слышит беззаботный смех счастливой женщины.
Он повернулся и пошел обратно — не пошел даже, потащился, глядя издали на эту пару. Так и вернулся в фотографическое заведение.
Хорь в образе «фрейлен Каролины» и Росомаха устраивали на помосте очередной пейзаж с рыцарским замком на заднике и готическим креслом посередке. К креслу они хотели приспособить драпировку.
— Это будет в старинном вкусе, душка, — говорил Хорь Росомахе. — Еще нужна маленькая скамеечка…
Тут дверь фотографии распахнулась и ворвалась госпожа Красницкая — без пальто, непричесанная, с безумными глазами. Она явно перебежала улицу перед конской мордой и летящим со скоростью сорок верст в час автомобилем.
А за ней вбежал господин Красницкий.
Прошло не более полутора секунд, прежде чем он схватил ее за плечо. Но она успела просигналить, глядя в глаза Лабрюйеру: сперва большой палец вверх, потом растопыренные пальцы обеих рук, опять большой палец, указательный — к уголку рта, два указательных — к ноздрям, опять один — к уху…
Красницкий не видел этих тайных знаков, а Лабрюйер видел — и вытаращил глаза.
— Извините, господа! — крикнул Красницкий. — Моя супруга больна, нервное расстройство! Я сейчас уведу ее.
Он буквально выволок супругу из фотографии. А Лабрюйер так и остался стоять, окаменев в дурацкой позе, почему-то с растопыренными руками.
— Что это было, Леопард? — тихо спросил Росомаха. — Кто из нас всех взбесился?
— Я не знаю.
— Она вам какие-то знаки подавала! — воскликнул Хорь. — Как это прикажете понимать?
Лабрюйер задумался, припоминая.
— Это же «немая азбука»! — вдруг догадался Росомаха. — У меня сестрица с подружками этак в окошко переговаривалась, когда мать гулять не пускала.
— Да, «немая азбука», — согласился еще не пришедший в себя Лабрюйер. — У гимназисток была в ходу…
— Вы, кажется, не гимназистка, — заметил Хорь. — С чего эта дама посылает вам тайные сообщения?
— Я не знаю.
— Да что это с вами? Ничего не знаете!..
— Хорь! — предостерегающе окликнул Росомаха. — Что Горностай говорил?
— Горностай этих сигналов не видел, а то бы много чего сказал…
Задребезжал телефонный аппарат.
— Господин Гроссмайстер, вас просят, — сказал Ян.
Лабрюйер подошел к аппарату.
— Ну, как? — спросил он.
— Заговорил! — весело ответил Линдер. — Утверждает, что чист, как дитя в материнской утробе, а во всю эту историю его втянул товарищ. Тот, которому шею свернули. Товарища он дважды, не подумав, назвал «Бычком», ну а я поправлять не стал.
— «Бычок»! — воскликнул Лабрюйер. — Ну, значит, одним подлецом меньше.
Подошел Хорь.
— Леопард, мне срочно нужен аппарат, — сказал он строго.
— Да погодите вы… Что он еще сказал?
— Он сказал, что старика убил «Бычок», а он тут ни при чем, его и близко не было. Что у «Бычка» был отличный нож… штык-нож, так он сказал…
— Погоди, Линдер, вот тут уже начинается вранье. Проверить-то мы не можем!
— Он еще говорит, что все дело в каком-то ребенке. Он хочет рассказать о ребенке. Ты понимаешь, о чем речь?
— Нет. Но ты попробуй узнать.
— Я еще с ним поговорю. И дам тебе знать.
— Хорошо.
Пустив Хоря к аппарату, Лабрюйер поманил Росомаху.
— Ты понимаешь? Если Краузе — не «Бычок», то, то…
— Погоди ты с умопостроениями. Объясни сперва, что означала эта тарабарщина.
Росомаха изобразил пальцами выкрутасы.
— Сейчас… — Лабрюйер принялся вспоминать «немую азбуку», которую показывала госпожа Ливанова. В этой азбуке была своя логика, только одна буква, кажется, оказалась вне логики, и это он сразу отметил — там, на лавочке, над каналом…
Буква «А»! Поднятый вверх большой палец при сжатом кулаке!
Именно это дважды показала Красницкая — но очень уж быстро. Но были еще растопыренные пальцы. Лабрюйер повторит то, что видел, и его большие пальцы составили вместе с указательными букву «М».
— «АМА»… — произнес он.
— Ну, «АМА», а дальше что? Вроде так было? — Росомаха коснулся указательным уголка своего рта.
— Это «Г».
— «АМАГ». Тарабарщина… А с чего она вообще взяла, будто ты знаешь эту «немую азбуку»?
— «АМАГ», — повторил Лабрюйер. — Потом она подняла левую руку, кончиками пальцев — к ноздрям.
— Так? — Росомаха воспроизвел жест.
— Это же «Н»! — воскликнул Лабрюйер и ткнул себя пальцем в ухо. — Потом — «У»!
— «АМАГНУ»?
— Получается, что так. И потом… кажется… она убрала палец от уха и сделала так?
— Так, — Росомаха обнял большим и указательным воображаемый стакан. — «АМАГНУС»? Магнусхольм, что ли? А почему «А» вначале? Это ведь не могла быть ошибка.
— Чем вы занимаетесь, господа? — спросил завершивший телефонные переговоры Хорь.
— Расшифровываем сигнал, — сказал Росомаха. — Получилось «АМАГНУС». Есть такое слово в природе?
— Это нужно в латинском учебнике смотреть, — ответил Хорь. — Леопард, вы напали на верный след. В Австро-Венгрии есть военно-голубиная почта, а кавалерийские части имеют передвижные голубятни. Но там это целые дома на колесах. У нас такое тоже завели, но чертовы австрияки, похоже, нас обогнали.
— Чертов прогресс! — воскликнул Росомаха. — Ведь у нас все было не хуже! И журнал даже имелся — «Вестник голубиного спорта». А как понадеялись на все эти провода и азбуку Морзе!.. Рано голубя в отставку отправили! И мы с Барсуком хороши, старые дураки. Как только стало ясно, что враг окопался в цирке, нужно было в первую очередь о голубях подумать…
— «А» — значит «аларм»! — воскликнул Лабрюйер.
— Вы о чем? — не сразу сообразил Хорь.
— «Аларм — Магнусхольм», вот что означал сигнал.
— Ну и что?
— Не знаю. Она хотела что-то сказать про Магнусхольм.
— И что бы это могло быть?
— Понятия не имею! — Лабрюйер вдруг разозлился.
— «Тревога на Магнусхольме», — расшифровал Росомаха. — Она хотела сообщить тебе, Леопард, именно тебе, что там какая-то тревога?
— Мы уже висим у них на плечах, и она хочет купить себе жизнь и свободу! Обычная хитрость, понимаешь? Обычная хитрость! Она делает намек — а потом просит за него платы! Ты что, с осведомителями дела никогда не имел? Когда мелкое ворье прижмут, оно начитает торговаться и выдавать крупные фигуры! — Лабрюйер вдруг ощутил, что его бьет дрожь. — Так и тут аккурат то же самое!
— Но отчего таким дурацким способом?
— Господа, ступайте со своими разговорами в какой-нибудь чулан! — приказал Хорь.
— Она могла приготовить и бросить записку, прислать рассыльного с запиской! — не унимался Росомаха. — Тут что-то не то!
— Тут театральное представление! Или цирковое представление! Десяти минут не прошло, как она шла по улице с мужем чуть ли не в обнимку! Голубки чертовы! — Лабрюйер понимал, что нужно прекратить этот разговор, но уже не мог — злоба им владела, оседлала его, и эта злоба отпустила поводья…
— Она сняла пальто и шляпу, отдала мужу и вбежала сюда? — Росомаха, оказывается, был въедлив, как концентрированная кислота. — А он здесь появился уже с пустыми руками?
Лабрюйер ничего не хотел знать и понимать.
Ему было стыдно — за того себя, которого словно на ниточке потащили за придуманной и фальшивой Иоанной д’Арк.
Он посмотрел налево, направо, ничего спасительного для себя не обнаружил и выскочил на улицу, хлопнув дверью.
— Умишком тронулся! — сердито сказал Хорь и ушел в лабораторию.
— Не цепляйся к нему. С ним неладно, — ответил Росомаха. — Если Горностай уже здесь, надо с ним потолковать…
И он поспешил следом за Хорем.
Лабрюйер не знал, что ровно через две минуты после его побега в фотографическое заведение ворвалась Ольга Ливанова в криво застегнутом пальто и съехавшей набок шляпке.
— Мне нужен хозяин фотографии, — по-русски заявила она.
— Он вышел ненадолго, — дипломатично ответил Ян. — Садитесь, обождите, пожалуйста.
— Он нужен мне срочно!
— Сейчас я позову фрейлен Менгель, она вполне может его заменить…
— Нет, мне нужен именно он!
Ян все же заглянул в лабораторию.
Хорь вышел в салон и узнал Ольгу.
— Ольга Александровна, что случилось?
— Вы меня знаете?
— Как не знать. Садитесь… Вы бежали? Ян, налей воды…
— Мне нужен сам господин Лабрюйер.
Хорь внимательно посмотрел на Ливанову.
— Вы попали в беду? Вас опять преследуют?
— Нет, не я! Я ей говорила, что это добром не кончится…
— Кому?
— Наташе… Наталье Красницкой, если угодно!
Хорь уставился на Ливанову круглыми глазами.
— Вон оно что! Ольга Александровна, пойдем, тут вас могут увидеть с улицы. И говорите со мной так, как хотели говорить с господином Лабрюйером. Я не знаю, когда он вернется, а сейчас, похоже, каждая минута дорога.
— Да! Но я вас не знаю.
— Пройдите сюда, — Хорь пропустил ее в узкую дверь, что вела во внутренние помещения фотографии, и сразу же, как эта дверь затворилась, стащил с головы вороной парик.
— Может быть, вы узнаете меня, — сказал он. — Помните ту ночь, когда на вас напали? Помните, как вас вырвали из рук убийцы в подворотне? Посмотрите на меня внимательно… Помните, я вас отпихнул и по-русски приказал: бегите? Ну? Вспомнили?..
Глава двадцать вторая
Холод замечательно прочищает мозги и мобилизует умственные способности.
Лабрюйер выскочил из фотографического заведения в одном пиджаке. Его понесло в сторону Матвеевского рынка — и занесло бы чуть ли не до новой Гертрудинской церкви, кабы не дождь. Он заскочил в кондитерскую за рынком, взял чашку кофе со сливками и кусок яблочного штруделя. Если по уму — нужно было потребовать коньяка. Но в кондитерских такого крепкого напитка не водилось, а тминный «Алаш» — дамский ликер, если выпить полноценную мужскую дозу — все потроха слипнутся.
Пока Лабрюйер грелся горячим напитком и заедал вспышку ярости штруделем, в голове сложилось верное решение. Нужно довести до конца всю эту историю с фрау Бертой, Красницкими и прочими врагами Отечества, а потом честно признаться — взялся не за свое дело. Может, стал с возрастом неуживчив. Может, слишком много зла накопил по милости Хоря, и все попытки Барсука с Росомахой наладить хорошие отношения были тщетны. В общем, следует наконец вернуться в полицию — и пропади она пропадом, эта фотография. Ходишь по собственному заведению и боишься дверь в чулан отворить — вдруг там сидит какой-нибудь питерский гость и приклеивает бороду или прилаживает фальшивый бюст?
И еще эта «немая азбука» — что за наваждение?..
За прилавком кондитерской стояла сдобная и улыбчивая фрау — лучшая реклама товара. Лабрюйер спросил, нельзя ли поблизости приобрести зонтик — обычный мужской зонтик. Оказалось, что фрау его знает, бывала в «Рижской фотографии господина Лабрюйера». В кондитерской служил мальчишка-рассыльный, его послали за зонтиком. И вскоре Лабрюйер входил в свое окаянное заведение, полностью готовый к серьезному разговору с Хорем.
— Господин Гроссмайстер, все уехали, — обрадовал Ян.
— Кто — все?
— Фрейлен Каролина, ее жених, еще один господин, который сидел в лаборатории…
— Та-ак…
Женихом, очевидно, был Росомаха. А что за господин скрывался в темной лаборатории? И сколько дней он там скрывался? Барсук, говорили, был в Мюльгравене…
— Вам оставили записку.
— Давай сюда.
Записка была на русском, писал Хорь:
«Немедленно отправляйтесь на Магнусхольм. От рыбацкого поселка на берегу Двины идите к Царским камням. Там действуйте по обстоятельствам. Возьмите оружие и все патроны, сколько их у вас имеется. А также спички и смоченную в спирте тряпку».