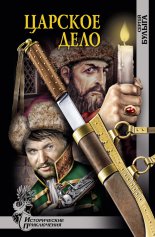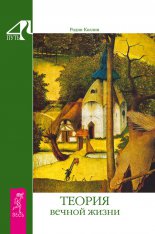Батареи Магнусхольма Плещеева Дарья
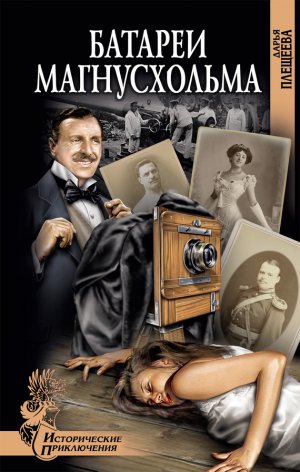
— Да, она еще пригодится, — деловито ответил Линдер. — Телефонируй мне вечером домой, я уже что-то буду знать.
— Портфель Адамсона не нашелся?
— И китель не нашелся.
Лабрюйер задумался — наводить ли инспектора Линдера на цирковых борцов и на Красницкого. Навести нетрудно — только не будет ли от этого больше вреда, чем пользы?
— Ты что-то хотел сказать, Гроссмайстер? — спросил Линдер.
А во взгляде было: ты, старый приятель, знаешь про это двойное убийство больше, чем говоришь.
— Я спросить хотел — чем убили Адамсона. Поверхностный осмотр ничего не дал.
— Сделали вскрытие. Патологоанатомы с этим уже имели дело — доза снотворного средства, от которой сердце не выдержало.
— Опоили…
— Не сам же он, приняв эту дозу, пошел помирать к собору, предварительно раздевшись. Причем там еще такая тонкость — если бы он выпил этой дряни немного больше, то желудок ответил бы рвотой, и Адамсон уцелел. А так — или кто-то хорошо разбирался в фармакологии и знал, что у Адамсона слабое сердце, так что сумел подобрать нужную дозу, или — роковая случайность.
Лабрюйер покивал. Это действительно была роковая случайность. Смерть Адамсона была Красницкому и его компании совершенно некстати. Если бы он увидел или услышал что-то подозрительное — его бы уничтожили не снотворным, а более надежным средством. Скорее всего, военного инженера усыпили, чтобы сделать копии с чертежей в его портфеле. И, поскольку ныне век прогресса, использовали фотокамеру…
Линдер ждал, пока Лабрюйер заговорит.
— Знаешь, Линдер, я скажу тебе кое-что или вечером, или завтра.
— Хорошо, Гроссмайстер.
Больше вопросов Линдер не задавал.
Совсем недавно он принял участие в розыске по делу об убийстве, в котором пытались обвинить Валентину Селецкую, а в итоге понял, что бывший полицейский инспектор Гроссмайстер связался с какими-то тайными и секретными ведомствами в российской столице. Поэтому он не приставал с расспросами — только смотрел выразительно, а Лабрюйер отводил взгляд. Но ему это уже надоело.
Нужно было наконец прямо поговорить с бывшей Каролиной, а ныне — Хорем. Нужно было объяснить этому юному и наглому созданию, что здесь, в Риге, он, Хорь, — чужой, а Лабрюйер — свой, что лучше не самому шастать по ночам, а договориться с Сыскной полицией, поделиться с ней сведениями — и она в ответ чем-нибудь поделится, хотя бы агентами.
Но «нужно» и «будет сделано» — слова, вылепленные из разного теста.
Лабрюйер вернулся в фотографическое заведение. Там шла работа — Хорь в полном боевом облачении Каролины делал портрет двух сестричек-близняшек, хорошеньких, как ангелочки.
Когда девушки ушли, Хорь проводил их тоскливым взглядом. Лабрюйер злорадно подумал: тебе бы, поганцу, сейчас за ангелочками ухлестывать, стишки господина Бальмонта им читать, выдавая за свои, за ручки держать и поцелуев домогаться, а ты изволь шуршать юбками, беспокоясь, как бы не слетел парик.
Вспомнился томик Бальмонта с закладкой и вспомнились стихи:
Она отдалась без упрека,
Она целовала без слов…
Лабрюйер не был догадлив, когда дело касалось женщин, но злорадство вдруг обострило его сообразительность. Ну да, о ком же еще мечтать Хорю? Только о женщине, за которой не придется ухаживать и вычислять подоплеку ее капризов! О такой, которая ничего не попросит и под венец за ухо не поведет! А просто ляжет в твою постель без рассуждений. Но при этом она еще должна быть красивой. И молчаливой.
Невольно вспомнилась Лореляй…
Казалось бы, целую вечность знакомы, он — охотничий пес, она — верткий заяц. А поди ее разбери. Там, где полагал найти простоту, поскольку воровке умственных выкрутас сочинителя Достоевского не полагается, обнаружил что-то непонятное.
— Вы говорили о третьем выходе из цирка, — уныло напомнил Хорь.
— Я не удивлюсь, если там есть и четвертый. Под цирком ведь подвалы. Черт их знает, как подвалы в этом квартале меж собой соединяются.
— Никак они не соединяются. Мы это уже проверяли. Если бы соседние дворники про такое знали — то за небольшие деньги все бы показали. А они не знают…
Лабрюйер надулся — ему следовало давным-давно знать про подвалы. А как-то так получилось, что не знал.
— Дайте карандаш и бумагу, — потребовал он. — И еще — я понимаю, что в присутствии столь важной персоны не смею рта разинуть, но недурно бы наладить присмотр за Красницкими.
— Налажен. Не беспокойтесь, Леопард, рисуйте лучше план циркового двора.
Это было сказано несколько свысока.
Лабрюйер запомнил интонацию.
Запечатлеть в зрительной памяти, чего и где нагромоздили во дворе дирекция и артисты, смог бы, пожалуй, только большой знаток и любитель фортификации. Как шла по зданию цирка заброшенная лестница, Лабрюйер тоже не очень четко понимал. Но в общих чертах набросал план верно.
— И вот тут можно подобраться к забору, — объяснил он. — Штурмовать забор со двора, с земли, довольно сложно, нужна лестница. Оставлять у забора во дворе лестницу, чтобы вернуться обратно, рискованно. Там рано утром выгуливают собак и лошадей, привозят фураж, увозят навоз. А у человека есть такое свойство — он все больше под ноги смотрит. Если с улицы бесшумно перебраться на крышу, которая примыкает к забору, то люди во дворе могут этого вовсе не заметить.
— Знаю я это свойство… Здесь у нас Парковая улица… Так…
Лабрюйер мысленно посмеивался — не знающий улицы Хорь пытался, глядя на план, понять, где ставить засаду. Дав ему помучиться, Лабрюйер сказал:
— Вот тут пивной погребок. Туда ведут ступеньки — то ли три, то ли четыре. Если на них сесть, то можно, повернувшись боком, с удобствами наблюдать за воротами.
— Благодарю… Будьте любезны, Леопард, прогуляйтесь там. Вы знаете латышский — так спросите дворников, не оставляют ли на Парковой ночевать автомобили. Вам охотнее ответят. Если оставляют — то где.
— Разумно… — пробормотал Лабрюйер. Разумно было еще другое — Хорь давал ему возможность болтаться по городу, не деля одно пространство со своей спесивой персоной.
Выйдя из фотографического заведения, Лабрюйер зашел во «Франкфурт-на-Майне» — поесть. Заодно спросил буфетчика о Красницких. Они все еще сидели в своем номере.
Пообедав и выпив кофе, Лабрюйер спросил свежие газеты.
Китайские войска зверствовали в Монголии; ходят слухи, что экспедиция лейтенанта Седова на «Св. Фоке» провалилась — судно затерто льдами; в Париже изловили фальшивомонетчиков, которых назвали «русскими», хотя как раз национальность внушала сомнения; для копирования кредитных билетов они непонятным Лабрюйеру образом использовали электричество. В Риге всех озадачила очередная студенческая проделка — в витрине магазина Мушата непонятным образом появилась фигура, выглядывающая из складок тканей и кажущая зевакам двумя руками длинный нос. Голова фигуры была искусно изготовлена из папье-маше и сильно смахивала на профессора Вальдена…
На Парковой улице у дворников было мало работы — орманы и телеги возчиков там появлялись не слишком часто, не было нужды бегать с большим совком и метлой за каждой кучей конского навоза. Цирковые ворота были на нечетной стороне. Лабрюйер прошел по четной, внимательно разглядывая ворота и забор. Место, где, по его мнению, вылезали со двора, было самым обыкновенным — выбоин в стенке не наблюдалось. Оставалось предположить, что борцы, выбираясь ночью из цирка, спускают спрятанную на крыше лестницу или узловатую веревку, потом втягивают обратно.
Улица была очень тихая. Шумными были идущие от бывшей крепости параллельно друг дружке длинные Мариинская, Суворовская, Дерптская, Александровская. А Парковая была поперечная и совсем короткая. Очень даже подходящая улица для пивного погребка — чтобы мужчины, малость перебравшие, не вываливались оттуда прямо под конские копыта или автомобильные шины.
Лабрюйер зашел в погребок, взял маленькую кружку бауского и, попивая славное пиво, осведомился — много ли автомобилей ночует на улице. Конечно, этой адской машине место в гараже, но не во всяком городском квартале найдется пространство для гаража.
— У нас тут дворы маленькие, — согласился парень за стойкой. Лабрюйер знал — его звали Фриц, на латышский лад — Прицис, и жил он в этом же квартале, во дворе. — Только цирковой, говорят, огромный.
Он в марках автомобилей не разбирался, но приметил два — большой красный и зеленый. Эти довольно часто ночевали на Парковой.
— И не боятся же хозяева, что их угонят, — удивился Лабрюйер.
— Они что-то такое делают, вроде как лошадей стреноживают. Что-то к колесам прицепляют и вовнутрь засовывают.
— Значит, всего два?
Фриц задумался.
— Два — это постоянно. Это автомобили господина Гринмана, он адвокат, и господина Келлера, он кем-то в ратуше служит. Но недавно еще чей-то появился.
В погребок ввалилась компания студентов, и Лабрюйер отошел со своей кружкой в угол.
Студенты обсуждали тот фурор, который произвела в Риге голова с руками, оказавшаяся в витрине магазина Мушата. По тому, как они хлопали по плечам и поздравляли двух молодых людей, Лабрюйер понял — эти-то и есть главные затейники. Пока допил пиво — узнал кое-что еще…
Студенческая компания была занята собой, и Лабрюйер подошел к стойке.
— Так чей же автомобиль прибавился?
— Кто его разберет, на нем не написано. Его не каждый вечер ставят.
Оказалось — иногда он появляется с наступлением темноты; уследить, кто его пригоняет, Фриц не сумел, да и не любопытствовал; утром он, хотя и приходил рано, никогда этого черного автомобиля не видел; минувшим вечером он также отсутствовал.
Разобравшись, где стояли все три автомобиля, Лабрюйер еще прошелся по Парковой. Он хотел понять, можно ли устроить за капотом засаду. И с большим удовлетворением отметил — на ведущих к погребку ступеньках сидеть и караулить куда как удобнее.
Теперь можно было возвращаться в фотографию.
Немного сомневаясь в том присмотре, который Хорь устроил за Красницкими, Лабрюйер зашел во «Франкфурт-на-Майне» и спросил Вольфа, не появлялась ли эта пара.
— Как же не появлялась! Вышли оба такие веселые, то он захохочет, то она. Я даже выглянул — что там у нас такое? А это они! Идет, друг к дружке жмутся, даже завидно стало, — усмехнулся буфетчик. — Куда-то в гости собрались.
Лабрюйер беззвучно, даже без движения губ, прошептал:
— Тварь…
Потом он дал буфетчику полтину. Тот получал обычно более крупные чаевые, но и полтине был рад, полтина — это двухфунтовый судак к воскресному столу.
В прескверном расположении духа Лабрюйер пришел в свое заведение. Ян сидел на видном месте в ожидании припозднившихся клиентов и читал книжку. Лабрюйер знал — парень мечтает стать инженером, и книжка, скорее всего, какой-нибудь мудреный учебник физики.
В лабораторию Лабрюйер был впущен без затруднений. Одиночество Хоря скрашивал Росомаха. Увидев Лабрюйера, он заулыбался.
— Хорь сказал, ты должен нужные сведения принести.
— Принес, — и Лабрюйер передал все, что рассказал ему Фриц.
— Значит, все правильно — именно этой ночью у нас есть шанс. Я, честно сказать, сомневался, но у Хоря же нюх… Ну, потрудимся сегодня, благословясь! — весело сказал Росомаха. — Ты меня еще в деле не видел. Как раз увидишь.
— Надеюсь, — буркнул Лабрюйер. — Если я никому не нужен, то отойду ненадолго.
— Можете даже вздремнуть, — позволил Хорь. — Поставьте только будильник на одиннадцать. Встречаемся на углу Парковой и Суворовской.
Перед бурной ночью следовало плотно поесть. Не так, чтобы в сон потянуло, а в меру — для бодрости духа. Лабрюйер по привычке, а менять свои привычки он не любил, отправился во «Франкфурт-на-Майне».
У входа он столкнулся с Красницким.
Тот возвращался в гостиницу один — и явно был чем-то озабочен. А время — такое, что даме в одиночку не следует по улицам бродить. И где он оставил супругу — оставалось только гадать. Если собирались в гости — то, может, там, в гостях, она и сидит теперь? Поссорились, наверно. Или же…
Лабрюйер не думал, что исчезновение госпожи Красницкой вызовет в душе хоть тень тревоги. Она — соучастница преступления, и если агенты «Эвиденцбюро» собрались покидать Ригу — может статься, они не захотят тащить с собой русскую женщину. Даже сообщницу… Даже такую, что наутро после убийства ни в чем не повинного человека весело хохочет…
Вдруг Лабрюйеру впервые в жизни захотелось дать пощечину женщине.
Он никогда бы не ударил по лицу Лореляй или Трудхен — разве что сжал предплечье до синяков. Воровки — они и есть воровки, ангелов из себя не строят. А эта… Иоанна д’Арк, чтоб ей!.. Безупречное благородство профиля и кудрей!.. Сам ведь чуть не попался. Фрау Берта — та хоть честно говорит: да, я блудливая кошка, ничего во мне возвышенного.
Он сам не понимал, чего именно не может простить Красницкой. Убийство Адамсона было не главным ее грехом, увы, не главным.
Минуту спустя он опомнился. Не пощечина, нет — а просто молча посмотреть ей в глаза. Она не устыдится, какой уж там стыд. Она, скорее всего, испугается. Вот и прекрасно.
С перепугу она попытается сбежать. Но ведь после смерти Адамсона вся эта шайка уже, можно сказать, сидит на чемоданах. Получится неплохая провокация…
А что скажет Хорь?
Поскольку Хорь сам разводит таинственность и ничего не рассказывает, то и ему рассказывать про один-единственный взгляд совершенно незачем.
Лабрюйер подозревал, где Красницкий мог оставить супругу: неподалеку, в доме профессора Моруса. Там, где веселый дамский кружок репетировал «живые картины».
Там, где бывали молодые гарнизонные офицеры и военные инженеры… Те, что укрепляли Усть-Двинск и возводили новые батареи на Магнусхольме.
Предлог, чтобы явиться в дом к Морусу в такое время, у него был. Студенты! Витрина в магазине Мушата! И не ловля безобразников, а благородная попытка предупредить их…
Никакой дамский кружок у Морусов в этот вечер не собирался, Красницкой там не было. Госпожа Морус еще раз поблагодарила за отличные фотокарточки. Сейчас она была хозяйкой дома и матерью семейства — следила за тем, как дети делают домашнее задание.
Господин Морус принял Лабрюйера в кабинете.
— Простите, что так поздно, — сказал Лабрюйер, — но шалопаев нужно выручать. Сам когда-то такой был, да и вы тоже…
Профессор усмехнулся.
Никому не удалось доказать, что именно он тридцать лет назад тайно принес в аудиторию черного кота, предварительно обрызгав пол и кафедру валерьяновыми каплями.
— Надо бы съездить к господину Мушату, по-хорошему с ним договориться, пока в полиции делу не дан ход, — продолжал Лабрюйер. — Я Мушата знаю, он сперва будет норов показывать, потом быстро угомонится. Да ведь и убытку ему не было, только публика перед витриной толклась…
— Если шалопаи залезли в витрину, ничего не попортив, то он скоро успокоится. Но как-то же они там укрепили эту голову с руками. Не дай бог, что-то повредили.
Рассказав о беседе в погребке и потолковав о студенческих проделках былых времен, Лабрюйер стал прощаться, но госпожа Морус предложила ему чашку чая с домашними пирожками. Она позвала к чаю своего старшего, Митю, он сразу не отозвался, и Лабрюйер заглянул в комнатку, где жили оба юных Моруса, Митя и Алеша. Младшенький был в гостях у соседа-однокашника, Старший заканчивал чертеж и не хотел от него отрываться.
Лабрюйер подошел к большой, во всю стену, карте Российской империи.
— Где бы тут могла быть Вологда? — спросил он.
— Вот тут, — показал гимназист.
— А Керчь?
— Здесь.
— Ого… Сколько ж между ними?
— Если по прямой — тысячи полторы верст, — подумав, сказал Митя.
Стало быть, где-то на этом пространстве обретается ныне старый мудрый причудник Самсон Стрельский… И антрепренер Кокшаров со своей подругой Терской, и вся компания артистов, с которыми Лабрюйер играл этим летом в ехидной оперетке «Прекрасная Елена»… и Валентиночка Селецкая — вместе со всеми…
Как то сложилась ее судьба? Может, встретила богатого поклонника? Может, даже позвал под венец?
Глядя на карту, Лабрюйер все яснее понимал, что никакой Валентиночки в его жизни не было. А что же было? А одиночество…
Он вернулся в гостиную, где на краю большого стола горничная приготовила чай на четыре персоны.
Гимназистка Сашенька сидела за тем же столом, но с другого конца, срисовывая картинку из книги. Лабрюйер посмотрел из любопытства — это был тяжеленный том Шиллера издательства Брокгауза и Ефрона, а на картинке — Орлеанская дева в доспехах.
Сходства с госпожой Красницкой, впрочем, не было — и на том спасибо.
— Скажите, барышня, в котором томе баллады Шиллера? — спросил Лабрюйер.
Сашенька встала и взяла из книжного шкафа нужный том. Затем помогла найти балладу о рыцаре Тогенбурге.
— Я тоже ее люблю, — призналась девушка и продекламировала вполголоса:
- И душе его унылой
- Счастье там одно:
- Дожидаться, чтоб у милой
- Стукнуло окно,
- Чтоб прекрасная явилась,
- Чтоб от вышины
- В тихий дол лицом склонилась,
- Ангел тишины…
— Дайте… — внезапно охрипнув, попросил Лабрюйер и закашлялся. — Дайте, пожалуйста, книгу…
Он принял в обе руки тяжелый том и, отойдя в сторонку, молча прочитал балладу.
Получилось вроде еще одной панихиды. Лицо Адамсона повисло перед глазами, голос его перекрывал стихотворные строчки:
— Я просто хочу ее видеть… я должен ее видеть… хочу ее видеть…
— Тварь, — ответил мертвому Адамсону Лабрюйер. — На каторгу…
Идти на свидание с Хорем и Росомахой было рано. Лабрюйер подумал — и, распрощавшись с Морусами, медленно пошел в фотографическое заведение.
Там он обнаружил Барсука.
— Садись, вместе подумаем, — предложил Барсук. — Вот давай рассуждать. По сведениям нашего агента, в Ригу приехали за планами будущих укреплений Магнусхольма шесть человек. «Щеголь» и «Атлет» — скорее всего, Красницкий и один из борцов. «Бычок»… Эта кличка говорит, что человек умом не блещет, зато силен, как бык. «Клара» и «Птичка» — Это Красницкая и Шварцвальд. Остается «Дюнуа». И то, что у нас даже предположений никаких нет, — дурной знак. Значит, мусью Дюнуа очень хорошо от нас прячется. Вывод?
— Значит, он в этой компании главный?
— Боюсь, что да. Мы можем хоть сегодня ночью взять Красницких, Шварцвальд и борцов. Невелика наука!.. А главного-то упустим…
— А время поджимает.
— Да, брат Леопард, время поджимает.
— Я телефонирую Линдеру. Может, уже удалось изловить того мерзавца, которому я руку порвал.
— Уж не в Кайзервальде ли он окопался?
Барсук пытался умозрительно вычислить, кто этот самый Дюнуа и где прячется.
— Вот будет штука, если я ему ручку повредил, — заметил Лабрюйер.
— Я очень удивлюсь, если это так. Хорь тоже об этом много думает — да разве от него правды добьешься? Пока все в голове не сложит одно к одному — молчит. А мне ведь обсудить охота…
Лабрюйер покачал головой.
Потом он надел старое пальто, оставил Барсука в фотографии и пошел к углу Парковой и Суворовской.
Суворовская получила свое гордое название отнюдь не в честь полководца. А в честь его внука, Александра Аркадьевича, бывшего в середине минувшего века рижским генерал-губернатором. Проходя мимо Верманского парка. Лабрюйер вспомнил — когда-то ведь там на открытой эстраде играл по вечерам оркестр, нанятый Суворовым за свои деньги, — чтобы поладить с рижанами. Какая-то музыкальная фраза образовалась в голове, пронеслась пестрой птахой — и истаяла, погасла. И он подумал, что уже очень давно не пел…
В юности пела душа. Потом, наверно, пело страстное желание, не получавшее иного выхода. Потом — за деньги… А теперь-то отчего пришло на ум запеть? Вот просто так, шагая по темной улице под облетающими липами, уже принадлежащими парку? Без повода — потому что радостных поводов в последние дни не было вовсе?..
Этого он не знал.
Глава двадцатая
Лабрюйер иногда бывал некстати пунктуален.
Сам он объяснял это долей немецкой крови. Ею же — свою неожиданную мрачность, случавшуюся тоже некстати, и необщительность. Вернее, та общительность, которую взращивали и возделывали в добропорядочных немецких семействах, была ему чужда, и он иногда успешно скрывал это, притворяясь своим в застолье, а иногда скрывать не желал.
Алкоголь позволял быть обычным веселым человеком. Удивительно еще, что сей соблазн удалось одолеть сравнительно легко.
Придя на нужный перекресток ровно в указанное время, Лабрюйер там никого не обнаружил и хмуро сказал сам себе: непорядок, да и можно ли ждать порядка от человека таких кровей? Не то чтобы Лабрюйер не любил чистокровных русских, — он отлично ладил со всеми, кто вел себя с ним по-человечески, да хоть с китайцами, но Хорь задирал нос, и тут уж всякое лыко шло в строку. Хорь был самой заурядной русской внешности, более того — какой-то деревенской внешности, и Лабрюйер, отдав должное его актерскому мастерству, все же был сильно недоволен тем, что не разгадал маскарада.
Прогуливаться по Парковой он не стал — мало ли кто там теперь бродит, мельтешить незачем. Торчать на углу тоже было незачем. Лабрюйер, не останавливаясь, миновал перекресток, прошел до улицы Паулуччи, перешел на другую сторону и вздохнул: парк на ночь запирался, а хорошо было бы посидеть на чугунной скамейке…
Хорь опоздал на пять минут, но извиняться не стал.
— Идите первый к той лестнице, я за вами, — приказал он.
Лабрюйер и пошел — вплотную к стене, быстрой легкой поступью, почти пробежкой. В пространство, образованное ступеньками и дверью, он не сошел и не соскочил, а как бы стек и сразу уселся поудобнее. У Хоря это так ловко не получилось, и Лабрюйер быстро подхватил его, чтобы начальство не вмазалось лбом в дверь.
— Погребок еще открыт, там студенты бузят, — сказал Лабрюйер. — Слышите? И его не закроют, пока эта бесноватая публика не уберется. Выпивают-то они немало.
— Дверь вовнутрь открывается?
— Да, и вы ее чуть лбом не отворили.
— Тогда — ничего.
Хорь, видать, тоже был упрям.
Теперь, находясь примерно посреди квартала, Лабрюйер мог окинуть его взглядом. На Парковой стояли четыре автомобиля, из них два — заведомо черных.
— Вы ничего не хотите рассказать? — вдруг спросил Хорь.
— О чем?
— О своих визитах в цирк. Тогда, когда вы туда повадились, мы еще не поняли, что такое фрау Вальдорф и борцы. А вы туда ходили, как на службу.
— Значит, за мной следили и знали, что я пошел в цирк? — сердито спросил Лабрюйер.
— Пришлось. Мы не знали, можем ли на вас положиться, Леопард, — сказал Хорь. — Вас нам… Ну да ладно. Вы ведь могли поверить фрау Шварцвальд и сказать ей лишнее. Один раз удалось отогнать от вас эту даму моей беременностью, но в другой раз было бы сложнее — пожалуй, пришлось изобразить бы преждевременные роды. Так что извините — когда имеешь дело с хитрой тварью, лучше перестраховаться.
— Меня вам навязали. Требовался рижанин, который хорошо знает город и горожан. Время, наверно, поджимало — ничего получше не нашлось, — язвительно ответил Лабрюйер. — Ну так это вы уж извините!
— Обменялись любезностями, — заметил Хорь. После чего они оба молча таращились на цирковые ворота.
— Это не имело отношения к вашим делам, — наконец сказал Лабрюйер. — Просто я помог найти отравителя цирковых собачек. Вот и все. Соскучился по своему проклятому ремеслу, понимаете?
— Понимаю. А фрау Шварцвальд оказалась очень понятливой особой.
— Она что-то от меня узнала? Я разболтал государственные тайны?
— Хотел бы я сам знать, что эта публика от вас узнала. Уж если за вами следили — то могли до чего-то докопаться.
— Не могли. Поскольку я был для вас живой вывеской, только что не из жести склепанной, и сам ничего не знал, то они могли ходить за мной хоть до второго пришествия.
— Это вы сейчас так говорите.
— Вы запутались и пытаетесь понять, что делали не так, господин Хорь. И, конечно, ищете виновных, — жестко сказал Лабрюйер. — В ваши годы такое случается.
Хорь не стал возражать — похоже, очень удивился суровому отпору.
И опять они молча смотрели на ворота, а время меж тем шло и шло, а студенты за дверью пели совсем уж дурными голосами знаменитый и пресловутый «Gaudeamus igitur».
Вдруг Хорь стал тихонько подпевать:
- Виват университет,
- Общий наш учитель,
- Совершенный чистый свет,
- Прошлых нам веков завет,
- Будущих хранитель!
- Ура вам всем, голубушки,
- Красные девицы!
- Хвала и вам, молодушки,
- Добрые вы матушки,
- Умницы, не львицы!
- Проклят будь космополит,
- Недоносок жалкий,
- Кто всё русское бранит,
- О заморском лишь твердит,
- Тот невежа жалкий!
— Странный какой-то перевод, — удивился Лабрюйер. — По-латыни так уж точно не пели.
— Я его в песеннике для кадет и юнкеров отыскал. Нельзя было пройти мимо такого курьеза, — ответил Хорь. — Однако… Однако и такое необходимо. Не всем же изъясняться по-латыни.
Он так это произнес, как будто Лабрюйер говорил исключительно на этом древнем наречии, за что заслуживал по меньшей мере десяти лет Нерчинской каторги.
Спорить с Хорем было бы смешно.
Наконец дверь заскрипела. Хорь и Лабрюйер чуть ли не прыжком вылетели из своего укрытия. Студенты, всему миру показывая свое братство, в обнимку протискивались из кабачка на улицу, долго выстраивались и колонну и, поддерживая друг дружку, удалились в сторону Мариинской улицы. Шуму они подняли — как целый полк янычар турецкого султана.
Дверь затворилась.
— Сейчас Фриц и Грета наведут там порядок и тоже уйдут, — сказал Лабрюйер.
— Вы выбрали самое лучшее место для засады.
— Другие — хуже. А страховать от пьяных студентов даже страховое общество «Россия» не возьмется.
Ясно было, что лучше с Хорем вообще не разговаривать — обязательно получится совершенно сейчас не нужная стычка.
Они стояли вплотную к стене, по обе стороны лестницы — ни дать ни взять, два атланта, подпирающие карниз над дверью в модном нынче архитектурном стиле. Только атлантов скромные рижские ваятели старались изобразить голыми по пояс, не более, а эта два были: один в пальто, другой в тужурке.
Вдруг Хорь съежился и беззвучно юркнул на ступеньки. Лабрюйер посмотрел на ворота и все понял.
По крыше кто-то пробирался, и не один — вроде бы двое.
Прятаться было поздно, Лабрюйер только закрыл лицо рукавом, моля Бога, чтобы его темное пальто полностью слилось со стеной.
Тех, на крыше, действительно было двое: один крупный, другой помельче. Крупный сбросил вниз толстую веревку (тут Лабрюйер оказался прав), ловко спустился, потом чуть ли не в объятия принял второго. Тогда только Лабрюйер понял, что второй — женщина.
Но разглядеть эту женщину он не смог — крупный мужчина, обнимая ее за плечи, бегом увлек ее к одному из двух черных автомобилей. Они уселись на заднее сиденье, мотор кашлянул пару раз, и автомобиль покатил к Суворовской.
— Черт, упустили, — сказал Лабрюйер. И с опозданием сообразил, что следовало вызвать Вилли Мюллера — тот с радостью бы ввязался в ночную погоню.
— Черта с два, — ответил Хорь. И замахал правой рукой.
На этот знак отозвался шофер второго черного автомобиля и подкатил к дверям погребка.
Это был Росомаха.
— Садитесь же! — велел Лабрюйеру Хорь. — Если бы вы раньше рассказали про свои цирковые похождения — больше толку было бы.
— Если бы вы больше мне доверяли, я бы знал, насколько важны эти похождения.
— Да будет вам, — сказал, не оборачиваясь, Росомаха. — Ну, вот сейчас и проверим, на что годится мотор в двадцать четыре лошадиные силы…
На нем был шоферский шлем со сдвинутыми на лоб очками.
— Разве такие уже есть? — спросил Лабрюйер.
— Мы купили прямо на заводе, я сам поменял. Скоро «Руссо-Балт» их начнет печь, как кухарка — блины. Есть уже и в тридцать пять лошадиных сил, и даже больше. Но с этой таратайкой мы малость поколдовали. Сейчас посмотрим, что такое наш «Руссо-Балт» против их «мерседеса»… Держитесь, господа!
«Мерседес», подобравший беглецов из цирка, шел по пустой улице, не слишком балуясь со скоростью. «Руссо-Балт» держался сперва в доброй четверти версты от него. Потом «мерседес» свернул налево, на Матвеевскую.
— Черт возьми, что им опять нужно в Кайзервальде? — спросил Хорь. Это был вопрос риторический — Лабрюйер не знал, что тут можно сказать, а Росомахе было не до риторики.
— Мы сейчас поедем прямо, свернем на Ревельской и выедем на Карлининскую, пропустив их вперед… И там уже придется рисковать… — сказал Росомаха. Если в центре города — и то один автомобиль, идущий в кильватере у другого, выглядит подозрительно, то там — сами понимаете… Местность такая, что в ней автомобили видят очень редко, к тому же — ночь, к тому же — дорога идет мимо кладбища. Странно выглядят господа, которые ночью решили посетить кладбище…
— Упустим, Росомаха… — чуть ли не простонал Хорь.
— Попробуем не упустить. Правда, они, если захотят, пойдут со скоростью чуть ли не восемьдесят верст, но там такая дорога — лучше не рисковать.
— Упустим!
— Не говори под руку, Хорь.
Лабрюйер молчал и думал: у Хоря непременно должен быть дурной глаз. И оказался прав — Хорь сглазил погоню, посреди Кайзервальда «мерседес» потерялся в узких, проложенных в лесу, улочках.