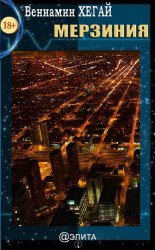Тайна могильного креста Торубаров Юрий
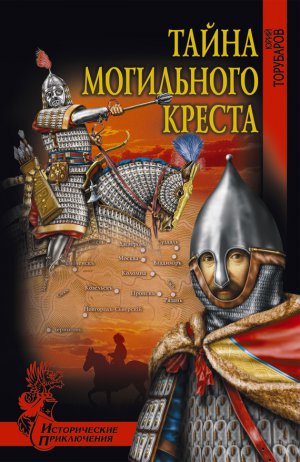
Пролог
Воевода Андрей Сеча проснулся от громкого тревожного стука. Кто-то ломился яростно и настойчиво, отчего толстая дубовая дверь громыхала, как телега на кочках. Этот грохот вдруг отозвался воспоминанием далеких дней отрочества. Давно, очень давно это было. Казалось, что время иссушило и развеяло по годам память о том жестоком дне… но нет, над памятью нет власти, и все прошедшее выплывало ярко и образно, обжигая мозг. То был последний день князя Андрея Юрьевича Боголюбского.
Воевода вздрогнул, когда перед его мысленным взором мелькнуло и прояснилось добродушное лицо князя, борода с проседью, веселые искорки в усталых глазах. Потом представилась и вся его суховатая, чуть сгорбленная фигура в легком дорожном одеянии. Большие пальцы рук сунуты за широкий кожаный пояс, меч, притороченный у левого бедра, почти достает пола. Да, таким он и был в то злопамятное утро, когда в последний раз вышел на крыльцо терема. Задержавшись на самом краю ступеньки, он несколько раз качнулся на носках, словно пробуя легкость своего тела.
Взглядом скользнул по знакомым лицам ожидавших во дворе спутников. Его глаза оживились при виде коня, белоногого красавца, так и норовившего вырвать узду из крепких рук конюха. Князь всегда радовался, когда приближалось время отъезда из опостылевшего ему владимирского двора, отравленного ядом боярских интриг, наполненного молчаливыми стенаниями ожиревших дружинников, перегруженного мирскими заботами, как сума заблудшего афени[1]. «То ли дело Боголюбово!» — любил приговаривать князь. И действительно, там не было этой суеты, постоянной изматывающей спешки в никуда.
Сколько было на счету князя таких отъездов! Ничем не выделялся и этот. Спокойно оглядел Андрей Юрьевич голубое небо, чистое и спокойное, словно лицо спящего младенца, ухоженный двор. Но сегодня Сеча не оставил бы без внимания, как выразительно переглядывались меж собой боярин Кучка с ключником Анбалом, когда княжеские сапоги застучали по ступенькам.
А тогда… Что он смыслил в те годы… Шевельнувшаяся было в душе тревога исчезла. Молодость и радостный настрой князя взяли свое, природа снова окрасилась в радужные цвета. Легко и изящно вскочил в седло. Кивнув княгине и многочисленной дворне, высыпавшей на крыльцо, взял с места в карьер. Небольшой отряд, подняв едкую пыль, рванул за предводителем.
До Боголюбова добрались быстро. В тот день князь ушел спать раньше обычного, дружески потрепав по плечу своего любимца Прокопия. Сечу, тогда еще юного отрока, взял к себе в опочивальню. Вдруг поздно вечером загромыхала дверь.
— Кто там? — тревожно спросил разбуженный князь.
— Прокопий, — невнятно отозвались за дверью.
— Это не Прокопий, — не то возразил, не то сказал сам себе князь Андрей.
Услышав его голос, в дверь начали ломиться. Лунный свет, падавший через окно, хорошо освещал комнату, и Сеча увидел, как князь вскочил с постели.
— Где мой меч? — громко воскликнул Боголюбский, сунув руку в изголовье. Оружия на месте не оказалось.
И страшная догадка осенила тогда отроково, сознание. Почему не придал он значения той встрече, случившейся сразу после приезда? Подвернувшись под руку Прокопия, Сеча тут же получил задание — сбегать в опочивальню князя и проверить свечи. Но, едва открыв дверь, столкнулся на пороге с Анбалом, выходящим из спальни. Ключник вздрогнул от неожиданности, на лице его отразился испуг. Пробормотав что-то невнятное, он постарался поскорее проскользнуть в сени. Что Сече показалось подозрительным, так это прижатая к боку, точно привязанная, левая рука. Так держат руки, когда прячут что-то под платьем. Хотел он рассказать тогда князю, да так и не решился.
Теперь же стало все ясно! То был меч Борисов, которым очень гордился князь Андрей и берег его как зеницу ока. Но каяться было поздно.
Нападавшие уже выломали двери и ворвались внутрь. Боголюбский, несмотря на возраст, был еще силен, ловок и смел. Завидев вооруженных людей, он бросился на одного из них, сбил его с ног. Князь хотел вырваться наружу, но путь ему преградили несколько человек во главе с боярином Якимом Кучкой. Боярский перст указывал в сторону князя, из оскаленного рта вырвался вопль:
— Убейте изверга!
В этот момент Сече стало ясно, кто предводитель гнусного нападения. В памяти всплыл нечаянно подслушанный разговор о том, что князь когда-то казнил брата Якима, не посмотрев на родственные, по жене, связи. «Поднял руку Яким на князя в отместку за брата», — сделал вывод Сеча.
Нападение на Боголюбского продолжалось. Князя с подсвечником в руках зажали у окна. Двое нападавших надвигались на него, обнажив мечи. Пожалев, что нет оружия, Сеча выскочил из укрытия и с криком швырнул в лицо одного из врагов подвернувшуюся под руку подушку. От неожиданности тот отпрянул, и князь успел проскочить на другую сторону опочивальни, где было темно. Убийцы, рванувшись за ним, впотьмах ранили одного из своих.
Князь отбивался долго. Но силы были неравны. Кто-то ударил Сечу по голове, и он без сознания рухнул на пол. Придя в себя — подняться не хватило сил — услышал слова князя, которые и по сей день звучали в ушах:
— Нечестивцы! Какое зло я причинил вам? Если прольете мою кровь, Бог отомстит вам!
Боголюбский истекал кровью и еле держался на ногах. Наконец он упал. Убийцы, думая, что кончили кровавое дело, ушли. Собрав последние силы и превозмогая боль, Сеча подполз к князю и коснулся его лица. Тот открыл глаза и слабо улыбнулся. С помощью Сечи поднялся и, придерживаясь за стены, побрел в сени. На призывы о помощи никто не отзывался. Вдруг послышались голоса — это возвращались убийцы.
Ослабевшего князя прикончили быстро. Петр, зять Кучки, отрубил ему руку, которой тот пытался обороняться, а кто-то из бояр пронзил грудь мечом. Отыскали и закололи любимца князя, Прокопия. Не избежал удара и Сеча. Его, истекающего кровью, без сознания, нашла черница Евдокия, выходила и поставила на ноги…
Все эти события промелькнули перед воеводой в одно мгновение. Очнувшись от воспоминаний, он услышал грохот и понял: дверь вот-вот слетит с петель. Сеча сунул руку под подушку, наткнувшись на холодную рукоять меча. Сразу стало легче.
— Кто? — крикнул он, опираясь на локоть.
— Я, воевода!
Сеча с облегчением узнал низкий приглушенный голос верного Акима.
— Чего тебе?
— Слава тебе, Господи! — донеслось из-за двери. — А то я уж невесть что подумал — молчишь да молчишь!
Воевода по привычке глянул в окно, светившееся холодным звездным сиянием. Волчьим завыванием доносился шум ветра. «Надует», — подумал Сеча и повернулся к двери.
— Шастаешь тут по ночам, — проворчал он. — Говори, что стряслось! — Голос выдавал волнение: воевода понимал, что в такое время Аким по пустякам беспокоить его не станет.
— Вставай, воевода! Купчишки рязанские объявились, вести дурные принесли…
Сеча сбросил тулуп, которым, любя тепло, укрывался на ночь. Забыв про тяжесть в пояснице, про старые израненные ноги, по-молодецки вскочил и босиком бросился к двери. Загремел засов, и в проеме показался встревоженный Аким со свечой в руке.
— Где они?
— Там, в сенях, — махнул рукой Аким.
— Проси в гридницу, я сейчас.
Тяжелые предчувствия одолевали воеводу. «Даниил объявился? — билось у него в голове. — Может, опять Мазовецкий зовет на помощь? Или поганые кипчаки близко?» Да нет, в стане кипчаков у него уже давно свои люди. Не дай Бог, чего задумают там, воеводе сразу станет известно. Мазовецкий тоже вряд ли. Князь Михаил без совета с князьями да дружинниками на помощь полякам не пойдет. Даниил? Но почему тогда купцы?
Воевода поежился — в опочивальне было прохладно. Кряхтя, подался вперед, нащупал корзно[2], подбитое заячьими шкурами, положил его на колени, провел рукой по мягкому меху. Держась за поясницу, понялся, набросил одежку на костлявые плечи.
Набежавшие тучи скрыли луну, и в комнате совсем стемнело. Сеча нашарил на столе огневище и кресало, и яркие искры снопом посыпались к его ногам. Вспыхнувшая свеча осветила маленькую комнату с голыми стенами и сводчатым потолком. Прикрывая пламя рукой, Сеча вошел в гридницу. Свет выхватил из мрака длинный, с резными ножками, дубовый стол, стулья с подлокотниками. В глубине дома гул шагов прозвучал тревожно, как эхо набата. В дверях появился высокий статный Аким, за ним смутно вырисовывались фигуры нескольких человек.
Купцы, все крепкие, широкоплечие, бородатые, степенно рассаживались вокруг стола.
— Пусть принесут чего-нибудь, Аким, — попросил воевода, кашлянув в мосластый кулак.
Гости и хозяин молчали, разглядывая друг друга. Два молодых отрока принесли жбан с медком и разную закуску. Воевода терпеливо ждал, пока пришедшие утолят первый голод. Наконец купцы обтерли ладонями рты и выпрямились.
— Что случилось? — тихо спросил Сеча.
— Беда, князь, татары взяли Рязань, — сдавленным голосом произнес один. — Ведет их Батый. — Он немигающе уставился на воеводу.
Ударь гром среди ясного неба, поверни Жиздра вспять — и то меньше ошарашило бы Сечу, чем эти слова. Пораженный услышанным, воевода приподнялся, сразу как-то осунувшись, побледнев. В висках застучало…
…Да, татар он знал и помнил. Встречался с ними на Калке. Проснулся тогда таинственный Восток. Как первые лучи восходящего солнца поползли обрывочные, несвязные слухи о далеких невиданных пришельцах. Еще не неся явной угрозы, они росли и крепли. И главными вестниками были вчерашние враги Руси — кипчаки.
Слава делит, беда роднит. Все настойчивее, все слезливее пошли мольбы полоцкие. Не их — себя спасать откликнулась Русь! Русь, да не та…
Собрались гордые и упрямые правители русской земли на киевском дворе. И многие пошли своей дорогой. Не поняли, не оценили они эту новую восточную силу. Думалось им, что она подобна кипчакским набегам, от которых хоть и натерпелась Русь, но немало князей, чего греха таить, на них нажились…
Боевой, помнится, был тогда совет. Некоторым князьям хотелось видеть своим вожаком отважного галицкого князя Мстислава, прозванного в народе Удалым. Но разве мог гордый Мономахович идти под стягами галицкими! Порешили: каждый идет своим путем. Не по чину просил тогда слово он, воевода князя Козельского. Долго убеждал, чтобы отказались они от этого смертоносного для Руси решения. Доказывал: в единении сила. Приводил примеры, до чего доводила на Руси грызня княжеская. Напомнил им о Великом Мономахе, при котором Русь была едина и вороги, как мышь кошки, боялись тогда приближаться к границам русинским.
— Кто нас поучает? — поднялся красный от гнева Ярослав Мстиславович. — Каких это земель он князь?
Кто-то ехидно бросил:
— Он такой же князь, как ворон — сокол!
В толпе засмеялись. Но поднялся Святославович, глаза сверкали праведным гневом.
— Да, не князь это, мой воевода! Но разве не дело он говорит? — Мстислав Козельский повернул к князьям честное открытое лицо. Но презрением и ненавистью встретили они его слова.
— Наше дело! — расхохотался Ярослав. Многим его смех показался неестественным. А он продолжал с вызовом: — Да ты просто трус! Хочешь со своим воеводой прятаться за нашими спинами! Я один пойду на этих нехристей! — ударил он в свою грудь огромным кулачищем. — И вы мне не указ!
Вскипел Мстислав, угрожающе потянувшись к рукояти меча, висевшего на широком узорчатом поясе с каменьями.
— Други мои! — вскочил Мономахович, поднимая руки, — еще не хватало, чтобы на потеху вражине затеяли сейчас срам! Богом прошу — успокойтесь!
Князья сели, гневными взглядами оглаживая друг друга. Нашлись у Ярослава союзники.
— Оставайтесь, без вас пойдем! — загалдели они.
Беспомощным, неуверенным выглядел тогда Мстислав Романович, князь Киевский. Так и не смог урезонить отчаянные, бездумные головы. Только молвил:
— Бог нас рассудит, князья…
Наутро выступили в поход. Козельцы объединились с киевлянами, черниговцами. К ним примкнули еще несколько князей.
Неведомое воинство встретили на четвертый день пути. Далекие точки маячили на вершинах холмов. Словно перекати-поле, всадники то появлялись, то исчезали неизвестно куда. Всю ночь, не сомкнув глаз, ждали русичи нападения, да так и не дождались. Кое-кто уже начал сожалеть, не ушла ли вражина. А с рассветом увидели: облепив далекий холм, как пчелы матку, стоят недобрым ветром занесенные в эти края люди. Русские приготовились к бою. Но татары вдруг развернули коней, послав всего лишь несколько стрел, и растаяли, словно облако в ветреный день.
Русы не стали топтаться на месте, а пошли дальше на восход солнца. Вскоре достигли злополучного берега Калки, откуда и началось падение славы русского оружия. Вновь появились татары — выходцы из ада. Темной лавой устремились на лагерь русичей. Задрожала, застонала земля, вспугнутое воронье взвилось и закружилось в светлеющем небе, оглашая местность могильными криками. Дозорные, заметив движение врага, подали сигнал. Дружина изготовилась к бою.
Все ближе враг, грозящий смести все на пути, все громче гул. Вот уже можно разглядеть лица в отблеске разгорающегося рассвета — скуластые, темные. Широко расставленные маленькие глаза, приплюснутые носы. Вдруг темная масса остановилась как вкопанная, застыла на мгновение. И тут всадники, точно по команде, взметнули луки, и засверкали в лучах восходящего солнца стрелы. Упали первые воины. Строй русских, качнувшись, сомкнулся, одеваясь стальным обручем щитов.
Закончив обстрел, татары ловко сменили луки на тонкие кривые сабли и бросились вперед. Зазвенела о шлемы сталь. Русские не дрогнули от этого, казалось, все сокрушающего, натиска. Острые пики разили ряды нападавших. Внезапно вся масса рвущихся вперед врагов разделилась. Осыпая тучами стрел стоявших русичей, развернула коней и стала уходить в степи.
— Враг дрогнул! Вперед, братцы! — послышались победные крики дружинников.
Мстислава, как и многих, поманил призрак победы. Но в сознании воеводы смутно мелькнула мысль о татарской хитрости. Он успел схватить княжеского коня за уздцы.
— Князь, это ловушка! Стой! Люди, назад! Врагу только и надо, что расстроить наши ряды! Стойте-е-е!..
Люди послушались: хотя и с руганью, стали возвращаться назад. И действительно, ждать татар пришлось недолго. Враг разъярился, поняв, что его хитрость разгадана. Вновь загудела, застонала земля, и из-за гребня холма выплеснулась нескончаемая конная масса. Она набирала скорость и, как бурлящий поток, встретивший препятствие, со всей силой обрушилась на русский лагерь. Битва закипела жестокая. Русским пришлось отступить за повозки, но они выдержали и этот натиск.
Татары не давали продыху ни днем, ни ночью, стараясь измотать соперника. Сеча посоветовал тогда князю разделить отряд на две части: одна держит оборону, другая отдыхает. Если же враг нажимал крепко, поднимали всех. Стояли насмерть. И не одна широкоскулая голова катилась наземь, обильно поливая ее горячей кровью. Досталось тогда и русским, ох, досталось!
Дружина могла бы стоять еще долго. Но князья… Они первыми не выдержали и рассудили по-своему. Хорошо помнил воевода тот черный вечер. Он с Мстиславом обходил тогда свой участок обороны, расставляя козельцев в образовавшиеся бреши, как вдруг за спиной раздались крики:
— Князь, где князь? Тиун[3] князя киевского тебя ищет!
— Здесь он! — понеслось по рядам.
Подошел незнакомый человек. Прежнего тиуна Мстислав знал в лицо, успел подумать: «Видать, здесь нашла его душа вечный покой. Как быстро отлетают жизни…»
— Ты князь Мстислав? — грубовато спросил подошедший. — Великий князь кличет. — И, повернувшись, ушел.
— Думаю, на совет зовет, — тихо сказал князю Сеча. — Слухи ползут, что татары мир предложили.
— Ну что ж, совет, так совет, — вздохнул Мстислав, и воеводу удивил тихий, потерявший силу и уверенность, голос князя. — Пошли…
Узнав козельцев, стража отбросила полог, пропуская их в шатер. Там уже толпились люди. Мстислав Романович кивком приветствовал вошедших. С самого начала упорных боев Сеча не виделся с Великим князем, и его поразило, как сильно тот изменился. Лицо его похудело и оттого казалось суровым. Ввалившиеся глаза смотрели устало и отрешенно, избегая встречных взглядов, словно пряча растерянность.
Великий князь поднял руку, и все замолчали. Начал Романович тяжелым, не предвещавшим ничего хорошего голосом.
— Что пригласил вас, други мои верные, — настало время думу думать… — И замолчал, уставившись в одну точку. Все с напряжением ждали, затаив дыхание, но князь молчал. Поднялся ропот. Тогда князь обвел присутствующих испытующим взглядом и тихо промолвил: — Татары предложили мир…
Воцарилась мертвая тишина. Ее нарушил чей-то неуверенный голос из задних рядов:
— Мир? На каких условиях? Задарма, поди, не выпустят?
— Задарма не выпустят, — откликнулся киевский князь и добавил: — С нами ничего не случится.
Стоявшие рядом князья и бояре одобрительно закивали. Первым, по-медвежьи переваливаясь, вышел на круг грузный боярин Стромович. Поправив под солидным животом ремень и откашлявшись, заговорил глухим, как из бочки, голосом:
— Великий князь! Други! Я думаю — это почетный мир. Их ведь, окаянных, не счесть, и сил наших здесь на них не хватит. Чем погибать безвестно, вернемся, Бог даст, домой, городишко укрепим, силенки соберем… Вдруг нехристь дальше двинет, тогда и рассчитаемся. Оружие я сдаю… — Отстегнув меч, он вытащил его из ножен, поцеловал и положил к ногам Великого князя.
В рядах зашевелились, многие потянулись к оружию.
— Мы с дружиной оружие сдавать не будем, — тихо, но твердо сказал тогда князь Козельский. — Лучше умрем с ним в чистом поле, как подобает воину, чем дадим надругаться над собой. Хана не знаю, но чует мое сердце — не зря он пришел к нам, беречь наше войско ему ни к чему. Поэтому и слову его не верю. Мертвый уж ничего не скажет…
Мстислав обрадованно заулыбался и, коротко пожав ему руку, шагнул вперед.
— Дозволь слово молвить. Я думаю, великий князь, это хитрость коварного врага. Сдав оружие, мы станем легкой добычей. Поэтому простите, люди добрые, но я со своей дружиной ухожу. Кто со мной? — Он обвел взглядом присутствующих. Многие прятали глаза. — Ну, есть еще бездумные храбрецы? — возвысил голос Мстислав Романович.
Толпа молчала. Великий князь почувствовал: в ней что-то надломилось. Еще мгновение — и дело, так блестяще начатое, может погибнуть. Надо что-то предпринять.
— Ну что ж, вольному воля, — сказал Романович. — Каждый выбирает свой путь. Но безрассудно кидаться в омут я не хочу. Думаю, что верить ханскому слову надо. А оружие… Что его жалеть! Были бы руки, а его добудем. Так я говорю, други? — он посмотрел в сторону Стромовича, стоявшего в окружении бояр.
— Так! Козелец пусть идет! — наперебой заговорили они.
— Кого направим к хану послом? — спросил Великий князь.
— Давай боярина Стромовича! — раздались голоса.
На том и порешили.
По-разному встретили это известие дружинники.
— Князьям-то что, они от кого хошь откупятся…
— Пропали наши головушки…
— Чего заревел, може, обойдется… — перебрасывались киевляне отрывистыми фразами.
Возликовали лишь козельцы, узнав о решении своего князя. Многие, прослышав о таком шаге, побежали к козельцам, да князья пресекать стали. Глубокой ночью, неслышно оседлав коней, козельцы прорвали в отчаянной рубке татарский заслон и ушли в спасительную мглу необъятных степей. Возрадовались люди: казалось, что самое страшное позади…
Обрадованный князь захотел прямиком идти до родных стен. Как ни пытался воевода убедить князя не доверять легкости, с какой они избавились от татарского преследования, — не смог. До сих пор не может простить себе Сеча, что не сумел тогда настоять на своем.
— Ты, Андрей, иди тем путем, который сам выбрал, — сказал тогда Мстислав. — Возьми половину воинов, уходи на восход, а я же пойду, как сердце велит, — домой!
Они обнялись. Больше не довелось им встретится.
Ловко расставили татары заслоны. Храбро рубился князь с дружиной, но силы были неравны. Один Сысой чудом спасся — оглушенный, свалился под копыта своего коня, и татары приняли его за убитого. Когда очнулся, кругом стояла удивительная тишина. Все поле было устлано трупами: русы лежали вперемешку с татарами. Князя нашел быстро. Тот лежал лицом вниз, разбросав руки, словно обнимал родную землю. В спине его торчал обломок черного татарского копья. Рядом княжич… Собрав остатки сил, предал Сысой их бренные тела земле. Долго после этого плутал по незнакомому краю, пока наконец чудом не наткнулся на родные места.
А Сеча ушел далеко на восток и, уже повернув на север, считая, что враг далеко позади, лицом к лицу столкнулся с татарским отрядом. Завязалась крепкая сечь. Ожесточенность русских была настолько сильной, что враг не выдержал и повернул конец, оставив на поле боя несколько убитых и четверых раненых. Кому-то пришло в голову прихватить раненых врагов в качестве военного трофея. Троих, несмотря на заботы, не довезли. А вот четвертого сберегли — дотянул до Козельска. На семнадцатый день беспрерывного хода Сеча был дома. И только через несколько месяцев, с неожиданным возвращением Сысоя, козельцы узнали о страшной трагедии, разыгравшейся в степном просторе, о гибели князя и его дружины.
Хорошо помнит Сеча, как встречали их земляки. Сколько радости, сколько горя увидел он на их лицах! Узнав, что за человек беспомощно лежит на расшитой воеводиной шубе, толпа двинулась к пленнику, угрожающе сжимая кулаки. Особенно страшны были бабы, потерявшие мужей.
— Где наши мужики? — вопили они. Мокрые от слез лица дышали таким горем, такой ненавистью, что смотреть на них без содрогания было просо невозможно. — Это ты, нехристь, их погубил! Смерть ему!
И они разорвали бы его…
— Стойте! — что было мочи закричал Сеча. — Стойте! Где и когда вы видели, чтобы на Руси били лежачего, да еще и раненого?! Или хотите позора на нашу голову? В бою я его и сам не пощадил бы, но он пленен, ранен, и наш долг оказать ему помощь. Этим всегда сильна была Русь. Так поступали наши отцы и деды. Не будем нарушать этот святой обычай! Пусть ваша доброта будет выше мести.
Толпа замерла.
— Прав воевода! — взвизгнула вдруг какая-то заплаканная баба. — Бог видит все! Бог не простит, если мы с ним расправимся!
Толпа, согласно загудев, стала расходиться.
— Стойте, бабы! — Воевода поднял руку. — Что же вы? Спасли ему жизнь — и бросаете на произвол судьбы! Кто будет ходить за ним?
Бабы, чертыхаясь, заторопились восвояси. Лишь одна, не старая еще, женщина подошла к пленнику:
— Выздоровеет, мужик в доме будет, — ласково сказала она. — Грешно душу человеческую губить…
…И вот опять татары! Ждал их Андрей Сеча, ох, ждал…
— Крепко задумался, воевода! — донесся до его сознания чей-то голос. Гости сидели за столом, поглядывая на пустые блюда.
— Задуматься есть над чем… — вздохнул Сеча. — Долго ли продержалась Рязань?
— Пять ден.
— И никто не пособил?
— Кому ж… Теперь каждый сам по себе. Очевидцы сказывали, что Батый потребовал от рязанцев десятину. Совет был, там порешили: коли врагу дать требуемое, он нашу слабость почувствует. И пока не разорит, тянуть не бросит. Не давать! На том и порешили…
— Куда дальше пошли?
— Вроде на Коломну. Больше ничего не знаем, — наперебой отвечали купцы. — Что дальше будет, судить не беремся. Но возвращаться на Рязань опасно. Вот и держим путь до Киева. Стены там не чета нашим…
Проводив гостей на отдых, Сеча позвал Акима.
— Беда на Русь пришла! — огорошил его с порога. — Татары вновь объявились. Сейчас думу думать надобно. Кликай срочно совет, да свечей, скажи, пусть принесут побольше.
— До утра не ждет? — Аким посмотрел в темные глазницы окон.
— Не ждет, Аким!..
Совет собрался быстро. Не было только князя Василия. Наконец двери открылись и вошел юноша, почти мальчик. Его лицо светилось лучезарной улыбкой, но глаза глядели не по-детски серьезно. Воевода низко поклонился и, сдвинув косматые брови, отчего взгляд сделался сумрачным, сказал тихо, но внятно:
— Прости, князь, что разбудил среди ночи… Великое горе обрушилось на землю Русскую. Татары взяли Рязань.
Гридница застыла, потом зашумела.
— Кто весть принес? — раздался резкий голос боярина Вырды.
— Купцы рязанские, — хмуро ответил Сеча. — На пятый день пала. Антихристы ее дотла сожгли. На Коломну двинулись…
Заговорил Бразд — невысокий суховатый боярин, казавшийся старше своих лет.
— Зря ты нас пугаешь, воевода. Рязань-то далече. Ну, пожгли. До нас искры не долетят. Чего нам бояться? Пусть на Коломну идут. Глядишь, там им шеи и сломают.
Разом в поддержку заговорили несколько человек, но тут же умолкли, заметив, что большая часть гридницы настроена по-иному. Князь Василий сидел спокойно, наблюдая за людьми. А те, понурив головы, о чем-то думали. Воевода чувствовал, что многие, заслышав о десятине, прикидывают.
— Что молчите, други? — обвел он всех взглядом.
— А что говорить-то… — поднялся князь Всеволод, далекий родственник козельских князей по Великой черниговской княгине. Он потеребил короткую бороденку. — Я так думаю: татары не хотят воевать, раз десятину просят. Дураки были рязанцы, что не отдали, — заключил он и, ни на кого не глядя, сел.
— Эх ты! — вскочил боярин Авдей. Толстое, всегда добродушное лицо приобрело злое выражение. Он провел пухлой ладонью по вспотевшей лысине. — Сам-то ты, князь, безземельный, потому чужое легко раздаешь. Ишь, сыскался тут! «Дураки»! — передразнил Авдей князя Всеволода. — Татарам отдай палец, они и руку отхватят! — Дыхание со свистом вырывалось из его вздымавшейся груди.
Поднялся дружинник. Многочисленные шрамы на его лице говорили о боевой жизни воина.
— Добро, оно дело наживное. А вдруг им землица наша понадобится? По мне, так лучше в сыру землю лечь, чем ее, матушку, ворогу отдать, — дружинник сел.
— Зачем лишнюю кровь проливать? Прав князь, — заговорил боярин, сидевший рядом с Авдеем. Его скуластое лицо в отсвете свечей казалось бронзовым и от этого суровым. — Рязань цела осталась бы, отдай они запрошенное. Коли дело до нас дойдет, думаю, надо согласиться, — он замолк и, зябко ежась, спрятал голову в высокий воротник кафтана.
Больше никто не захотел подниматься. Воцарилась тишина. Люди только что начали осознавать опасность, которая, словно далекое облако, зародившееся над сенью лесов, медленно нарастая, двигалось на них, грозя разразиться ливнем.
Настал черед говорить воеводе — самому уважаемому, самому авторитетному воину, слава о котором разлеталась во все стороны земли Русской. Люди верили, надеялись на него. И до сих пор он их надежду и веру не подводил.
По обыкновению кашлянув, воевода заговорил тихим низким голосом:
— Князь, други мои дорогие! Вижу, одни готовы тряхнуть судьбиной, другие — стоять насмерть. Други! Татары давно глядят на закат. Они прибрали к рукам далекий Яик, прогнав саксинов, половцев. Но, не насытившись этим куском, повернули конец на Великий Булгар. Воевали и их. Не просто пришли татары и на Русь. Ворогов давно зовет блеск злата наших городов. Пала Рязань. Кровавый пир начался. Кто на очереди? Где еще застучат копыта татарских лошадей? И рязанцы поступили правильно — десятина не спасла бы их. Думаю, надо укреплять Козельск: нарастить стены, расширить ров. Готовить оружие, продовольствие. Купцы толковали про какие-то диковинные машины, которые дробят стены… Неплохо бы взглянуть, как они работают и как их можно обезвредить. Трудное это дело, опасное. Тут и хитрость нужна, и сметка. Ехать надо к ним…
Гридница тихонько ахнула. Не смутившись, Сеча продолжал:
— Да, ехать или идти! Главное — быть там, и как можно скорее. Заодно посмотреть, что это стало за воинство, как строит свои сражения. А повезет — и путь их дальнейший выведать. Думаю, Топорка снарядить можно, — воевода глянул прямо в лицо князя.
— Топорка! Да ведь верно, он же монгол! — глаза боярина Роговича блестели, лицо сияло.
— А вдруг уйдет? — с сомнением спросил кто-то.
— Уйдет? Топорок-то? Да вы что, братцы! — вскочил Трувор. — Да сколько раз я с ним половцев гонял! Друг он надежный!
— Он и мне говорил, — поддержал его Тимофей, высокий, статный дружинник, — что мы, русы, стали для него братьями.
— Да, своим стал у нас Топорок. А семья какая! Жена русская, а смотри, как ладно живут!
— Точно, деток-то наладили сколько, — раздался смешливый голос. Многие засмеялись.
— Но одного Топорка посылать нельзя, — заметил воевода. — Всякое может случиться. Да и дороги он не знает.
— Правильно, — поддержал Рогович.
— Кого? — спросил Сеча, потеплевшими глазами глядя на боярина.
Поднялся князь Всеволод.
— Думаю, для этого подойдет… — Он помедлил — и решительно докончил: — Аскольд!
— Аскольд! — изумилась гридница.
Даже у суровых дружинников, не раз смотревших смерти в лицо, и то дрогнули зачерствелые сердца. Аскольд! Воеводин сын! Единственный! Больше нет у воеводы никого близкого, это все, что оставила ему судьба от длинной, суровой, тягостной жизни. А потому сын для воеводы был самым дорогим существом.
На Андрея Сечу страшно было смотреть. Он весь ссутулился, словно на плечи навалили непосильный груз, лицо стало безжизненным. Он поднялся, опершись на стол, и обвел присутствующих затуманенным взглядом:
— Если други не возражают, быть посему.
Много, очень много воды утекло с тех пор. Но не могла она смыть из памяти людской слова воеводы, сказанные тогда на совете, почти обрекавшие на гибель единственного сына, надежду, опору…
Было это лета 1237, в месяце студене. Заканчивался для козельцев год, открывший счет кровавым столетиям унижений Русской земли.
Часть 1. Заря кровавая
Глава 1
…Год 1237 начинался как обычно и ничего особенного не сулил. Произошло, правда, знамение: «летящю по небеси до земли ярко кругу огнену, и остася по следу его знамение в образе змея великого, и стоя по небу с час дневной и разидося». Поговорили о нем — к беде, — да и забыли, поглощенные житейской суетой.
Березоль месяц выдался теплым. Снег сходил быстро, обнажая истосковавшуюся по солнечной ласке землю. Радовался люд, поглядывая на поголубевшее небо. Радовались весне и в хоромах князя Черниговского.
Михаила Всеволодовича Чермного потянуло на волю, в клубящиеся испариной поля, где он любил послушать многоголосицу пробуждающейся жизни. Князь приказал седлать коней.
Княгиня, проводив мужа, направилась в опочивальню, где ее ждали девки. Она лениво перевернулась на живот, и две крепкие коренастые служанки, не жалея рук, начали втирать ей заморские мази, предохраняющие, по уверениям негоциантов, от ожирения и делающие кожу упругой и гладкой, как у пятнадцатилетней персиянки.
— Жиреешь — стареешь, — говаривал один ее знакомый.
Она боялась потерять красоту тела, и гривен для сохранения молодости не жалела, как ни боялась порой адских мук.
Девки убрали прилипшие к потной спине княгини черные как смоль волосы и, разделив надвое, уложили вдоль тела.
— Седина не появилась? — не поднимая головы, спросила княгиня. Одна из девок стала прядь за прядью перебирать волосы.
— Нет, матушка княгиня. Разве что один волосочек. — Отделив от остальных, она поднесла его к глазам княгини.
— Да, и вправду бел, — после некоторого раздумья ответила та. — Выдерни его. — Она горестно вздохнула.
Девка дернула волосок. В ответ раздался слабый стон. Ладони снова заскользили по бархатистой смуглой коже — наследство далеких степных предков. А княгиня, довольная и разомлевшая, закрыла глаза и предалась ставшим привычными воспоминаниям… В ее видениях возникли такие желанные смеющиеся серые глаза. За ними вырисовалось и красивое тонкое лицо польского князя Мазовецкого. В ушах княгини зазвучал тихий вкрадчивый голос: «Княгиня, время не властно над тобой! Ты не меняешься и выглядишь как непорочная дева…»
За воспоминаниями княгиня не расслышала, как скрипнула дверь и в опочивальню легкой тенью проскользнула худая как жердь, сгорбленная Агриппина. Неслышно подбежала она к резной кровати и, захлебываясь словами, зашептала в затылок княгине:
— Матушка! Ты слышишь меня, матушка?
— Чего тебе? — недовольно спросила княгиня, медленно открывая глаза.
— Гончик с Козельска, — старуха упала на колени и всплеснула руками. — Беда там! Князь, сказывают, приказал долго жить!
Княгиня поспешно вскочила. Девки в страхе разлетелись в стороны, потом принялись торопливо одевать хозяйку. Нетерпеливым движением та собрала волосы в толстый жгут, несколько раз обернула им голову и заколола позолоченным гребнем. Набросила зеленый с красной каймой платок и резко приказала:
— Зови!
Вошел гонец, с головы до пят весь обрызганный грязью. Заросшее лицо трудно было разглядеть, только глаза смотрели печально и устало.
— Ну, сказывай! — княгиня величественно выпрямилась, лицо словно застыло.
— Великая княгиня! — гонец низко поклонился и продолжал дрогнувшим голосом: — Наш князь… Богу душу отдал. — Чувствовалось, что не перебродила еще в его душе боль от случившегося.
— Когда преставился князь? Помяни, Господи, его душу грешную, — княгиня перекрестилась и вытерла глаза.
— Четвертого дня… Занемог князь, на охоте думал размяться, но Бог по-своему рассудил.
Из короткого сумбурного рассказа княгиня ничего не поняла, но переспрашивать не стала. Только сказала:
— Каждому свой конец. Что на роду написано, того не миновать. В Киев послали за дочерью?
Гонец, переступив с ноги на ногу, ответил:
— Этого, великая княгиня, не ведаю, — и провел по сухим губам рукой.
Поняв, что больше от него ничего не добиться, княгиня приказала:
— Ступай, мил человек. Агриппина, дай ему гривну да накорми с дороги.
Но гонец продолжал стоять.
— Великая княгиня, воевода повелел доложить князю.
Княгиня дернулась, губы скривились в презрительной усмешке.
— Его нет. Будет — сама скажу. Теперь ступай!
Гонец поклонился и вышел, оставив после себя на желтоватом полу грязную лужу.
— Разыщи братца моего Всеволода, — приказала княгиня Агриппине. — Хочу его видеть.