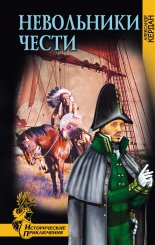Год сыча Аде Александр

* * *
Мы сидели вдвоем на его кухне, вдумчиво потребляя пиво и закусывая немудреной снедью. За окном чернел январский вечер 2002 года, горели бессчетные окна домов. Внезапно он встал, вышел и возвратился с объемистой амбарной книгой.
– Вот, накропал кое-что. – Его тяжелое лицо с еле заметным шрамиком на левой щеке слегка порозовело. – Это как бы дневник, а может, вахтенный журнал: что со мной было в прошлом году. Получилось вроде романа. Поглядишь на досуге?
Я пообещал, в тот же вечер пробежал глазами записи, но потом, каюсь, совершенно о них забыл. Да и он не напоминал, некогда было: в его жизни происходили серьезные перемены. Не так давно, готовясь к ремонту и вытряхивая из стола ненужные бумаги, я обнаружил рукопись и с разрешения автора отдал в издательство.
И вот он перед вами: один год из жизни частного сыщика по прозвищу Королек; год, пролетевший в мелькании дождей, листопадов, снегов, солнечных и пасмурных дней, как и вся наша сумасшедшая жизнь под вечными звездами.
* * *
10 января. Среда. Первые дни нового года тянутся ни шатко ни валко. Не суетясь, добиваю маленькое дельце, висящее с ноября. Договорившись с клиенткой о встрече, подкатываю в своем «жигуле» к условленному месту. Эта улочка только застраивается. Сносятся деревянные хибары, и на их месте шустро клепаются высотки – каменно-стеклянные пальцы, воткнутые в небесную твердь.
Останавливаюсь неподалеку от крупного городского банка. Жду. Довольно тепло, не ниже минус пяти. Ясное послеполуденное небо, пышные сугробы. Пропархивают редкие снежинки, отчего ощущение новогоднее, сентиментальное, размягчающее сердце.
Через полчаса, объехав «жигуль», передо мной бросает якорь серебристая «тойота». Вылезаю и пересаживаюсь в «японку». За рулем, в шубе из чернобурки, сидит девочка – кукла Барби с широковатым матовым личиком и большими чистыми голубыми глазами.
– Ну что, – спрашивает она слегка гнусавым детским голоском, – какие результаты?
Достаю пачку фотографий. Качество не ахти, но то, что нужно, различается вполне отчетливо.
– Эту шлюшку я знаю, – произносят аппетитные напомаженные губки Барби. – Секретарша мужа. С ней он только трахается. Больше ни с кем его не засекли?
– За месяц, что веду наблюдение, – отчитываюсь я, – только эта барышня.
– Ну, она не в счет. Должен же он развлекаться. Меня что волновало – может, у него с кем-то серьезно. Ну, тогда я зря переживала.
– А что значит «серьезно»? – наивно интересуюсь я.
Она смотрит на меня как на больного.
– Значит, какая-то дрянь его охомутала и женит на себе, ежу понятно.
– А вас он выкинет, – как будто догадываюсь я, делая потрясающее открытие. – И вы все денежки потеряете!
И смотрю на нее сочувствующими глазами идиота. Она поджимает губки, будучи не в силах уразуметь, то ли я придуряюсь, то ли действительно слабоумный. Пока в ее головенке идет мыслительный процесс, представляю, как она целыми днями томится в трехэтажном коттедже на двоих. Скука смертная. Все хозяйство тащит домработница. А она только раскатывает в «тойоте»: к косметологу, к массажисту, в элитную парикмахерскую, чтобы оставаться куклой Барби до конца своих дней. Мужа, само собой, не любит, зато пылает страстью к его баблу, позволяющему полдня нежиться в постельке, есть вкусно и пить сладко. Как тут не испугаешься, что он возьмет и втюрится в другую, к которой и уплывут все радости жизни.
– Ну ла-а-дно, – тянет Барби, – я тут должна вам остаток гонорара…
Протягивает пачку баксов. Небрежно беру бумажки. Мои пальцы встречаются с ее – маленькими, ухоженными, с фиолетовыми коготками, и внезапно во мне просыпается такое желание, что темнеет в глазах. То, что эта хитренькая пустая блондиночка – откровенная безмозглая дрянь, продавшаяся богатенькому мужичку, только разжигает вожделение.
Видно Барби кожей чувствует мое состояние. В ее глазах, до этого как стекляшки отражавших окружающий мир, появляются интерес и томность. Вроде бы не двигаясь с места, она умудряется притиснуться к моему плечу. Мне остается только обнять ее, закутанную в мех, и, задыхаясь от аромата дорогих духов, прижаться губами к нежным губкам… «Стоп, – зажигается в моей башке красный огонь светофора, – осади назад!»
– Должен признаться, сестренка, – хрипло говорю я, – ты вызываешь во мне сильные чувства.
– Правда? – спрашивает она, сексуально раскрывая ротик с влажно поблескивающими зубками.
– Точно. Но должен сразу предупредить, чтобы не было недоразумений. Я трансвестит.
Она недоверчиво улыбается.
– Это трагедия моей юности, – продолжаю я задушевно. – В детстве я был девчонкой, и звали меня женским именем (не будем уточнять, каким: с прежним кончено навсегда). А я-то в душе сознавал себя мужчиной. Дружил с пацанами, девок презирал. И они сторонились меня, чувствовали: я не такой… тьфу, не такая, как они. До чего же я ненавидел надевать платьица, чулочки, лифчики, колготки! Потом, когда повзрослел, сделал себе операцию. Правда, настоящий мужик? – С гордостью демонстрирую профиль и фас, хотя изменили мне вроде бы другие места.
– Да-а-а, – тянет она нерешительно, ей все еще не верится.
– Одна беда, – сокрушенно сетую я. – Не могу испытывать оргазм. Все бы отдал, чтобы изведать хоть единый разок! Но не дано, так не дано. А так я натуральный мужчина. Что называется, в самом соку. Слушай, подруга, я на тебя запал. Давай поедем ко мне, будем любить друг друга.
И неуклюже пытаюсь ее облапить.
– Нет! – взвизгивает она, отшатываясь.
– Почему? – спрашиваю, как обиженный белый мишка.
– Нет – и все, – отрезает она.
– Эх, не повезло.
Тяжело вздохнув, покидаю «тойоту». Когда сажусь за руль своей тачки, серебристого японского чуда и след простыл: Барби рванула с места и умотала. Меня точно кто щекочет – откидываюсь на спинку сиденья и принимаюсь ржать как последний дебил, до боли в щеках и животе. В этом жеребячьем ржании желание растворяется почти без следа. И все же, точно ложечка дегтя в бочке меда, остается в душе легкая горечь: держал в руке пустоголовую синичку с яркими перышками, да разжал пальцы и отпустил. Может, зря?..
* * *
12 января. Пятница. Некогда это мрачноватое здание занимал НИИ чего-то, от которого нынче остались кошкины слезки: практически все уголки от подвала до крыши захватили хитропопые пронырливые фирмочки. Научные работники скучились на втором этаже. Иногда вижу кое-кого из них, унылых, немолодых, прямую противоположность энергичным фирмачам. Мой офис на пятом, последнем этаже, в углу коридора, в комнатенке, служившей прежде складом. Вся мебель в нем – бывшие в употреблении стол и два стула, выданные толстой говорливой завхозихой.
Я торчу здесь уже около часа, полируя ягодицами институтский стул и стреляя из детского пистолета в мишень на стене. Чего жду – непонятно, начало года клиентами явно меня не балует.
Внезапно в дверях возникает холеный мясистый господин лет пятидесяти с хвостиком – распахнутое темно-синее пальто, серый костюм, белая сорочка, пестрый галстук, черные полуботинки. На улице его наверняка поджидает шестисотый «мерс» или грозно поблескивающий на холодном январском солнце крутой джип. Мужик с молчаливым вопросом к себе самому «Куда это я попал?» оглядывает офис. Наконец замечает меня:
– Вы – частный сыщик… Ко-ро-лек? – Он брезгливо присаживается на заскрипевший стул. – Мне рекомендовали вас как хорошего профессионала…
Церемонно киваю.
Крякнув, он достает фотографию. Я знал, что этим кончится: в девяносто девяти случаях из ста меня посещают рогатые мужья и обманутые жены. Но кое в чем я ошибаюсь: на стол ложится не мордочка аппетитной милашки, а снимок немолодой русоволосой женщины с внушающим уважение лицом и короткой стрижкой. Восседает она за полированным столом, увенчанным компьютерным монитором. Судя по интерьеру, учреждение солидное.
– Подозреваю свою половину в измене, – горестно, но с достоинством произносит мужик и слегка передергивается.
– С этого места подробнее, пожалуйста.
Серые, как мышата, глазки мрачнеют. Мой тон явно ему не по душе.
– Я – заместитель управляющего банком, – произносит он веско, должно быть, ожидая, что от почтения я немедленно начну вылизывать его подошвы.
– А управляющий – ваша жена?
– Откуда… Почему вы так решили?
– Да просто подумалось… Продолжайте… Впрочем, погодите. Дома вы вместе. В банке – тоже. Когда же ваша супруга-начальница успевает любовь крутить?
– Видите ли, мы не мелкие клерки, у обоих серьезные дела. У каждого свои. Уследить невозможно.
– И с кем же у нее, по-вашему, амуры?
– Понятия не имею. На днях мне позвонили и сообщили, что…
– Кто позвонил?
– Голос был женский. Естественно, она не отрекомендовалась… И посоветовала обратиться к вам, как к лучшему специалисту данного профиля.
У меня отвисает челюсть. Не знаю, что бы я произнес, но дверь отворяется, и порог перешагивает Бизнес-леди в пальто цвета молодой травы. Перевожу оторопелый взгляд с нее на снимок и обратно. Одно лицо!
Банкир, сидящий к двери спиной, недовольно оглядывается, багровеет и вскакивает. Леди каменеет на месте.
– Похоже, представлять вас друг другу не нужно, не так ли? – прерываю я затянувшуюся немую сцену.
Только тут к банкиру возвращается дар речи.
– Это ты нарочно подстроил! – визжит он, как оживший поросенок под хреном. – Я тебя лицензии лишу! Я…
– Мадам, – обращаюсь я к Бизнес-леди. – Вам позвонили и сказали, что муж вам изменяет? И предложили обратиться ко мне? Женский голос?
Она кивает. Я развожу руками:
– Господа, мы трое – жертвы неумной шутки.
Дама круто разворачивается и выходит. Мужик кидается за ней…
Дома рассказываю этот случай жене. Мы только что поужинали, и я кайфую за кружкой пива. Сероглазка становится пунцовой и не слишком убедительно хихикает.
– Веселишься, – укоризненно говорю я. – А зря. Смотрела знаменитый фильм «Малыш» Чарли Чаплина? Нет? История простая и трогательная: сынишка камнями бьет в домах оконные стекла, а следом появляется папаша Чарли и за деньги вставляет новые. Такой вот семейный подряд. Похоже, ты решила продолжить благородное дело Малыша. Или я не прав?
Она виновато потупляет глаза. Я продолжаю допрос:
– Почему ты звякнула именно этой парочке?
– Одна моя подружка работает в банке… в котором они… – Сероглазка запутывается, вздыхает. – У тебя ведь сейчас нет заказов, вот, я и решила…
– Поставлять мне клиентов, ага? Придумано недурственно. Муж и жена подозревают друг друга, а я стригу купоны. Тебе и в голову не пришло, что супруги могут оказаться в моем офисе практически одновременно. Хотя это вполне предсказуемо. Муженек бодро соврал секретарше, что отправляется по делам, а сам двинул ко мне. Жена воспользовалась его отсутствием и тоже примчалась в мою берлогу. Очаровательная была сценка!
– Больше не буду, честное-пречестное, – винится Сероглазка, потом несмело поднимает глаза – в них горит любопытство. – Как, по-твоему, они друг дружке изменяют?
– Вряд ли. Она, видать, финансовый гений и на всякие шалости попросту не имеет времени. А он – муж своей жены, не более. Знаю я таких типов. Для них главное не бабы, а бабки. Хлопчик четко осознает: если женушка засечет его с девочкой – конец; вышвырнет из банка без выходного пособия… Но ты твердо обещаешь больше ничего подобного не вытворять. Договорились?
Сероглазка несколько раз быстро кивает и трижды крестится в знак нерушимости клятвы. Поразмыслив, я добавляю:
– Разве что с моего разрешения…
* * *
14 марта. Среда. Эта женщина входит в мой убогий офис с таким мягким достоинством, что я невольно приподнимаюсь ей навстречу. Высокая. Темные короткие вьющиеся волосы, внимательные глаза, полные женственные губы. Лицо увядающей актрисы.
– Вы… Королек? – спрашивает она низковатым голосом, слегка краснея. – Мне посоветовала обратиться к вам подруга…
– Присаживайтесь, пожалуйста.
– Видите ли… – Она заминается, подыскивая слова. – Недавно умер мой муж. Погиб в автокатастрофе…
– Соболезную.
– В последнее время мы жили с ним, по сути, как два чужих человека, но у нас за плечами почти двадцать лет совместной жизни. Настолько привыкли друг к другу, что и не думали о разводе. От зарплаты каждый отдавал часть в общий котел, остальное тратил по своему усмотрению. Эта преамбула необходима для того, чтобы вы поняли суть дела.
Примерно год назад скончался дядя моего мужа, живший в Америке, и муж получил по завещанию немалую сумму… по нашим меркам. Деньги он спрятал. Не от меня. Я бы не взяла ни доллара, и он это знал. Дело в том, что он был своеобразным человеком: тихим, замкнутым, безумно обожавшим фантастику. Вот и с этими деньгами, думаю, он поступил романтично и таинственно. Нисколько не удивлюсь, если они закопаны на кладбище… Кстати, когда муж погиб, я обнаружила завещание, по которому все его имущество наследую я.
– Делал ваш муж хоть какие-то намеки, которые бы указывали на место, где хранится сумма?
– Нет… Единственное… Иногда как бы между делом он заявлял: «Запомни, ключ от клада в тебе самой» – и загадочно улыбался. Да, еще добавлял, что я вхожу в группу женщин, которые выделяются среди других. И если я догадаюсь, что это за группа, то легко найду деньги.
– И вы не подозреваете, чем отличаетесь от прочих дам?
Она откровенно краснеет.
– Я абсолютно заурядна.
– Давайте так. Завтра я заеду к вам, и мы на месте займемся кладоискательством.
Посетительница уходит, оставив после себя слабый запах духов. Сижу, разглядывая листок, на котором она написала номер своего телефона и одно слово: Анна. И глупо ухмыляюсь. В черепке ни единой мыслишки. На разные лады повторяю: «Анна, Анна, Анна…», и так бесконечное число раз.
Даже дома, лежа на спине возле уютно посапывающей Сероглазки, бессонно гляжу в черноту, а в голове – крамольные мысли о статной женщине со строгим именем Анна. У меня в памяти постоянно крутятся раздерганные строчки стихов, где-то прочитанных или услышанных. Вот и теперь, как чертик из табакерки, выскакивает: «А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!..» Так и этак повторяю, смакую: Ан-на, Ан-на… И вдруг меня точно током бьет: АН-НА!!! Как же я сразу-то, идиот, не сообразил?
Осторожно, чтобы не потревожить жену, слезаю с кровати, при свете настольной лампы откапываю на книжной полке орфографический словарь и тащусь на кухню. Помнится, в конце словаря был список имен… Листаю… Ага, вот оно!..
Но вместе с ликующим ощущением близости разгадки мной овладевает такая гнетущая тревога, точно в мою жизнь входит что-то зыбкое, неясное и огромное, чему и названия дать не могу. Завариваю чай. Потихоньку прихлебываю, уставившись в кромешную заоконную тьму, где одиноко мигает желтый глаз светофора… Засыпаю поздно. Снится, что лечу над родным городом, который ничуть на себя не похож: стеклянный, радужный, с множеством удивительных башенок и шпилей…
* * *
15 марта. Четверг… Потом в моем сновидении, рассекая заревое небо, появляются черные птицы. От треска их крыльев рассыпаются разноцветные дома, летят осколки стекла… Открываю глаза в темноту. Звенит будильник, призывая Сероглазку на работу. Наскоро приготовив завтрак себе и мне, она уносится вдаль, а я набираю номер Анны.
– Это Королек… Тот самый. Собираюсь, как договаривались, вечерком к вам заехать.
– В семь часов вас устроит? – спрашивает она и диктует адрес…
Квартира напоминает ее саму – стильная и сдержанная. Много картин. Почему-то кажется, что знаю эту женщину чуть не с рождения, а в ее жилье дневал и ночевал. Целенаправленно расхаживаю из комнаты в комнату. Анна с интересом следит за мной. На ней васильковый халатик. Ее тело волнует меня так, что пересыхает в горле.
Под изумленным взглядом Анны снимаю со стены зеркало в прихожей. И возвращаю на место. Проделываю то же самое с овальным зеркалом в голубовато-белоснежной ванной. Под ним – выложенный из плиток белого кафеля прямоугольник. Плитки аккуратно подогнаны друг к другу, но одна как будто слегка выступает. Ножом поддеваю ее, нажимаю – она в моих руках. В этом месте стена выдолблена. Вытаскиваю из отверстия сверток, набитый долларами.
– Я думала, такое бывает только в детективах, – изумленно говорит Анна. – Вы волшебник.
– Разгадка действительно оказалась в вас самой, – сообщаю, смущенно потупив глазки и ликуя в душе. – Точнее, в вашем имени. Оно симметрично. Вторая пара букв повторяет первую. Таких женских имен только два: Анна и Алла. Я смотрел в словаре.
– Но причем здесь зеркало в ванной?
– Ну это уже совсем просто, – продолжаю корчить из себя скромного гения. – Что такое симметрия? Зеркальное отражение.
– Так хотела найти, а теперь не знаю, что с ними делать, – говорит Анна, недоуменно разглядывая сверток. Ее брови по-детски наивно поднимаются.
Уже не владея собой, наклоняюсь и целую ее руку, чуть крупноватую и нежную. Тыльной стороной ладони она проводит по моей щеке. Ее губы раскрываются в ожидании моих губ.
Анна, Анна, Анна!.. Боже мой!…
* * *
19 апреля. Четверг. Смугловатый, черноволосый и одетый во все черное. Четко вырезанное лицо. С первого взгляда ясно: не одноклеточный качок с одной извилиной, причем прямой, как кишка, – безжалостный боец, идущий к цели по людям, а, если надо, то и по трупам. Такому на дороге не становись, сметет и не заметит. За ним маячит нечто бессловесное, жующее жвачку, то ли охранник, то ли друган. Когда парень появляется в моем офисе, возникает ощущение, что в мой мир, как черный нож в масло, врезалась его вселенная, жестокая и холодная.
– Ты – Королек? – спрашивает он властно, и в меня упираются черные глаза без блеска, твердые, как два камушка.
– Он самый.
Ловлю себя на том, что поддаюсь исходящей от пацана силе, даже готов подчиняться и служить.
– Нужно найти одну девчонку. Пропала на днях.
– Кто такая? – спрашиваю как можно развязнее, чтобы высвободиться из-под его неуклонного давления. Но не слишком получается.
– Скрипачка. Почему ее разыскиваю, об этом тебе знать не обязательно. Быстро найдешь, не обижу, – обещает он, не сводя с меня черных камушек-глаз, и от этого взгляда становится зябко и нехорошо.
Он легонько хлопает по столешнице левой рукой с золотым перстнем на тонком безымянном пальце. Камень в перстне черный и плоский. Парень не спрашивает, возьмусь ли за это дело, просто покупает меня, как шлюху. Во мне поднимается злость. Пока раздумываю, чтобы ему такое ответить, он, отведя рукав кожаного пиджака, бросает взгляд на массивные золотые часы. Происходит это почти мгновенно, но я успеваю заметить беловатый шрам на его запястье. Спрашиваю:
– Резался отчего?
Кажется, он впервые замечает меня.
– Не догоняю. О чем базар, браток?
– Да вот, – объясняю терпеливо, как несмышленышу, – шрам у тебя на левой клешне. Хочу понять, откуда?
Невозмутимо гляжу на пацана, а сам бдительно слежу за его руками, чтобы в случае чего среагировать.
– Ишь ты, – усмехается он, не разжимая губ. – Лады. Поехали со мной, узнаешь.
– Нет проблем, – говорю, вставая. – Времени у меня навалом.
Запирая за собой офис, мысленно с ним прощаюсь. Кто знает, может, больше не свидимся. Ноги подо мной слегка подгибаются, не без этого, но куража не теряю. Будь что будет, но помыкать собой не позволю никому.
На улице пацан усаживается в шестисотый «мерс», где обнаруживается личный водила и – в довесок – еще один телохранитель. Исполинская черная тачка мягко и мощно трогается в путь. Я в своем «жигуле» следую за ней. Останавливаемся возле кабака для избранных. Заходим. Едаловка, право слово, недурна, стены обшиты дубом, задрапированы тканями, хоть сейчас приглашай на ужин при свечах английскую королеву. В очередной раз убеждаюсь, что в моем родном городке есть все, чего ни пожелаешь, были бы монеты.
Парень неторопливо закуривает, заказывает водки – себе и мне. На мою слабую попытку отказаться: «Нельзя, я за рулем», отрезает:
– Не боись. Охранник отвезет.
Выпиваем, закусываем икорочкой. От водки и табачного дыма, вызывающего дикую физиологическую потребность закурить, у меня развязывается язык:
– Могу обрисовать твой жизненный путь. В общих чертах, разумеется.
– Ну? – разрешает он.
– По малолетству ты подворовывал со всякой мелкой шпаной, потом занялся грабежом. Характер у тебя крутой, так что шестеркой не был – или командовал кодлой, или был в первых замах у авторитета. Быстро делал уголовную карьеру и обязательно бы сел, а еще скорее погиб смертью храбрых от рук конкурирующей братвы. Но настали смутные времена, появилась возможность отмыть награбленное и заделаться бизнесменом. Чем ты и воспользовался. И теперь ты преуспевающий предприниматель, хозяин… ну, скажем, ночных клубов и казино. Далеко пойдешь.
– Обидеть хочешь? – спрашивает он. В его голосе нет угрозы, но глаза, похожие на два кусочка каменного угля, смотрят сквозь сигаретный дымок без особой нежности.
– Еще не родился тот, кто тебя обидит.
– Верно, – соглашается он. – Давай по второй.
Опрокидываем. Заедаем чем-то вкусным.
– С твоей биографией более-менее ясно, – продолжаю я. – А вот шрам из образа выпадает. Зачем вены вскрывал?
– Не поверишь, – тихо говорит он, усмехнувшись. – От несчастной любви. К этой самой, которая пропала. И девчонка не моего поля ягода. На скрипочке в театре играет. А тут я со своей бандитской любовью. Отшила. Мне стоило слово сказать, кореши бы ее по кругу пропустили. А я – бритвой себя по венам. Как только жив остался… Пей.
Мы отправляем в глотки «огненную воду».
– Дай закурить, – теряя волю, прошу я.
Он подталкивает мне пачку. Жадно затягиваюсь. С отвычки кружится голова. Мы пьем еще, и еще, и еще. Понемногу реальность затягивается веселой цветной занавесочкой, сквозь которую черными звездами горят зрачки парня.
– Отыщи ее, сыч. Знаю, никогда она меня не полюбит, но без нее мне не жить.
– Завидую… – Тяжело ворочая языком, с великим трудом выныриваю из затягивающей воронки небытия. – Я бы, наверное, так не смог… резать вены из-за женщины… Я запутался, парень. Люблю двух, как одну… Понимаешь? Они разные. Но я… их… обеих… люблю… Что мне делать, друг?..
Дальнейшее выпадает из памяти. Помню только, что чудом оказываюсь в своей квартире. «Почему вору и бандиту дано любить, а мне – нет?» – пьяно ору в расширенные от ужаса и сострадания глаза Сероглазки и ухаю в бездонную пропасть сна…
* * *
20 апреля. Пятница. Пробуждаюсь с дикой головной болью. Давно я так не надирался, господа. В зюзю. Сдавив ладонями виски и томно постанывая, плетусь в ванную. Здесь моя мятая морда, сполоснутая прохладной водичкой, обретает почти осмысленное выражение. Двигаю на кухню. Сероглазка уже усвистала в свой травмпункт, оставив мне завтрак и листочек бумаги с наспех нарисованной улыбающейся рожицей и подписью: «Королек! Я тебя…» И – одним росчерком – сердечко. Прислонен листочек к стакану с огуречным рассолом. Добрая душа, поняла, что страдающему муженьку необходимо.
Вмахиваю в горло целительную жидкость и, обретя способность соображать, достаю визитку вчерашнего железного собутыльника. Ого, президент компании «Одиссей & Орфей лимитед»! Лихо. Можно подумать, что это не шпанята-плохиши, душегубы и ворье, а знатоки древнегреческой мифологии. Или отважные аргонавты. А ведь попадись им золотое руно, мигом загнали бы скупщику краденого.
На обороте визитки номер сотового. Звоню.
– Да? – раздается презрительно лающий голос бандита.
– Это Королек. Покалякать с тобой можно?
– Давай.
– Мне нужна информация о девочке со скрипочкой: фамилия, имя, отчество, где работала, с кем жила.
– Записывай… – он словно нехотя диктует данные, затем добавляет: – Учти, в последний раз. Теперь ты мне докладываешь, уразумел? Найдешь, башлями не обижу, да еще будешь мне другом до скончания века… – и голос его пропадает вдали. Точно и впрямь уплыл пацан с Одиссеем или Ясоном в Трою или Колхиду под жарким солнцем ласкового Средиземного моря.
А я остаюсь, как Пенелопа, на берегу, в своей однокомнатной фатере и принимаюсь размышлять. В общем и целом перспективы недурные. Насчет дружбы он зря тратил слова, на кой ляд мне криминальный приятель? Хотя, почему бы и нет? Свой человечек в гнилой среде всегда полезен. И все же первый пункт договора куда заманчивее.
Теперь займемся калькуляцией. Что имеем на входе?
Первое. Существует некая фирма «аргонавтов», созданная наверняка на неправедные денежки. В лучшем случае на грязные, в худшем – на кровавые. А скорее всего, на те и другие. Командует фирмой несгибаемый бандюган со шрамиком от бритвы на запястье. Зовут его подходяще: Игорь. Удельный князь в своем маленьком уголовном княжестве. Кликуха у бандюгана, как я уяснил из коротких реплик охранника, – Клык.
Второе. Имеется скрипачка, в которую до смерти влюблен Клык. И у нее имечко в самый раз: Виолетта. Виола. Небольшой я знаток опер и балетов, но навевает оно нечто до боли знакомое из мира кулис, кринолинов и бельканто. Прекрасная Виола закончила консерваторию и наяривала на скрипке в нашем оперном театре.
Третье. Семья пропавшей Виолы. Папаша – скромный начальник отдела в городском управлении здравоохранения – два года назад был убит, причем душегуб до сих пор не найден. Мамаша барабанила в оркестре оперного на пианино, но уже года три как не работает. После насильственной смертяшки муженька она вскоре заново выскочила замуж – за заместителя покойного супруга. Точнее, за бывшего зама, потому как тот почти немедля занял в управлении место скончавшегося шефа.
Занятный расклад.
Теперь – за дело.
По телефону, что дал Клык, звоню в квартиру Виолы. В трубке звучит легонький вздох, потом – интеллигентный женский голос:
– Слушаю.
Такому голосу не хочется врать. Приступаю просто и прямо:
– Извините, я говорю с матерью Виолетты?
– Да… – Чувствую, как у нее пресеклось дыхание. – Вам что-то о ней известно?
– Пока нет. Я – частный детектив, которого наняли отыскать вашу дочь. Мы могли бы встретиться?
– Конечно. В любое удобное для вас время.
– Тогда, пожалуй, вечером. Хотелось бы застать вашего мужа, чтобы потолковать с обоими…
Недавно выстроенная желтоватая семиэтажка с красной черепичной крышей, башенками, эркерами и прочими прибамбасами, отличающаяся от типового жилья, как нашпигованная бриллиантами мадам от домработницы.
Пройдя настороженно-бдительного консьержа, оказываюсь перед солидной, шоколадного цвета дверью. Нажимаю пипочку звонка. В глубине квартиры раздается гулкая трель, сопровождаемая глухим собачьим лаем, и в дверном проеме возникает невысокая, с девичьей фигуркой белокурая женщина в красно-белом костюмчике, держащая на поводке устрашающего вида собачару.
Проходим в гостиную, в которой спокойно уместится вся наша с Сероглазкой однокомнатная квартирка. Громадная хрустальная люстра (не иначе как в театре свистнули) озаряет благородную темную мебель.
– Место, Джерри, – приказывает хозяйка.
Бульдог молча укладывается на коврик возле основательного кожаного дивана, вперив в меня недремлющие свирепые, налитые кровью бельма.
Некое существо мужского пола утонуло в кожаном кресле, впившись в экран плоского телевизора с диагональю метра полтора.
– Костик, – зовет мать Виолетты, – пожалуйста, оторвись от политики. У нас гость.
Костик послушно подчиняется. Сутулый, мелковатый, в полосатой рубашке, спортивных штанах и тапочках – типичный обыватель, тихий и пугливый. На его штатской груди болтаются очки.
Мать Виолы подкатывает столик с интеллигентным харчем. Обращаюсь к ней по имени-отчеству, но она поправляет:
– Называйте меня Ларисой. Среди людей искусства не приняты церемонии. А вас как по имени?.. Королек?
– Прозвище такое. Прилепилось, и ношу.
– Очень мило. А кто вас нанял? Извините, но хотелось бы знать, кому еще небезразлична судьба моей дочери.
– Боюсь, что не смогу ответить на ваш вопрос.
– Да мне все равно, лишь бы Леточка нашлась…
Она мигает полными слез глазами. На вид ей лет сорок пять. Сразу видно, тело свое холит, подтяжку сделала: на лице ни единой морщиночки, и мимика чуть искусственная, как у говорящей куклы. И все равно выглядит она немолодой, поблекшей и смертельно уставшей.
– Ну вот, расклеилась, – силиконовые губы Ларисы раздвигает неживая улыбка, открывая ровные белые зубы. – А ведь вы ждете от меня не жалоб и стенаний, а конкретной информации. Леточка исчезла с неделю назад, в прошлую пятницу. Я вернулась из магазина – а на столе записка: «Мама! Я ухожу из этого мира. Прощай. Музыка вознесла меня туда, откуда нет возврата».
– Нельзя ли записку поглядеть?
– Она в милиции. Но текст я помню дословно.
– Виолетта взяла с собой какие-то вещи, деньги?
– Захватила только сумочку, в которой лежало рублей пятьсот, не больше, и свою любимую мягкую игрушку, львенка. Это ее талисман. Леточка и спала с ним в обнимку.
– Мне бы взглянуть на ее фотографии.
На свет является семейный альбом. Погружаюсь в сначала черно-белую, а затем цветную жизнь, беззаботную, замершую, точно стоячая вода. Лариса переворачивает листы, осторожно гладит снимки.
– За что судьба так безжалостна? Сначала отняла у меня мужа, теперь – дочь… Думала, не перенесу, умру и освобожусь, наконец, от мучений. И вот – живу…
Костик поднимает голову, облизывая узенький, как щелочка, ротик. На кончике остренького носика нетающим снежком застыла белая капелька – остаток пироженки.
– А вам что известно об исчезновении Виолетты? – интересуюсь вежливо. – Может, заметили в ее поведении нечто странное?
Костик задумчиво пялится на меня, упершись языком в правую щеку, отчего создается впечатление, будто у него флюс. Кажется, он с трудом удерживается, чтобы не посмотреть на меня в очки, как на невиданное животное. Поразмыслив, выдает гладкий чиновничий ответ, суть которого сводится к тому, что его, человека занятого, семейные проблемы не колышут.
В скорбном молчании глядим видеокассету. В той комнате, где мы сейчас находимся, на диване, скрестив по-турецки ноги, восседает Виолетта, смеется, говорит с легонькой хрипотцой: «Мам! Перестань!» – и машет перед своим лицом ладонью с растопыренными пальцами. Эпизод завершается.
– И это все?
– Леточка не любила сниматься. – Лариса вытирает слезы.
С ее разрешения осматриваю комнату Леточки, ничего любопытного не обнаруживаю, отнимаю у хозяев еще около получаса и удаляюсь, прихватив несколько фоток. Меня провожают Лариса и Джерри. В старческих, с отвисшими нижними веками буркалах псины сквозят печаль и надежда.
Дома на кухне блаженно отпиваю из кружки пиво и разглядываю снимки. Славненькая малышка. Темноволосая, улыбчивая, личико нежное. На правой щеке родинка – уже примета.
Вряд ли девчонка покончила с собой, зачем ей тогда игрушка-талисман – лев с торчащими из лохматой гривы ушками, вытаращенными глазищами и умильной улыбкой? С собой в могилку решила взять, как делали древние, чтобы потом на небесах забавляться? Не похоже. Она же не на постельке, в окружении рыдающей родни собиралась Богу душу отдать. Конечно, нельзя исключить и такое: прихватила любимого льва, чтобы не страшно было топиться или вешаться. Но это вряд ли. С другой стороны, не забрала с собой ничего из белья, что, похоже, свидетельствует о желании покинуть этот несовершенный мир. Мертвым вещи без надобности.
В общем, шансов у меня, если честно, – фифти на фифти. Не исключено, что бездыханное тело Леточки покоится среди водорослей и рыбешек на дне пруда или валяется, как старый хлам, в заброшенном сарае. Так что дергаться мне не следует. Буду выполнять обычные заказы, не слишком прибыльные, зато верные. А между делом искать девушку. Отыщу – мое счастье, нет – сильно переживать не стану. Действовать буду без спешки. И надеяться на великий русский авось.
* * *
22 апреля. Воскресенье. Стою перед дверью Анны. Не в первый раз уже, а волнуюсь, как пацан. Она открывает. На ней перехваченный пояском халатик, и у меня кружится голова от близости ее изумительного тела. Мы ненасытно целуемся. Сбрасываю куртку, бормочу, задыхаясь:
– Радость моя, прости, я, наверное, грубая скотина, но я так хочу тебя!
Оказавшись в спальне, задергиваем шторы, наскоро раздевшись, падаем на кровать, ненасытно ласкаемся и соединяемся в бешено движущееся единое целое… Анна стонет, потом, не открывая глаз, смеется. У нее потрясающий горловой смех, воркующий и страстный… В меня входит покой. Такое чудесное расслабление, какое бывает, когда заплывешь подальше и лежишь на спине, покачиваясь на теплых волнах.
– Даже странно, что сейчас апрель, – запрокинув голову, тихо говорит Анна. – Кажется, наступило лето. Это какое-то безумие, милый. Господи, что же с нами будет в июне! Стыдно признаться, прежде я ничего подобного не испытывала. Даже думала, что фригидна.
– Просто мы подходим друг другу, как ключик и замочек. Поверь, я не пошлю, это от радости хочется нести всякую ерунду.
– Хочется – неси.
– Знаешь, если совсем откровенно, и у меня ничего такого не было. Вот честное-пречестное! Ты – Женщина с большой буквы. В сравнении с тобой я всего лишь никудышный мужичонка.
– Ты – мой единственный Мужчина. Если я и стала истинной женщиной, то только благодаря тебе.
– Эх, – вздыхаю я с сожалением, – почему мы не встретились раньше? Столько мгновений блаженства потеряны навсегда!
– Не печалься, – утешает меня Анна, ее божественное контральто звучит многообещающе. – Судя по твоему боевому настрою, мы быстро наверстаем упущенное…