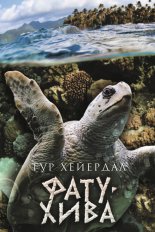Курьер из Гамбурга Соротокина Нина
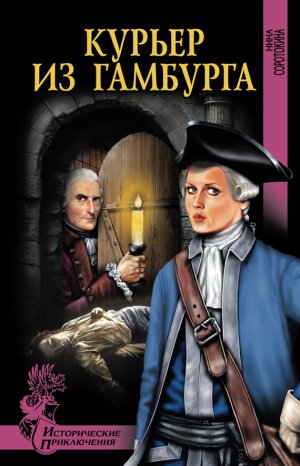
В Смольном воспитанницы имели четыре возрастных цвета: первый голубой, второй коричневый (девам больше нравилось говорить кофейный), третий серый, и, наконец, четвертый, в котором воспитанницы, словно невесты Христовы, носили белые платья.
В коричневом возрасте (уже одиннадцать лет) мадемуазель Бутурлина опрокинула на классную даму кувшин с водой. Объяснение было простым – «я нечаянно». Как же нечаянно, если кувшин кто-то принес в дортуар и на шкаф поставил, а на самый краешек. Чуть качни, он и перевернется. А шкаф толкнули так ловко, что нелюбимой классной даме облили не только платье, но и сложную прическу, упрятанную в чепец, и насурьмленные брови. Видно, черная краска была дешева и поплыла самым вульгарным образом.
Бутурлина стояла рядом со шкафом и уверяла, что ее толкнули. Иначе она бы никак не ударилась головой о шкаф, «посмотрите какая шишка»! Бедная классная дама не только не имела права дать виновнице затрещину, но даже поднять крик не могла, потому что в присутствии воспитанниц унынье, грусть и уж, конечно, досада и гнев недопустимы. Так и стояла, плача черными слезами.
Училась Варя неважно, но за это не наказывали, а с удивительным, как казалось девочке, занудством допытывались, почему ей не нравятся уроки географии. Она честно отвечала: «Да потому что скучно!» Ей объясняли, что скука пагубное качество, что надо пытаться достигнуть сути предмета, понять, что такое широты и меридианы, и тогда радивость и знания, ровно птицы, сами влетят в голову. Не влетали… Уж кто-кто, а Варя знала, что знания получаются «долбней» – зазубриванием наизусть целых абзацев непроговариваемых терминов. А зачем ей знать, на какой «широте и долготе» она живет? От этого не будешь ни красивее, ни счастливее.
Императрица большое значение придавала самостоятельному чтению книг, поэтому присылала их в Смольный в большом количестве. Девочек учили французскому, немецкому и итальянскому, поэтому перечень авторов был велик. Особым почтением пользовались французские книги философов-просветителей. «Читать и думать о прочитанном» – таков был лозунг Общества. Варя читала и даже с охотой, но думать о прочитанном ей было скучно. И ее можно понять. Четырнадцать лет – какой там Монтескье с его «Энциклопедией»!
В «сером» возрасте Бутурлина была наказана по всей форме «пристыжением» перед классом. В Смольном не было более тяжелой кары. Все произошло на утренней молитве, зимой, в пост. Объясняя свое поведение, Варя потом говорила, что ненавидит эти «грибочки в горшочках», что от них у нее живот болит, а потому она не могла достоять службы до конца.
А случилась вещь обычная. Шесть утра, в соборе так холодно, что нос ледяной и зубы выбивают дробь, свечи горят тускло, монашки, как тени стоят по углам. Ужасно хотелось спать. Все знали, что Верка Рогозина влюблена в попа. В Смольном Обществе все были в кого-нибудь влюблены. Но обычно предметом обожания были старшие смолянки или классные дамы. Больше всего обожали красавиц. Им откровенно прислуживали, сшивали тетрадки, чинили перья, приносили вкусненькое, если удавалось уговорить горничную купить что-нибудь в городской лавке. И все вместе, все до одной воспитанницы, голубые, коричневые и серые, до умиления, до непритворных слез, обожали императрицу.
А Рогозина обожала попа. Все зевали, крестили рот, одна Верка смотрела на священника с восторгом. Кто-то из девочек хихикнул: «Хорошо Рогозиной, она в церковь как на свидание ходит». В любовном и религиозном экстазе Вера не разобралась, кто именно это сказал, но больно, с вывертом ущипнула стоящую рядом девицу за бедро. Надо ли говорить, что это была Бутурлна. Спросонья не соразмерив голос с торжественностью обстановки, Варя крикнула:
– Ты что, белены объелась? Больно ведь! Вот ведь гадюка!
Не успело бранчливое эхо вознестись вверх, как монашки уже волокли негодницу Бутурлину из церкви. На следующий день Варя стояла перед классом и каялась «в нарушение благонравного поведения во время молитвы». Она могла бы объяснить свое поведение и показать синяк, но жаловаться, да еще при этом задирать подол перед классной дамой – никогда!
Конечно, Варя Бутурлина была проказницей, но не более, чем другие. Воспитанницы ее любили, знали, что Бутурлина в нужную минуту придет на помощь, и умеет хранить чужие секреты, и никогда не врет. Правда, последнее качество в детстве почитается всегда сомнительным. Скоро Вареньке Бутурлиной придется врать очень часто, и делать это она будет с легкостью.
И произошло это, когда воспитанниц старших классов обрядили в белые платья. У белых девиц были две главные заботы: выступить хорошо на театре и получить при окончании золотую медаль и шифр – золотой знак с вензелем Екатерины, которые давались за особые успехи в учебе и поведении. На шифр и медаль Варя не рассчитывала, да это особенно ее и не огорчало, а то, что в театре ее задвинули на второстепенные роли, стало для девушки истинной мукой. В пятнадцать лет Варя вдруг располнела. Не скажешь, что она была тучной или рыхлой, полнота ее была здоровой, ядреной. По меркам допетровской Руси она была красавицей. В стародавние времена девы по сто толщиной надевали, чтоб только не обозвали их «худосочными» Если ты плоская, как селедка, то и потомство от тебя пойдет некудышное. Но в XVIII веке были совсем другие каноны красоты. Надобно, чтобы талия была осиная, ножка изящная, стан подвижный и гибкий и интересная бледность в лице. И наплевала бы Варя на свою внешность, если бы ее опять, как раньше, приглашали танцевать в балете. Теперь же ей остались только роли комических старух.
Варя тайно плакала и завидовала Наташе Борщовой. Мордашка простенькая, нос пуговкой, а сколько изящества в жесте. Или Алимушка – обворожительная Глаша Алимова, голос дивный, и на арфе играет, и на клавесине, а в танце легка, как пушинка. Это о них, Борщовой и Алимовой написали «Санкт-Петербургские ведомости», что «в балете девицы белого цвета можно сказать составлены были из Грациев». А Бутурлина теперь не танцует, а если поет, так только в хоре.
Варя решила похудеть. Впрочем, этим была одержима ни она одна. Кормили воспитанниц сытно, но однообразно, поэтому не так уж трудно было отказаться от еды. В Смольном существовала твердая легенда: чтобы похудеть, надо есть глину, мел, особенно хорош толченый грифель. Про грифель Варя не могла думать без содрогания, но мел – куда ни шло. Главное, отказаться полностью от ужина. Хочешь есть – закуси мелом и прочитай молитву.
Мучилась Варя не напрасно. Уже через месяц мадам, глядя на Варю, сказала озабоченно:
– Что ты дохленькая такая? Даже жилки на лбу просвечивают. И румянец пропал? Ты не заболела?
Ура! Румянец и здоровый вид были уничтожены! Но мечтать о шифре все равно бессмысленно. Даже если она приналяжет на учебу и разберется в ненавистной опытной физике, и одолеет геральдику, то все равно не видеть ей главных наград. В чем она действительно преуспела, так это в рисовании и «домашней экономии». Варенька с удовольствием посещала в учебные часы кухню, с толком выбрила нужные продукты для приготовления блюда, а потом готовила быстро, ловко и вкусно. И не какие-нибудь простые блюда, она умела приготовить все четыре подачи: и холодное, и горячее, и жареное, и взвары любые. Но талант этот не оценивали по-должному. Ее похлебку из рябчиков с каштанами классные дамы съели до капельки, а Варе сказали, что барышне самой готовить не пристало, что в задачу воспитанницы Смольного общества входит уметь платить поставщикам, вести запись расходов, смотреть, чтобы в кухне были порядок и чистота, а у плиты должны стоять повара. Словом, опять начальству не угодила.
А сейчас, когда ее талию можно двумя руками обхватить, она домашнюю экономию вообще забросила. Только и осталось одно – рисование. Не в художницы же благородной девице идти?
Жизнь не удалась, это точно. В таком настроении находилась Варя Бутурлина, когда садовник Архип, в обязанности которого входило ухаживать за садом, чистить фонтан и подновлять беседки и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не иметь сношений с воспитанницами, передал ей записку.
Во время вечерней прогулки она спряталась от подруг за куст шиповника и, зажимая рот, чтобы не рассмеяться, следила, как они ищут ее в зарослях у беседки. Рыхливший рядом землю садовник вдруг сунул руку в фартук, вытащил из него конверт и подошел к Варе с заговорщицким видом.
– Что? – пошептала она испуганно.
– Это вам, барышня. За все уплачено. Не извольте беспокоиться. Завтра же в это время передайте мне ответ.
Варя была потрясена. Она получала письма от опекуна. Но письма от него приходили на имя госпожи де Лафон и читать их надлежало в ее присутствии. Девушка хотела разорвать конверт, но подруги уже бежали к ней с криком: «Тебе водить! Теперь ты водишь». Она только и успела, что спрятать бумагу за лиф.
До самой ночи ее не на секунду не оставили одну, и весь вечер ей пришлось ломать голову, вычисляя автора тайного послания. Первой пришла мысль о розовощеком кадете, с которым танцевала менуэт на Рождество. Тогда в старшие классы были приглашены выпускники Сухопутного корпуса. Весело было. Она будет беспристрастна, во всяком случае, постарается, но это же очевидно, кадет Николай, фамилию забыла, явно оказывал ей знаки внимания. Подтверждение этому можно найти и в замечании Рогозиной, которая походя бросила: «У твоего кадета ноги кривые». Верка в простоте ни одного слова не скажет, а замечание ее означает, что она отчаянно завидует Вариному успеху. И вовсе не кривые у него были ноги, Варя потом внимательно посмотрела. С того бала почти полгода прошло. Но если она за пять месяцев не забыла кадета, то очень может быть, что и он помнит о ней.
Был еще один образ, воспоминание о котором волновало Вареньку гораздо сильнее, чем рождественский бал. Два года назад воспитанницам сделали несравненный подарок – разрешили наконец свидание с родителями. К Смольному монастырю потянулись кареты. Варя никого не ждала. В крайнем случае к ней мог явиться кто-нибудь из дальней отцовской родни, но родственники не проявили к ней никакого любопытства, а вместо них приехал опекун с сыном. Зачем старый Бакунин взял с собой красавца сына, было непонятно. Видно, он решил, что обделенной родителями Вареньке будет приятно провести вечер как бы в семейной атмосфере. В четырнадцать лет девочки очень впечатлительны, а Федор Бакунин был поистине великолепен. Во-первых он был, как уже говорилось, красив, и еще как-то не по-русски опрятен, от него великолепно пахло. Да, и еще голос! Варя не представляла, что можно влюбиться в человека за его голос. Но сейчас, став взрослой, а именно таковой она себя почитала, Варя понимала – мечтать о записке от Бакунина смешно и наивно.
Но то, что она узнала по прочтении письма – при огарке свечи, в дортуаре, – превзошло все ее ожидания. Воспоминания о розовощеком кадете и красавчике Бакунине совершенно стушевались, а потом и вовсе исчезли из головы. Сестра, Глория… Глашенька! Варя давно уже считала ее если не погибшей, то потерянной для себя безвозвратно. Попав в Смольный, она вспоминала сестру ежечасно, ежедневно, но время делает свое. «Все проходит», сказал царь Соломон. Воспоминания о счастливой жизни в доме отца рассыпались, превратились из единой картины в блестящие осколки, а образ сестры ушел куда-то за окаем и слился с чужим, непонятным миром.
Варя привыкла к мысли, что она одинока в этом мире, и вдруг родная душа!.. Глафира писала, что любит ее по-прежнему, что сейчас находится в Петербурге и просит о встрече.
Чтобы объяснить, как случилось, что садовник Архип стал почтальоном и вестником счастья, мы должны вернуться несколько назад, в тот день, когда жена каретника Феврония истопила баню и пригласила своего юного постояльца помыться и попариться на русский манер.
– С обеда протопила. Сейчас самый жар. Можете вместе с мужем мыться, он славно веником орудовать выучился. А можете и в одиночестве.
Глафира не посмела отказаться.
– В одиночестве, – проблеяла она чуть испуганно. – Я не люблю, когда очень жарко.
– И хорошо. Бельишко чистое приготовьте и ждите. Я вас позову. Мыло, мочало и прочее можете не покупать. У нас все есть.
Феврония, несмотря на свой скверный характер, недаром Озеров называл ее фурией, оказывала Глафире всяческие знаки внимания. Мало того, что кормила недорого и сытно, так еще имела обыкновение в отсутствии постояльца занести в его комнаты то кувшин с молоком и свежие пирожки на оловянном блюде, то связку баранок с маком повесить на гвоздик. Озеров знал об этом и люто завидовал. Глафира объясняла нелюбовь Февронии к протоколисту тем, он все норовил зажать хозяйку в угол и ущипнуть своими толстенными пальцами за грудь, а юный Шлос был тих, застенчив и за квартиру заплатил вперед за два месяца.
Правда, мнимый Шлос не мог избавиться от ощущения, что хозяйка его в чем-то подозревает. Уж слишком иной раз она внимательно рассматривала юного постояльца. И еще Глафира примечала, что кто-то роется в ее вещах, но поскольку вещей было мало, а женское платье вообще было спрятано в чулане среди дров, то нашу героиню это мало волновало.
В установленный час, часы девять отбили, но было еще светло, хозяйка повела Глафиру в баню, расположенную в дальнем конце сада на берегу малой речки. Банька была маленькая, чистая, летний вечер не убавил в ней жару. Горячая вода в котле, холодная в двух кадках – раздолье!
Глафира сидела на полке, опустив ноги в корыто, блаженно плескала на плечи горячей водой и смотрела на запотевшее треснутое стекло, закрывающее малое оконце. Чья-то тень пробежала по стеклу, потом что-то лязгнуло в предбаннике. Этот звук не насторожил, потому что она твердо помнила, что закрыла дверь на щеколду. Но не успела Глафира додумать мысль о безопасности до конца, как на пороге мыльни появилась Феврония в исподней рубахе. В руках у нее был огромный медный таз с дубовым веником. Глафира пискнула и закрыла грудь руками.
– Тепло у тебя, – сказала хозяйка удовлетворенно. – Да ты не суетись. Я с первого взгляда поняла, что ты девица. Ну, давай мыться, что ли.
Феврония стащила рубаху и прошлепала босыми ногами к котлу. Художника Кустодиева знаете? Его «Красавицу», что находится в нижегородском музее, видели? Тогда вы отлично можете представить Февронью в бане. Правда, красавице следует накинуть пятнадцать лет, появились морщинки у глаз, как говорят, «лапки», но кожа все так же атласна, и бедра округлы, а груди, превратившиеся из яблок в груши не утратили для мужеского пола былой притягательности.
Хозяйка уселась на полку, обширный зад фурии смачно чмокнул. Глафира смутилась только на мгновенье. А чего ей бояться? Ну, догадалась Феврония о ее тайне, что с того? Если той не по нраву маскарад, завтра же съедет со двора. Можно и другую квартиру найти. Поэтому она улыбнулась, расслабилась и опрокинула на голову ковш воды. Будем голову мыть.
– Ну, чадо, рассказывай.
– Что рассказывать?
– Зачем в Петербург приехала? Зачем в мужской костюм обрядилась? По-немецки трещишь как скворец, но ведь ты русская. Угадала я иль нет?
– А это не твоего ума дело, – резко оборвала ее Глафира.
– Не скажешь, в полицейскую часть донесу. Ты ведь по мужскому паспорту живешь. Я видела. А это дело подсудное. Мало ли с какими умыслами ты сюда явилась! Может, со злобными.
– Нет у меня никаких злобных умыслов.
– Догадываюсь, зачем ты здесь. Ты, дева, от родителей сбежала. За дружком. Правильно говоря? Большой вины в этом нет, но если я родителям сообщу, то ты, пожалуй, и не обрадуешься.
– Не обрадуюсь, – согласилась Глафира.
Вода каплями стекала с волос на плечи и живот, и хоть в бане было очень жарко, ее вдруг передернуло, как от озноба.
– Хорошо, я заплачу, – сказала она наконец. – Говори, сколько?
– Да сговоримся, – покладисто бросила Феврония. – Ложись на лавку-то. Похлещу тебя веничком. Пару мало, надо угли вздуть.
Глафира покорно растянулась на теплых досках. Что теперь капризничать? Вениками Феврония работала мастерски. «Вот так и забьет меня эта стерва насмерть, – подумала вдруг девушка. – Не в физическом смысле, в духовном. Забьет и ограбит, все выжмет, выдавит до капли. Бежать надо. Бежать ночью, тайно. Правда, задатка жалко, да и помнить надо, что Альбертов кошелек не бездонный».
Феврония отбросила веник, отерла пот со лба и, размягчившись вдруг сказала участливо:
– Ты лучше расскажи мне, в чем дело-то. Может, я тебе и помогу. Я же вижу, ты одна как перст. И сосед к тебе шляется. Ты с Озеровым компании не води. Он мужчина гнилой и тайный, – она перешла на шепот. – Со странной компанией связан.
Конечно, Глафиру подкупило, что Феврония стала разговаривать с ней участливым тоном. Не похожа она на злодейку, но если бы этот разговор происходил не в бане, то дева наша ни за что не стала откровенничать. А здесь само с языка потекло. И объяснение этому простое. Во-первых, куда ей бежать-то? От себя не убежишь. А во-вторых, и это главное, голый человек совсем не то, что одетый. Когда мы во сне себя голыми видим, то ощущаем полную свою незащищенность. Нянька Татьяна говорила, что во сне мы в потустороннем мире пребываем. Иначе, зачем сон? Голыми мы будем стоять перед ангелами, и перед Господом Богом в Страшный суд предстанем, в чем мать родила, чтобы сказать голую правду.
– Не сбежала я с молодым кавалером, а если и любила кого, то сроку моей любви было три дня. Но помер мой избранник, а я в столицу подалась. Правду искать.
– Это какую же правду?
Феврония меж тем размочила в мисе ржаной хлеб и ловко облепила им волосы Глафире, чтобы привить им мягкость и шелковистость. Потом сама парилась, повторяя время от времени: «ты говори, говори…». Потом прополоскала волосы девушки душистой водой и расчесала частым гребнем, хорошие волосы, но обрезаны кое-как, а Глафира, поеживаясь от ласковых прикосновений, рассказала и про Альберта, и про свой побег, и про Марью Викторовну и ненавистного Баранова. Так, слово за слово, Феврония из нее все и вытянула.
– Единой помошницей мне может быть сестра. Она в Смольном воспитательном обществе живет.
Рука Февронии на мгновение замерла, а с губ готовы были сорваться упредительные слова. В лексиконе двадцатого века они прозвучали бы: «С этого места поподробнее, пожалуйста», но умная женщина промолчала, опять принялась тереть мочалкой плечи, которые слегка поскрипывали из-за полной их чистоты.
– Но я не знаю, как до сестры добраться. Она, конечно, молода, всего шестнадцать лет, но все воспитанницы пребывают под опекой самой государыни. А значит, Варя могла бы мне дать разумный совет и вообще оказать содействие. Но пока я даже не знаю, как сообщить Вареньке о своем приезде.
– Как зовут твою сестру?
– Варвара Бутурлина.
– Вона… фамилия знатная. Встречу с сестрой я тебе устрою. Для начала надо записку написать. Правда, это будет стоить денег.
– Я заплачу, – с готовностью воскликнула Глафира. – Но как вы все это устроите?
– А это тебя не касается. Ты мне вот что скажи. Сестра твоя богатая. Но ты ведь сбоку припеку. Так ведь?
Глафира даже обиделась. Она не с припеку. Она есть законная наследница, поскольку ее удочерили и бумаги оформили по всем правилам. И все те бумаги, включая отцовское завещание, находятся в опекунском совете, а руководит дальнейшей судьбой ее опекун Ипполит Иванович Веселовский, человек крутой и бесчестный, проще говоря, гад подколодный. Но ужо достигнет Глафира совершенства лет и «буде невенчанной», сама вступит в права наследства.
– Когда же будет твое совершеннолетие?
– Опекунский совет постановил, что в двадцать лет. Поскольку я актерская дочь и, может быть, изберу сцену.
– Сейчас-то тебе сколько?
– Девятнадцать. В октябре будет двадцать. Вот так-то!
– Ну вот и ладушки, – решительно подвела итог Феврония. – Пойдем в сенцы. У меня там мята со смородиновым листом заварена, и квас холодный есть.
Непонятно было, когда хозяйка успела закрыть льняной скатеркой грубую столешницу, когда бросила подушки на лавку. Тон ее, доселе вкрадчивый, доверительный, сменился на деловой и серьезный.
– Что стоишь? Бери полотенца, укрывайся, садись, – сказала она, укутывая чресла простыней. – Помогать буду до самого твоего совершеннолетия, но давай с тобой договор заключим по всей форме.
– Договор? – не поняла Глафира.
– Заверять его в конторе не требуется. Главное, чтобы бумага была написана твоей рукой и тобой же подписана. А в бумаге напишешь, что ты мне от своего наследства отстегнешь.
– Что значит – отстегнешь?
– Заплатишь сумму, которую я назову.
– Какую же сумму вы назовете?
– Этого я пока не знаю. Долю дашь.
– Какую еще долю?
– Половины я у тебя не потребую. На это и опекунский совет не пойдет. А пятую часть от наследства – подавай. Я думаю, что это справедливо. Пятая часть от земельных угодий, векселей, бумаг и живых денег.
– А не подавишься? – разозлилась Глафира.
Феврония неожиданно как-то гортанно, хрипло расхохоталась и хлопнула девушку по голой коленке.
– Не подавлюсь. Мне в самый раз. Ты хорошо подумай, прежде чем от моих услуг отказываться. А то ведь донесу.
– Ну и доносите.
Феврония не смутилась.
– А вот это уже глупость. Ты хоть девица и решительная, но без моей помощи тебе никак не обойтись. Ты даже личность свою без меня подтвердить не сможешь. Да и помощницы тебе лучше, чем я, не найти. Я этого города дочь, здесь родилась и взросла, я Петербург как свои пять пальцев знаю. Миром правят богатые, они приказы рассылают, а бумаги-то составляют и пишут люди мелкие. И каждый хочет свою выгоду иметь. Я с тобой хитрить не буду. Мне, чтоб свою долю получить, выгоднее честной быть.
Глафире казалось, что все вещи в комнатенке притихли, ожидая ее решения, и даже квас потерял шипучесть, пена беззвучно растаяла в только что налитой кружке, и фитилек в плошке горит без обычного потрескивания. Загляни сюда сторонний наблюдатель и вслушайся в их разговор, он бы язык проглотил от удивления. Две полуголые тетки затеяли в бане деловой разговор и теперь лениво перепираются, ища свою выгоду. У Февронии глаза рыжие, рысьи, и хоть не подходит она на роль бабы Яги, она эта самая Яга и есть, поскольку сама судьба поставила ее на эту должность. А Глафира не иначе как Иванушка-Шлос, предназначенный в жертвенную печь. Думай, отрок, как живым остаться и беды избежать.
– Так нести письмо сестрице иль нет?
– О моем наследстве мы потом поговорим. А пока я буду платить за доставку отдельную плату.
– Ты на это переписку половину своих денег изведешь, а я прошу у тебя часть от богатства будущего, которое еще, может, будет, а может, и нет.
– А если вы меня обманете?
– А если ты меня обманешь? – обе повернулись дружка к дружке, глядя в глаза.
Глафира первой опустила взгляд.
– Ну, вот и решили, – удовлетворенно произнесла Феврония. – Дай я тебя оботру. Переодевайся в сухое. Завтра с утречка все и напишем. О договоре нашем молчок. Ни полслова никому не сболтни. Ты людям-то не больно верь. Здесь в столице все зубастые, каждый свою выгоду ищет. Моргнуть не успеешь, как оберут тебя о нитки.
Теперь самое время сказать несколько слов о Февронии. Если закрутится сюжет в штопор, то, пожалуй, и не достанет в нашем повествовании для этого рассказа места.
Начнем с имени. Старое поверье утверждает, что данное человеку имя строго определяет судьбу его. Но из каждого правила есть исключение. Девочку назвали Февронией вовсе не в честь героини древности, просто по святцам совпало, но батюшка, возвратившись с Турецкой войны, где славно потрудился под руководством фельдмаршала Миниха, очень был доволен, что дочки, ей уж четыре годка было, дали такое прекрасное имя.
«Повестью о Петре и Февронии Муромских», славном сочинении Ермолая Еразма, зачитывались еще предки наши. Была та дева Феврония тиха, мудра, умела походя творить чудеса и в браке была весьма счастлива. Это батюшка по простоте своей и предрекал четырехлетней дочери.
Но все вышло не так. Девочка с самого детства характер имела решительный, можно даже сказать, крутой. Жизнь матушки рано пресеклась, и отрочество свое Феврония провела в гарнизоне среди васильковых драгунских мундиров, штандартов, завтракала под звук трубы, обедала под барабанный бой. Девушка не имела творить чудеса, не прорастали в одну ночь в дерево воткнутые в землю ветки, не превращались крохи хлеба на ладони ее в ладан, но юная Феврония была отличной хозяйкой. А житейская мудрость ее проявилась не в иносказаниях и загадках, к которым прибегала древняя героиня, дабы не оскорбить людей открытым поучением, а уменьем хоть мытьем, хоть катаньем настоять на своем. Словом, никакой тихости.
Батюшка успел выдать дочь замуж и погиб в пятьдесят шесть лет на Семилетней войне в Германии. Муж Февронии, как и батюшка, был унтер-офицером, но служил не в полевых войсках, а в гарнизонных. Брак был неудачным. Оказалось, что муж человек крутого нрава, на руку невоздержан, а что особенно грустно – пьяница. Пил он не каждодневно, но запоями, и в эти срамные минуты, когда ноги еще держат, а разум отказывает, он и подымал руку не только на жену, но и на дочь, малолетнюю Наталью. Последнего Феврония никак не могла стерпеть и вступала с мужем в драку. А однажды навела на него, косматого дурака, фузею и пообещала спустить курок. Унтер-офицер струсил, поджал хвост, но пить не перестал.
Умер он не на поле брани, как приличествует истинному солдату, а после пьяной драки в день вступления на трон великой государыни Екатерины. В честь важного дня 30 июня в городе были открыты все кабаки, трактиры и винные погреба. Прямо на улицах стояли бочки с бесплатным вином. Народ отвел душу по полной. Говорили, что унтер-офицер Прозоров погиб не в драке, а захлебнулся в винной бочке. Но Феврония не расследовала этого дела. Мужа в дом принесли как бревно, он уже окостенел.
Она осталась с шестилетней дочкой на руках, бедствовала, конечно, но нашлись добрые люди – все из окружения покойного батюшки. По Петербургу прошел слух, что государыня рядом с «благородной половиной» Смольного Воспитательного общества собирается открыть в Воскресеньском монастыре еще одно учебное заведение – Мещанское. Вскоре слух подтвердился. Императрица, как поборница справедливости, просвещения и свободы, решила облагородить всех своих подданных и объявила, что в Мещанском воспитательном обществе будут жить и учиться на полном пансионе дочери лакеев, солдат, унтер-офицеров и нижних церковных чинов. В «особливом училище для воспитания малолетних, всякого чина девочек» собирались учить, разумеется, по более примитивной программе, чем на «благородной половине». Юные мещанки должны уметь шить, вышивать, ткать, стряпать и вести хозяйство, но при этом не худо знать еще арифметику, рисование и иностранные языки. Особо талантливых воспитанниц обещали учить танцам и музыке.
Феврония решила, что она костьми ляжет, но отдаст Наташеньку в Смольное Мещанское заведение. Однако удалось ей это не сразу. Пока возраст подошел, пока нужные документы собирала. Наталью Прозорову, учитывая заслуги ее деда, приняли без разговоров. Случилось это в 68-м году, за шесть лет от описываемых событий.
Эти шесть лет Феврония не потратила зря, она вторично вышла замуж. Никаких особо нежных чувств она к жениху не питала, во-первых, старше ее на пятнадцать лет, во-вторых, немец, а как разговаривать, если не знаешь их тарабарского языка? Но были у Франца Румеля и положительные качества: не пил, кроме того, ремесло, его процветало, словом, этот Франц был очень не беден. Были трудности с венчанием, но и это удалось преодолеть ушлой Февронии, муж продолжал ходить в протестантский храм Петра и Павла, что на Невском, а Феврония как была православной, так ей и осталась.
Про дочь от первого брака она предупредила мужа, но сделала это так, что тема эта никогда больше не поднималась. На этом настояла Феврония. Отдавая девочку в Мещанское училище, она придумала себе мечту – сделать из Наташеньки благородную. А раз так, то нечего девочке вообще помнить, что ее отчим обтягивал кожей кузова карет и ладил колеса. Правда, в уставе Мещанского училища об изменении сословного положения воспитанниц не говорилось ни слова. По замыслу основательницы они должны были «облагородить своим присутствием мещанскую среду», а в лучшем случае поступить гувернанткой в богатый дом, дабы трудом своим зарабатывать деньги. Единственная высочайше дарованная привилегия для Февронии звучала и вовсе оскорбительно: если кто-либо из воспитанниц выйдет замуж за крепостного, то муж, а также прижитые в браке дети, получали вольную.
Но Феврония не собиралась отдавать дочь за крепостного мужика! Она свято верила, что сможет обеспечить полноценное счастье дочери. Судьба должна послать ей «случай», а уж она его не упустит. Ясно, что этим случаем явилась переодетая в мужской костюм Глафира.
И ведь как все совпало замечательно! У беглой девчонки сестра в Смольном Обществе, а это значит, что девушки живут в одном здании. Правда, мещанки и благородные практически не общались друг с другом. Начальница общая, а все прочее врозь. Девочки даже гуляли в разное время, у мещаночек были свои места для прогулок. Более того, сразу после открытия Мещанского училища к северу от монастырских стен начали строить новый корпус, специально для мещанских детей. Говорят, что строительство здания уже подходит к концу. Социальное неравенство в Смольном поддерживалось сполна.
Но все это не остановило решительную женщину. Она решила не только обеспечить приданое своей Наталье, но и познакомить ее с Варей Бутурлиной, и не только познакомить – подружить. Торопиться не надо, но и слишком долго годить нельзя. Наташеньку могут уже осенью перевести в новое здание, тогда путь к благородной Бутурлиной будет вовсе перекрыть. На все воля Божья. А пока для передачи записки Глафиры Феврония использовала давно налаженную связь. Садовник Архип давно уже был передаточным звеном между Натальей и матерью.
Получив письмо от сестры, Варя целый день сочиняла ответ. Будь ее воля, она бы всю тетрадку исписала, но листок был мал, да и писать ей долго никто бы не дал. Варя только и успела сообщить сестре о своем восторге, высказала надежду, что со временем устроит их свидание, а пока извещала о возможности увидеть сестру хотя бы издали. «Так все совпало удачно, милая Глашенька! Матушка государыня хочет нас порадовать и в конце недели, а именно в субботу, у нас намечается большая прогулка в Летний сад. Голубые и белые девы поплывут на катере по Неве, а в Летнем саду нас покажут гуляющей публике». Варя не приглашала Глафиру броситься на прогулке к ней в объятия, но объясняла, где той надобно стоять, чтобы они друг дружку увидели.
Ответ пришел на следующий день и озадачил Вареньку не меньше, чем первое послание. Глафира писала, что будет в Летнем саду непременно. Дальше шла странность. «Драгоценная сестрица моя, не удивляйся тому, что я буду в мужском костюме. При личной встрече объясню мой вынужденный маскарад. Я буду в коричневом камзоле и в парике. Красную треуголку с плюмажем буду держать в руке, а при виде белых и голубых девиц, начну размахивать сей треуголкой как бы в восторге. Когда увидишь меня, сделай ответный знак, высоко подыми правую руку и помаши пальцами, как мы в детстве махали. Ведь столько лет прошло, боюсь, что и не признаю тебя сразу, драгоценная моя сестренка».
Надо ли говорить, как томилась Варя в ожидании субботы. Все Смольное Общество было в волнении, говорили, что о предстоящей прогулке в Летнем саду объявлено в газете. Но Варю куда больше занимала предстоящая встреча с сестрой.
В вот тожественный день настал. Тридцать девиц удостоились чести сесть в разукрашенные шлюпки. Народу на набережной собралось такое множество, что полиции пришлось перекрыть движение экипажей. Всем хотелось своими глазами увидеть «монастырок», как ехидно обозвали в городе благородных воспитанниц.
Однако ожидание затянулось. Голубые и белые девицы высадились не у Летнего сада, а на причале у Зимнего дворца и чинно парами проследовали в Эрмитаж. Решено было в этот день показать воспитанницам великолепные картины, выставленные для общего обозрения государыней.
Наконец благородные девы проследовали в Летний сад. Публика глядела на них разинув рты. На следующий день «Санкт-Петербургские ведомости» дали подобный отчет о сим событии: «И подлинно, собрание девиц было достойно любопытства и внимания: такое множество единолетних девиц, единоцветною украшенных одеждою, идут в некотором порядке». И еще: «Во время гуляния всякий мог приметить в них благопристойную смелость. Всем нравилась их благородная незастенчивость. Со всеми и обо всем они изъяснялись свободно, непринужденно и с особой приятностью и на все вопросы отвечали к удовольствию каждого любопытствующего узнать о их понятии и знания».
Как водится, газеты несколько приврали. Как можно «непринужденно и с особой приятностью» отвечать на такие вот вопросы и предложения:
– Хорошенькая, как тебя зовут?
– Дева, скажи что-нибудь по-латыни!
– А танцевать вы будете? Монастырки, говорят вы отменно танцуете.
– А правда, что вас учат математике и астрономии? Вот ты, с бантиком, приходи лучше вечером на Невский!
Впереди девиц важно шествовала мадам де Лафон, классные дамы шли по бокам, делая инстинктивные и не всегда ловкие попытки оградить смолянок от назойливости зрителей, уж слишком толпа взволнована, как бы чего не вышло.
Но мероприятие протекало вполне чинно и благовоспитанно. Только один раз ряды воспитанниц смешались. Это случилось в тот момент, когда вдруг грянула роговая музыка. Сюрприз этот был приготовлен по приказу самой государыни. Их сиятельство граф Григорий Григорьевич Орлов загодя спрятал в кустах свой известный на всю столицу оркестр. Ах, как прекрасно! Солнечный день, яркие блики на мраморных нимфах, струи фонтана взмываются вверх, а мелодия звучит как предчувствие счастья и уносит сердца в райские кущи.
Варя вертела головой, разыскивая взглядом Глафиру, разве разглядишь ее в эдакой толпе. И вдруг сзади, девы как раз выходили из грота, раздался возглас:
– Варя, это я!
Она круто повернулась и увидела в шеренге зрителей юношу с красной треуголкой в руках! Это был шок, другое слово здесь неуместно. Варя много раз мысленно проигрывала встречу с сестрой, но она была уверена, что узнает Глафиру с первого взгляда, а как же иначе? Но этот смуглый юноша с горящими глазами совсем не был похож на придуманный образ. Может быть, все это подделка, и кто-то решил сыграть с ней злую шутку?
– Я тебя узнала, – прошептал обладатель красной треуголки одними губами.
Тут толпа разъяла их, воспитательницы поспешно стали соединять девушек в пары. Подчиняясь их решительным окрикам, толпа потеснилась. И вот уже белые девы идут к причалу. Музыканты взяли последний аккорд и смолкли на высокой пронзительной ноте. Смущенная Варя продолжала искать глазами странного юношу. Его нигде не было, и только когда воспитанницы подошли к шлюпкам, юноша опять появился в поле зрения. Он сумел каким-то чудом пробраться к самым перилам набережной, а потом и вовсе, растолкав всех, дошел до самой Фонтанной речки.
Варя пристально следила за его фигурой, и только когда он застыл, а потом поднял руки над головой и соединил их в прощальном приветствии, все встало на свои места. Словно круг замкнулся, конечно, она, Глашенька, потому что никто кроме нее, не умеет «махать пальцами», как это называлось у них в детстве. При расставании люди машут рукой, а Глафира словно щелкала несуществующими кастаньетами.
И всю неделю, и даже более того, Варю пребывала в странном, восторженном состоянии из-за того, что с образом красивого юноши в красной треуголке сливались, сплавлялись черты забытой сестры, которую можно и должно любить.
А Глафира купила журнал «Живописец», в котором были опубликованы «Стихи благородным девицам первого возраста в Новодевичьем Воскресенском монастыре воспитываемым». Вот один из куплетов сих виршей:
- Как сад присутствием их ныне украшался,
- Так будет красится вся русская страна.
- Предбудущая в них нам польза уж видна:
- Не тщетно каждый, зря девиц сих, восхищался.
Глафира плакала от умиления.
Часть вторая
И хватит про Глафиру. Со временем она появится на страницах нашего повествования, а пока мы переходим к серьезной, не девичьего ума, части. Как говорится, акт второй, сцена первая. На подмостках появляются новые герои, очень далекие от судеб Глафиры Турлиной и сестры ее Варвары.
Вернемся несколько назад, поднимем тяжелый занавес и заглянем в святую святых государства Российского – в Зимний дворец, а также в Петергоф и Царское Село, словом туда, где протекает жизнь государыни нашей божественной Екатерины и сына ее Павла, русского Гамлета, как говорили в Европе.
Павел ненавидел мать. Когда она умерла и он, уже сорокачетырехлетний, вошел на престол, первое, что сделал, – издал закон о престолонаследии. С этим законом кончилось женское правление на русском троне. Теперь императору наследовал его старший сын. Вторым делом были похороны убитого отца. Павел приказал выкопать его из могилы в Невской лавре, чтобы похоронить с почестями там, где подобает лежать русским царям – в Петропавловском соборе. Кроме того, он намеревался короновать мертвого императора, поскольку это не успели сделать при его шестимесячном правлении.
Короновать труп – слыханное ли дело? Но еще ужаснее выглядела похоронная процессия, которая шла по Невскому проспекту за гробом. Во главе ее шел главный убийца Петра III – Алексей Орлов, уже дряхлый старик, которого силой привезли из Москвы в северную столицу и заставили выполнять унизительную роль. А что делать – шел, нес на бархатной подушке ордена убитого им императора. Петербург усмехался, гладя на это ужасное зрелище.
Екатерина начала писать свои «Записки» (жизнеописание) сразу, как заняла трон. Много раз она бросала свой труд и начинала снова: «Я родилась 21 апреля 1729 года в Штеттине…», но все написанное в «Записках» касается только многотрудной жизни будущей императрицы при дворе нелюбимой тетки Елизаветы. Да, она старается быть искренней, действительно тогда она была нужна России только для того, чтобы произвести на свет наследника, да, с ней безобразно обошлись после родов, бросили одну на мокрой подстилке, забыв перенести в чистые покои. И сына Павлушу забрали сразу же, чтобы потом очень дозированно позволять матери видеться с собственным сыном. Павла воспитывала Елизавета. И муж принцессы Екатерины был трудным человеком, а с ее слов – ужасным, ужасным… Он оскорблял ее, он имел некрасивых любовниц, он вообще состоял из одних нелепостей. Он пил, курил, он запретил русские поклоны при дворе и ввел французские приседания, он не любит Россию и в самое неподходящее время принимается «пиликать на скрипке». Может, и не сознавая этого, главную цель своих «Записок» Екатерина видела в том, чтобы объясниться (или оправдаться) за способ, которым она заняла трон. А что Павлушу не любила, так в этом Елизаветинский двор виноват.
Воспитателем цесаревича, шестилетнего Павла Петровича, Елизавета назначила Никиту Ивановича Панина. До этого Панин целые одиннадцать лет был послом в Швеции. Воспитатель наследника – это повышение, обер-гофмейстер престола – завидная должность при дворе. Наследником престола Павел прозывался и в правление отца, а при вступлении на престол матери слово «наследник» как-то стушевалось, исчезло из обихода. Не сразу, конечно, постепенно.
Гвардия посадила Екатерину на трон не потому, что как-то особенно ее любила. Просто всем хотелось избавиться от странного и непонятного государя. Петр III обидел гвардию, отнял у нее победу в Семилетней войне, вернув все завоевания Фридриху Прусскому. Но устраивая переворот, армия и вельможная знать, во всяком случае, многие из них, умные как всегда стоят в стороне, видели в лице Екатерины вовсе не императрицу, а регентшу при малолетнем сыне. Павел Петрович – «последняя капля русской крови» – так воспринимала его общественность. Были отчаянные люди, которые не боялись говорить: «Уже есть два свергнутых императора, один в Ропше под охраной, другой в Шлиссербурге в темнице. Не много ли?»
Примерно так же думал и Никита Иванович Панин, хотя и не говорил этого вслух. Она помог Екатерине занять престол, а далее все должно быть по закону. Законности Никита Иванович обучился в Швеции. Все при дворе знают, что Панин европейски образованный человек, он умен, деловит и дипломатичен. Последнее качество позволило Петербургу сохранить хорошие отношения со Швецией, которая с заключения Ништадского мира все рвалась воевать с Россией, дабы вернуть северные земли, завоеванные (а частично купленные) Петром I.
Знала это и Екатерина и очень скоро назначила Панина на серьезную должность. Он должен был временно замещать ушедшего в отпуск канцлера Воронцова, а именно возглавлять Иностранную коллегию. Временное часто становится постоянным. Панин возглавлял Иностранную коллегию двадцать лет. Кроме того, он руководил ведомством, которое разбирало политические преступления, а потому выполнял для императрицы самые деликатные получения. Таким было «Дело Хитрово», когда гвардейцы взбунтовались против брака Екатерины с фаворитом Григорием Орловым, и еще более опасное «Дело Мировича», несчастного гвардейца, вознамерившегося освободить и посадить на трон шлиссельбургского узника Ивана Антоновича.
Удивительно, кстати, это таинственное дело. Кто такой Мирович? Уж не дурак ли полный, что решил в одиночку вернуть трон Ивану VI? Правда, был друг – гвардейский офицер Ушаков, который готов был помогать Мировичу. Но друг утонул при странных обстоятельствах. К этому же времени относится тайный приказ Панина, написанный для охраны пленника. Не помню его дословно, но за смысл ручаюсь: «Буде кто вознамериться освободить пленника именуемого Безымянная персона, то первым убивать именно Персону, а уж затем разбираться с освободителями». Иван Антонович убит, Мирович схвачен – все по предписанию. На допросах Мирович никого не выдал и на плаху пошел один. Говорили, что он был спокоен, словно ждал, что в последнюю секунду огласят помилование. Не огласили.
Как мы видим, Панин готов был исполнить любую просьбу или приказ Екатерины, но иногда и своевольничал. Когда она вознамерилась выйти замуж за своего любовника Орлова, Панин ее не поддержал. Мало того, бросил походя фразу: «Императрица может делать что угодно, но госпожа Орлова никогда не станет императрицей России».
Слова эти достигли ушей Екатерины, и хоть она сама вскоре отказалась от брака с Орловым, высказывание Панина запомнила как дерзкие и своевольные.
Как ни был занят Никита Иванович, он продолжал исполнять должность воспитателя великого князя и не оставил надежды видеть Павла на русском троне. При этом он с охотой принялся помогать новой императрице. Екатерина говорила о новом принципе управления государством, и Панин создал проект. Это был дополненный и усовершенствованный принятый еще Петром III «Манифест о вольности дворянства». В новой редакции этот проект явно толковал о законности и конституционной монархии. Екатерина нашла Панинский проект дерзким. Какая еще конституция, какие новые законы, если она хочет быть полновластной правительницей России?
Но Екатерина, особенно на первых порах, не оскорбляла подчиненных прямым отказом. Даже выражение откровенного неудовольствия она не могла себе позволить. Императрица хотела всем нравиться. Тридцать четыре года, и при этом такая осторожность и предусмотрительность, более того – мудрость. Проект Панина был отставлен без шума. Екатерина подписала бумагу об усилении сената, а потом сама же надорвала собственную подпись – не будем пока усиливать Сенат, и так хорошо. Хитрец Разумовский подал прошение о признании за его родом наследования гетманства. Екатерина не ответила ни да, ни нет, а просто упразднила гетманство. Теперь Украиной управляла Малороссийская коллегия.
Таких примеров было множество. Зато она щедро наградила верных ей людей. Императрица раздавала направо и налево титулы, земли, деньги, крестьянские души. Подданным надо было доказать крайнюю необходимость июльского дворцового переворота, доказать, что свергнутый император вел Россию к гибели. И еще надо было заставить россиян забыть, что он был подло убит.
Второй претендент на трон с помощью Мировича исчез с горизонта, все шито-крыто, но остался сын Павел – вечная заноза в душе. Пока он еще мальчик, но он подрастет и предъявит свои права на власть.
Не знаю, хорошим ли воспитателем был Панин, но в чем он безусловно преуспел, так в том, что вкоренил порфирородному отроку уверенность, что со временем он займет русский трон. Вопрос только – когда? Если бы Екатерина действительно была регентшей при сыне, она должны была бы сложить с себя обязанности правительницы в день совершеннолетия наследника. Но Екатерина твердой рукой вела свой корабль – государство Российское, и никто не верил, что она добровольно отдаст руль в чужие, даже законные, руки.
Но были и сомневающиеся. Мало ли… Ведь обещала Екатерина, и не один раз было говорено, что со временем отдаст власть сыну. Панин любил Павла. Он не хотел замечать повышенной нервозности юноши, его подозрительности, обидчивости, но видел ум, пылкий характер и истинно рыцарский порыв к справедливости. Беда только, что каждый понимает справедливость на свой лад.
Конечно, в мечтах Панина присутствовало и своекорыстье, при новом правительстве он безусловно возвысился бы, а может быть, стал вторым человеком в государстве. И тогда, мечталось Никите Ивановичу, можно будет склонить императора строить управление Россией по шведскому образцу. Все должна была решить «краеугольная дата» – 20 сентября 1772 года, день совершеннолетия наследника.
При дворе загодя начали плести интриги. Образовалось два лагеря. С одной стороны братья Орловы – их пять, с другой братья Панины – их два. Но оба брата были могучими противниками. Петр Иванович Панин, генерал в отставке, автор многих побед, человек решительный, смелый до безрассудства и острый на язык, имел при дворе огромное влияние. Каждая группа вербовала сторонников.
А вдруг клан Орловых дал прокол. То ли Григорий, бессменный любимец Екатерины, повел себя слишком развязно и завел связь на стороне, то ли он прискучил императрице, и ей захотелось новизны, только в покоях ее появился новый фаворит, Александр Семенович Васильчиков. Вот уж воистину случайный человек. Поручик конной гвардии, красив, конечно, но не умен, разве только по части любовных утех мастак. Именно за них он получил звание действительного кавалера и был награжден боевым орденом Александра Невского. Сама императрица позднее писала о Васильчикове, что он «душен и скучен».
Но братья Панины очень поддержали эту кандидатуру. Васильчиков для них был ручным. Через него они надеялись влиять на государыню. Конечно, «влиять» сильно сказано, Екатерина всегда жила своим умом, но ведь иной раз какую-никакую нужную мысль и можно вдуть в уши и про наследника поговорить при случае.
Главное, Григорий Орлов удален из дворца, уехал в Фокшаны по поручению Иностранной коллегии. Вначале наш красавец не понял, что это отставка. Граф Григорий решил, что на него возложили важнейшее государственное поручение. Кроме него, прямо-таки некому заключить мир с турками.
Свою дипломатическую миссию Орлов провалил. Он не только не заключил столь необходимого мира, но поругался с Румянцевым и, решив, что ему все можно, приказал главнокомандующему идти прямиком воевать Константинополь. Румянцев был не тем человеком, которого можно было заставить выполнять абсурдные приказы. На Константинополь он не пошел. Орлов обиделся и вовсе отошел от дел. Мир был заключен без его участия на куда менее выгодных условиях, чем ожидалось ранее.
Только тут до Орлова долетел слух, что теплое место при императрице, которое он обживал столько лет, занято. Он бросился в Петербург, но не был принят Екатериной, а потом и вовсе уехал в Ревель, где снял себе на время дом.
Никита Иванович торжествовал. Клан Орловых потерял былую власть. Братья Панины ненавидели фаворитов, считая их болезнью русского двора. Кстати, и Васильчиков наскучил, получив отставку. Вертится подле Екатерины генерал-поручик Потемкин. Но его братья Панины не принимали всерьез.
Таким было положение при дворе летом 1772 года накануне совершеннолетия наследника. В сентябре все точки над i будут поставлены. Если императрица не передаст наследнику трон, то, во всяком случае, после формального торжества поручит ему вести важные государственные дела. А там посмотрим. Никита Иванович потирал руки в нетерпении.
Но Екатерина опять всех обманула. Формально обязанности воспитателя великого князя слагались с женитьбой последнего. И императрица предложила отложить торжества по поводу совершеннолетия наследника на год до женитьбы Павла. При этом она словно вспомнила кровинушку свою, стала ласкова с сыном и, как добродетельная мать, приняла активное участие в выборе невесты. А где искать? Как всегда, среди немецких дворов. Княжество Гессен-Дармшадтское имеет целых три принцессы – выбирай любую.
У Павла был трудный характер, в наше время сказали бы подвержен депрессии, а тогда говорили – меланхолии. Он был некрасив, что подтверждают дошедшие до наших дней портреты, а и в то же время многие современники говорят о нем как об обаятельном, мягком человеке. В неправильных чертах лица его в минуты задумчивости появлялось своеобразное очарование, которое пленяло дам.
Но чаще великий князь выглядел насупленным. Окружающие думали, что он обижен на что-то, угодничали. Но Павел не замечал этого. Он пребывал в плену своих бед, забот и терзаний. Его мучил страх. Толковый психоаналитик, наверное, без труда выяснил бы подоплеку этих страхов, но самому Павлу это было не под силу. Он боялся темноты, гулких пустых комнат, снов, воя ветра в каминной трубе.
Но более всего он боялся призраков. Фавориты матери ведут себя с ним, законным наследником, непочтительно, а чаще просто не замечают, как мебель в гостиной. А ведь они убийцы! Убийцы законного государя, его отца, который является по ночам с бледным, искаженным мукой лицом. В этот момент Павел всегда слышал музыку, кто-то невидимый, пребывающий в высших сферах, играл на скрипке или на флейте.
Отец любил музыку, мать ее ненавидит. В опере она только прилежно делает вид, что слушает арии, а потом сама со смехом сознается, что не видит разницы между скрипом двери и пиликающей скрипкой.
Осталась странная легенда, записанная со слов самого Павла баронессой Беркирк. Кто бы не писал о трагической судьбе императора, он обязательно приводит эту легенду, чаще с насмешкой, реже с наивной верой в мистицизм. В любом случае ужасно жалко Павла I.
Случилось это ранней весной, где-то за полгода до его женитьбы. Павел любил белые ночи, они соответствовали его обычному меланхолическому настроению. Вдвоем с князем Куракиным он отправился прогуляться по городу. Шли без всякой охраны, мило беседовали. Петербург, его Петербург был прекрасен, он словно светился изнутри, от Невы несло прохладой. Улицы были безлюдны.
Вдруг Павел заметил на углу дома одинокую, высокую фигуру в испанском плаще и треуголке. Казалось, мужчина поджидает его. И действительно, как только Павел поравнялся с незнакомцем, тот, ни слова ни говоря, пристроился к гуляющим с левой стороны. Некоторые время все трое шли молча. Потом Павел не выдержал и сказал Куракину:
– Какой странный у нас спутник!
– Какой спутник?
– Ты никого не видишь? И не слышишь? – удивился Павел.
Шаги незнакомца гулко раздавались в ночной тишине, звук этот напоминал цокот копыт по мостовой. Страха не было, но Павел почувствовал, что замерз, левый бок вообще словно оледенел. Он попытался рассмотреть лицо незнакомца.
– Павел, – раздался вдруг низкий голос. – Бедный Павел.
– Кто ты и что тебе нужно? – воскликнул великий князь, схватив невольно руку князя Куракина, но тот ответил ему только удивленным взглядом, он по-прежнему ничего не замечал.
– Не увлекайся этим миром, Павел. Тебе не долго жить в нем.
Перед путниками лежала площадь Сената. Незнакомец дошел до середины ее и остановился. Только тут Павел узнал его – прадед, Петр Великий.
– Ты скоро увидишь меня здесь. Прощай, Павел, – сказал незнакомец удаляясь. А молодые люди остались на том же самом месте, где со временем появился памятник, прозванный народом «Медный всадник».
Красиво звучит: «Прощай, Павел»», так и хочется добавить: «Прощай, прощай и помни обо мне». Была ли эта сцена навеяна любовью цесаревича к Шекспиру или Павел и впрямь что-то видел? Я верю последнему. У призраков, русалок, ведьм и леших есть одна особенность: их видят те, кто в них верит. И они никогда не показываются тем, кто считает их выдумкой. А Павел верил всю жизнь, что сам Петр вышел из могилы, чтобы предупредить его об опасности. В одном великий государь ошибся. Может быть, тридцать лет, а именно столько еще прожил Павел, с точки зрения вечности и «не долго», а для земной жизни это все-таки срок.
Призраки – плохая компания для общения. Павел был одинок, воспитатель, учителя и даже духовник не в счет, но судьба послала ему друга. Наверное, граф Андрей Разумовский не рассчитывал на столь высокое звание, но цесаревич относился к молодому офицеру с полным доверием и любовью. Разумовский был всего на два года старше Павла, но уже преуспел в жизни. Он был образован, учился в университете в Страсбурге, получил военное образование на английском флоте. Он был умен и красив! Именно с Разумовским Павел беседовал о предстоящем браке, к которому относился серьезно и с волнением.
Их трех принцесс Гессен-Дармшадтских выбрали среднюю Вельгельмину, но для знакомства с русским двором пригласили всех трех. Принцесс сопровождала матушка ландграфиня.
В славный город Любек из Петербурга была направлена свадебная эскадра. И надо же такому случиться, чтобы фрегатом, на котором везли Гессен-Дармшадтское семейство, командовал граф Андрей Разумовский. Он раньше жениха познакомился с невестой и потом не уставал рассказывать о высоких качествах прекрасной Вельгельмины своему другу цесаревичу.
Встреча царственных новобрачных состоялась в Петербурге. С первого взгляда Павел был очарован своей нареченной, на следующий день уже почувствовал, что влюблен, хотя Вельгельмина не сделала ответного шага навстречу жениху. Она выглядела сдержанной, если не сказать, надменной, в прекрасных голубых глазах вспыхивали вдруг искры, похожие на крошки льда. Она была великолепно воспитана, вымуштрована, словом, ни одной случайной фразы, ничего невпопад – настоящая королева!
Но что-то ведь усмотрел Павел в этой надменной девице. Может быть, она вполне соответствовала придуманному им образу средневековой дамы, ради улыбки которой он будет совершать рыцарские подвиги, но, скорее всего, он почувствовал в этой деве качества, которых самому ему недоставало. Он увидел в ней помошницу и друга, с которым можно будет достичь вожделенной цели – трона.
Но это все домыслы автора. Одно точно, и мы находим подтверждение этому в письме Павла. Сразу после венчания он пишет Разумовскому: «Дружба ваша произвела во мне чудо: я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности, но вы ведете борьбу против десятилетней привычки и побораете то, что боязливость и обычное стеснение вскоренили во мне. Теперь я поставил себе за правило жить как можно согласнее со всем. Прочь химеры, прочь тревожные заботы!»
Еще до свадьбы Павел в тайне от матери написал некое сочинение, которое назвал «Размышления, пришедшие мне в голову по поводу выражения, которым мне часто звенели в уши “о принципах правительства”». Панин знал об этом сочинении. Мало того, ненавязчиво (а может, навязчиво) подсказывая своему воспитаннику главный смысл. Вот что пишет Павел: «Законы – основа всему, ибо без нашей свободной воли они показывают, чего должно избегать, а следовательно, и то, что мы еще должны делать». Эта простая мысль дожила в полной свежести и до нашего времени, но много обходных путей, много…
Мы забыли сказать, что Никита Иванович Панин был масоном. Нет достоверных сведений, когда и в какой ложе он был принят в тайное общество, во всяком случае, мне они неизвестны. Сейчас Панин занимал среди вольных каменщиков ответственный пост, масонские заветы исповедывал свято и донес их до своего царственного ученика.
Павел всей душой отдался новым идеям. Уж кто-кто, а он понимал шаткость материалистического учения. Заигрывания матери с Дидро и Вольтером глубоко его раздражали. Павел был мистиком по природе своей. Масонские истины шли из Германии, и цесаревич считал, что принимает книги и рукописи из рук самого Фридриха Великого, который и сам был масоном. В орден Павел не вступил, но он знал, что «братья» желают видеть его на троне, и рассчитывал на их поддержку. Впрочем, в восемнадцать лет трудно рассчитывать, можно только мечтать. Устав ордена запрещал масону заниматься политикой. Но помочь законному наследнику получить трон – это не есть политика, а есть воплощение высшей справедливости промысла Божия. И жена поможет ему в этом…
Перед венчанием принцесса Вильгельмина приняла православие под именем Натальи Алексеевны. Венчание состоялось 29 сентября 1773 года, а уже на следующий день в Петербург пришло сообщение, что на реке Яике объявился беглый донской казак Емелька Пугачев и публично объявил себя императором Петром III, счастливо избежавшим смерти.
Нельзя сказать, чтобы сообщение это перепугало или всполошило двор. Самозванцев на Руси было всегда пруд пруди. За последние десять лет царствования Екатерины появилось семь ложных Петров III. Все они были благополучно пойманы, биты, клеймены и с вырванными ноздрями сосланы в Сибирь. Теперь появился восьмой. Бывает. Но умные люди сразу почувствовали опасность самозванца, потому что тот правильно выбрал место и время.
Яицкие казаки давно были занозой в теле петербургских чиновников. Жили казаки вольно, по своим законам, охраняли границу, а если атаманы их и старшины превышали власть, писали жалобы в столицу и требовали справедливости. Военной коллегии в Петербурге не нужны были казачьи вольности, а нужна была регулярная армия с рекрутским набором, которая подчинялась бы общеармейским правилам. Особенно возмущало казаков желание коллегии направить формирующийся казачий легион служить вдали от родных мест. Опять письма в столицу, опять комиссии из Петербурга. И что? Всего-то и добились от этих комиссий, что разрешения не брить бороды, но зато для создания легиона людей стали хватать прямо на улицах Яицкого городка.
Дело кончилось бунтом. Для усмирения казаков на Яик был послан генерал-майор фон Траубенберг, человек крутой и суровый. Он приказал для острастки палить по бунтарям из пушек. Казаком это не понравилось. В результате предавший своих атаман, Траубенберг и вся комиссии были убиты, дома их разграблены. Ужас, одним словом.
Вот здесь, в Петербурге, зашевелились. Решено было наказать бунтовщиков со всей строгостью. И наказали. В Яицкий городок пришла регулярная армия. Комиссия после расследования дела многих присудила к четвертованию и повешению, но Петербург смягчил приговор, отменив смертную казнь. Зато кнут вдоволь погулял по казацким спинам. В Сибирь ссылали целыми семьями. Оставшихся казаков поделили на полки, должности старшин и атаманов были упразднены.
В казацкой среде началось брожение. Их лишили законной свободы, расправились с ними как с бандитами. Несправедливо! Каждый дом был согласен защищать попранные свободы с оружием в руках, а воевать казаки умели. Кто-то поверил, что новоявленный, прозываемый для конспирации Емельян Пугачев, и есть Петр III, кто-то нет, но это было не важно. Главное, появился вожак, и не абы кто, а законный, свергнутый государь. Был зачитан манифест, и сразу восемьдесят казаков присягнули воскресшему императору. А там пошло-поехало…
В октябре армия Пугачева – огромная! 24 тысячи человек – уже стояла под стенами Оренбурга. До столиц старой и новой доходили страшные слухи о беспримерной жестокости повстанческой армии. Шайка воров и бродяг – так называли ее в Петербурге. Естественно, на усмирение бунтовщиков была послана армия, собранная в основном из тыловых гарнизонов. Боевые полки находились далеко, война с Турцией продолжалась. С амвонов церквей неслись воззвания, разоблачающие злодея: «Император Петр Федорович III помре, Емелька Пугачев есть вор и похититель чужого имени».
На казачий и крестьянский люд Приуралья и Заволжья эти призывы не оказывали никакого действия. А хоть бы не царь. Тот, кого вы называете Емелькой Пугачевым, обещает свободу и землю, он призывает убивать дворян-душегубов, и имущество их и пожитки разрешает брать себе в пользование. Это было всем понятно и соблазнительно. Разбушевался народ в праведном гневе. Изводили под корень не только дворянские семейства, но и попов, приходы грабили, а церкви жгли.
В столичных церквях никаких воззваний не читали. Манифест о самозванстве Пугачева был напечатан всего в двухстах экземплярах и читать его следовало только на землях, охваченных восстанием. Зачем без нужды пугать подданных из-за незначительной стычки с казаками где-то на окраинах империи? Столичные жители охотно верили в эту «стычку на границе». Другое дело иностранные дипломаты. Послы ловили слухи, ждали новых потрясений и строчили депеши на родину, мол, ничего толком неизвестно, близкие ко двору чиновники держат дело в строжайшей тайне, но, видно, положение очень серьезно.
Павла слухи о пугачевском мятеже волновали чрезвычайно. Он жадно ловил все подробности о военных действиях. Опять ожили призраки, и тень отца являлась во снах, но выглядел он странно – не в мундире, не в парике с буклями, а в странном кафтане и медвежьей шапке, надвинутой на самые брови. И смотрел на этот раз покойный император не стылым и мертвым глазом, а как-то бодро и с усмешкой. Проснувшись на мокрых от пота простынях, Павел сжимался в комок и думал, думал… Каков он, этот человек, принявший имя отца? Вчера вечером князь Голицын как бы походя, мимоходом бросил: «А злодей-то принародно объявил, что сделает вас своим законным наследником. Сведения верные. Каково, а?» – и не поймешь, глумится ли князь или подсказывает, мол, ваше высочество, пора бы вам заявить о своих правах. Но это же страшно! Матери верить нельзя. Во имя власти она не остановится перед убийством. Ведь порешил же ее сладострастник батюшку! А что если теперь Павел на очереди? И еще реплика, как бы случайная. Английский посол, рядом за столом сидели, вдруг шепнул ему на ухо: «Европа, между прочим, считает, что весь этот казачий бунт замыслен Пугачевым с единой целью – посадить вас на трон».
Павел ничего не ответил, только побледнел страшно, а минуту спустя и вовсе ушел из гостиной. И даже друг, верный человек Андрей Разумовский, затеял ненужную беседу. Началось все с безобидного замечания:
– Вы плохо выглядите.
Павел только усмехнулся сардонически, де, с чего бы ему выглядеть хорошо.
– Вы не больны, ваше высочество?
– Если болен, то душой.