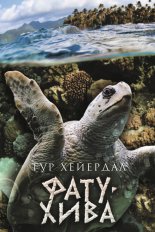Курьер из Гамбурга Соротокина Нина
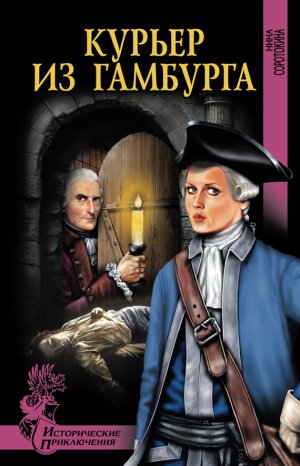
– Их высочество вчера обмолвилась про скандал во дворце. Какие-то стекла в еде. Это правда?
– Ах, Натали всегда преувеличивает! Но стекла действительно были. И все так глупо. Если и в самом деле хочешь всыпать в еду стекло, то хоть истолчи его. А здесь просто склянками от разбитой рюмки посыпали немецкие сосиски. И подали, как ни в чем не бывало.
– Вас хотели отравить? – пошептал с ужасом Разумовский.
Павел пожал плечами, и тут сердечный друг схватил его за руку и произнес срывающимся от волнения голосом:
– Государыня короновалась, я знаю. Но тогда она объяснила свою коронацию вашим малолетством. Это было давно. Вы выросли. Народ вас любит. Когда год назад вы сильно простудились и были опасения за вашу жизнь, в Петербурге говорили: «Павла отравили, потому что он честный и добрый». Я сам слышал.
– Оставим этот разговор, – резко сказал Павел. – Уйдите, прошу вас. Я должен остаться один.
Сейчас эту болезнь называют манией преследования. Она была у Павла в раннем детстве, но потом угасла сама собой. Да, у него не было любящей матери, но были достойные и участливые учителя, а главное, был Панин, и цесаревич ему полностью доверял. Последний и помог ему избавиться от душевной болезни.
Сейчас мать отобрала у него Панина. Никита Иванович был отставлен от должности обер-гофмейстера наследника еще до венчания. Екатерина отблагодарила его более чем щедрыми подарками, но настоятельно приказала подыскать себе жилье вне дворца. И вообще чем меньше вы, Никита Иванович, будете видеться с их высочеством, тем лучше будет и для вас, и для него. Сентенция эта не была высказана прямо, но этого и не надо было. Императрица и Панин отлично понимали друг друга.
Екатерина в это время была очень ласкова с сыном, но Павлу в каждом слове ее, в каждом жесте чудилась неискренность. Напугана она злодеем Пугачевым? Или ей и сейчас море по колено? Не угадаешь. Счастье великое, Гришка Орлов получил отставку. Правда, есть новый фаворит, без мужчин в спальне матушка ни одну ночь не может обходиться, но слуги шепчут, что отношения государыни с Васильчиковым нерадостные. Слышали даже, как Их Величество плакали в своих спальных покоях. Отчего плачет? Боится за трон или любовник недодал ласк пресыщенной куртизанке?
Надо, однако, согласиться, что с государством матушка управляется умело. Недаром подхалимы всех мастей называют ее правление благодетельным. Павел должен доказать этой гордой женщине, что тоже способен мыслить по-государственному. У него есть своя программа.
И вот в тайне от всех он сочинил записку, короткую, но выразительную. Этот труд уже ничем не походил на детские «Размышления о принципах правительства». Там он высказывал чужие мысли, которые кто-то «звонил ему в уши». Теперь он решил думать сам. Его новая «записка» касалась в основном армии, но в ней просматривалась и главная мысль: не гоже России пухнуть, как на дрожжах, бесконечно расширяя свои пределы. Земли и пространств у нас более, чем достаточно, вот только порядка на этой земле нет. Дворянство ведет расточительную жизнь, ему до нужд отечества и дела нет. А что касаемо армии, так каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно – мы должны вести не наступательную, а оборонительную политику. Рекрутские поборы вредны крестьянам. Армию надо сократить и ввести в ней строгую регламентацию.
Любопытно, да? Понимал ли Павел, что это бунт? Более того, записка выглядела как объявление войны. Екатерина была готова бесконечно расширять свою империю. Еще первая война с турками была не окончена, а в голове уже зрела идея о второй победоносной турецкой войне! Мысль о завоевании Константинополя рассматривалась как вполне реальная. Со временем она назовет второго внука Константином, дабы посадить его на константинопольский трон вместо убитого турками в 1453 году Константина XI Палеолога. Во как! Измученное рекрутскими поборами крестьянство ее вообще не интересовало, а «расточительное дворянство» была главным союзником.
Записка была еще «в деле», когда Павел рассказал о ней жене и даже прочитал кой-какие выдержки. Юная Наталья Алексеевна поняла великого князя с полуслова. Хорошенькая головка ее вздернулась горделиво, ноздри затрепетала от слишком глубокого вздоха. Она во всем поддержала мужа. На вид совсем девочка, но так же, как Павел, она жаждала власти и почета.
Павел сделал еще одну редакцию записок. Он должен изложить материал хорошим, внятным языком и собственноручно поднести ее императрице. Заглавие было вынесено на титульный лист: «Рассуждения о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов». Теперь надо было только дождаться подходящего случая для вручения труда государыни.
И случай представился. Во дворец пришла депеша с Яицких степей. В депеше значилось, что 22 марта сего года, а именно 1744-го, три полка регулярной армии, присоединившиеся к уже имеющимся на месте, нанесли сокрушительное поражение армии Пугачева. Далее подробно рассказывалось, что шайка воров и убийц засела в крепости Татищей. Все было чин-чином, вначале артиллерийская перестрелка, причем повстанцы тоже палили со стен крепости почем зря, а потом приступ, рукопашная и… победа! Тогда во дворце все поверили, что это был конец пугачевскому ужасу.
Может быть, и шевельнулась в груди у Павла жалость к злодею, цесаревич верил, что Пугачев и для него старался, но об этом не хотелось думать. Главное, у матери хорошее настроение, и она будет благосклонная к труду сына.
Победа над Пугачевым совпала с еще одной победой, которую одержал прибывший с турецкой кампании одноглазый волк, бывший камергер двора, а теперь генерал Потемкин. Горячий, словно прямо с поля битвы прискакал, он явился в приемную императрицы. Двор не успел опомниться, а наш герой уже переместился в спальню Екатерины, выкинув оттуда неудачника Васильчикова. Потемкин был высок, красив, громок и необычайно развязан. Павлу казалось, что никого в своей жизни он ненавидел так, как этого победителя.
Но мать была само милосердие. С улыбкой она приняла из рук сына его труд и прочитала «Рассуждения о государстве», причем на удивление быстро. Потемкин тоже сунул в записку нос. Боевой генерал добровольно пошел на турецкую войну, он отличился при штурме Хотина, он брал Фокшаны, а потому считал себя чуть ли не полководцем всей баталии, а потому отнесся к «рассуждениям» великого князя иронически.
А вот императрица пришла в бешенство. Словно маска слетела с ее улыбчивого лица. Она не постеснялась топнуть ногой, даже бранные слова произносила:
– Вы ничего не понимаете в управлении государством. Вы неуч, мальчишка, а беретесь рассуждать на столь серьезные темы!
Далее пошел высокопарный бред о величии России, о великой миссии православного государства в деле освобождения христиан от мусульманского ига, об обязанностях перед Европой и «моим народом». Только и дело народу российскому турок сокрушать, спят и видят. У Павла тряслась челюсть, но он старался выглядеть достойно, поэтому был безукоризненно вежлив.
– Но я тоже хочу быть полезным России.
– Пока вы для этого слишком молоды. Учитесь, читайте книги, родите наследника, наконец. У вас столько дел, – закончила императрица с надменной усмешкой.
Павел, запершись в спальне, плакал, как отрок. Он во всех подробностях представлял сцену, как мать с новым любовником читают «Рассуждения о государстве» и глумятся над его трудом. К Павлу рвалась Наталья Алексеевна, но он ее не пустил. Не было рядом человека, которому он бы мог рассказать о своем позоре.
А потом этот человек наконец появился. Павел думал, что пустая случайность свела их в малой дворцовой гостиной в поздний час, но потом понял, что эта встреча было заранее тщательно подготовлена.
Никита Иванович выглядел измученным. Последнее время он работал, как вол. Надо было исправить ошибки незадачливого дипломата Григория Орлова. Слава Богу, долгожданный мир был наконец подписан. Уже прислана депеша в Петербург: все случилось 10 июля в деревне Кучук-Кайнарджи.
Но разговор шел не о мирном договоре с турками. Каким-то чудом Панин узнал и о «Записке» своего воспитанника, и о реакции императрицы. Теперь Павел имел возможность высказаться, а Панин умел слушать.
– Мне понятно ваше огорчение, – сказал он наконец. – Поверьте, я глубоко разделяю его с вами, а потому хотел бы коснуться еще одной важной темы. Вы не одиноки в своих думах о благе России. Есть люди, и их много, которые готовы поддержать вас в ваших стремлениях. Вы понимаете, выше высочество, о чем я говорю?
– Я понимаю, – после некоторой заминки ответил Павел и понял – ему не страшно. Обида на мать была столь велика, что он готов был на любую крайность.
Звонили колокола, но не в Воскресенском соборе, а где-то далеко, за Невой, но Глафира ясно их слышала. Кто вздумал звонить в столь неурочный час? Считай, что ночь на дворе. Это на Невской перспективе сейчас тесно от карет и еще снуют туда-сюда люди, не успев вовремя завершить дневные дела, а здесь, в березовой роще у монастырских стен, тихо, как в могиле. Да и колокольный звон, скорее всего, ей просто чудится, сливаясь с гулкими ударами сердца. Небо было темным. Ушли в прошлое, погасли белые ночи.
Глафира стояла возле закрытой калитки, изредка прикладывая ухо к щербатым доскам, пыталась расслышать шум шагов. Нет… тихо.
Сегодня наконец должна была состояться встреча с сестрой. Феврония устроила то, что обещала. Она вела себя с Глафирой, можно сказать, идеально, иногда даже угодливо, и не только исполняла любую просьбу девушки, но допытывалась настойчиво, какие еще у нее есть желания. Но Феврония не волшебница. Она не могла ускорить приезд князя К. из Англии, не под силу ей было и унять Глафирины страхи, связанные с масонами. Сосед Озеров пристал как банный лист, все время пытался вести задушевные таинственные разговоры, а в понедельник позвал на масонскую трапезу, присутствие на которой считалось чуть ли не обязательным. Глафира отговорилась крайней занятостью, мол, именно на это время у нее назначена важная деловая встреча. Выдумала, конечно, какие у нее могли быть встречи и с кем, но на всякий случай в урочный час съехала со двора. Доброму тоже нельзя застаиваться в конюшне.
Не могла Феврония также научить Глафиру, как жить дальше. Нельзя сказать, чтобы деньги так и таяли, Глафира была экономна, но всему в жизни приходит конец. Еще месяц-два, ну, три – с натяжкой, и Альбертов кошелек будет пуст. О том, чтобы сменить мужской костюм на женский, Глафира и не помышляла. Она не знала, как жить в Петербурге одинокой девушке. А пока с опаской обходила караульные будки, а также, полицейский сержантов и поручиков.
Записки в Смольный Феврония передавала исправно, так же четко получала ответ. Встреча с сестрой в Летнем саду произвела на Глафиру сильнейшее впечатление. Воображение поразила не только Варвара, взрослая, пригожая девица, но весь выводок белых дев. Словно невесты Христовы они чинно шли по аллеям парка, но при этом на лицах их не было и намека на монастырскую мрачность, веселы и приветливы. Глафира горько пожалела, что и ее не отдали в Смольное Общество. Говорили, де, возрастом не подошла, набирали совсем юных девочек, но, скорее всего, бутурлинская родня пожелала разлучить сестер, да так разлучить, чтобы они и не встретились. Вареньке уготовили стать фрейлиной при дворе, а для Глафиры сочинили судьбу скромной помещицы, которая и до столицы-то никогда не доберется.
Обязательным условием ночной встречи Феврония назначила для Глафиры женскую одежду. XVIII век был истинно сексуальной революцией, блуду предавались безудержно на всех социальных уровнях, но при этом настойчиво и многослойно твердили о добродетели и незапятнанной девичьей чести. В отличие от сексуальной революции ХХ века, двести лет назад понимали, чем увесистее табу и вето, наложенное на запретный плод, тем больше в нем витаминов и сладости.
Глафира показала свое платье. Феврония его отвергла, как слишком богатое.
– Если что, ты просто служаночка. Поняла?
– А если – что?
– Мало ли. Выследят, схватят, заарестуют.
– Как заарестуют? Кто?
– Ну, я это просто так, для острастки говорю. Как схватят, так и выпустят. Главное, тверди, что ты служанка и для барышни по ее просьбе баранки принесла или пряники.
– Так мне и пряники нести с собой?
– А чего особенного? И понесешь. Отдай той, что тебя встретит.
Глафира не только не услышала шагов за стеной, она пропустила сам звук открываемой калитки. Дверца отворилась слегка, и тут же раздался шепот:
– Вы здесь?
– Здесь.
– Как вас зовут?
– Глафира Турлина.
– Следуйте за мной.
Названное имя служило паролем.
– А вас как зовут? – не удержалась Глафира.
– Это не важно. А впрочем, если вам интересно – Наталья. Идите за мной по тропке, а когда аллеями пойдем, не выходите на свет фонарей. Мы должны держаться в тени.
– Куда мы идет?
– Вы задаете слишком много вопросов. Мы идем туда, где нас ждут.
В торце стоящих полукругом монастырских зданий находился неприметный вход без ступеней. Сенцы, за ними длинный, темный коридор, но по нему не пошли. Наталья уверенно толкнула дверцу у входа. Видимо, это было помещение привратника, а может, садовника. Во всяком случае, комнатка выглядела вполне обжитой. На столе, крытом крестьянской скатертью, одинокая свеча.
– Ждите, – сказала Наталья, усаживаясь на лавку.
Только здесь Глафира увидела, что провожатая ее необычайно, словно с картинки срисована, хороша собой. Одета девушка была в темное платье с белыми манжетами и белым же стоячим воротником. Выражение лица суровое, укоризненное, но укоризна обращена не столько к Глафире и даже не к тайной встрече, а к самому несовершенству мира. Ожидание стало тяготить строгую девицу и со словами: «Пойду встречу», она направилась к двери.
Отсутствовала Наталья минуты три, не более. Дверь отворилась, и на пороге появилась Варя, простоволосая, взволнованная. Черная, накинутая на сорочку шаль, вся трепыхалась, словно крылья, вот-вот взлетит. Да и сдавленный крик, вылетевший из открытого в восторге рта, был похож на птичий клекот. Сестры обнялись. Наталья без улыбки смотрела на трогательную встречу.
– Глашенька, неужели ты? А я заблудилась. Темнота, глаз выколи. И ведь ни у кого не спросишь. Все спят!
– Я вас оставлю, – перебила сбивчивую речь Наталья. – Вернусь через полчаса и выведу вас тем же путем. Только не шумите здесь. Говорите тихо. А то неровен час…
Глафира не больно-то вслушивалась, о чем толкует красавица. Не до того было. Есть Бог на свете, и ангелы-хранители летают в небе, раз ей удалось обнять сестру. У Вареньки в глазах стояли слезы.
– Сядем.
Они опустились на лавку и замерли, рассматривая друг друга. Но Варя не умела долго молчать. Она была взволнована до крайности, ее даже бил легкий озноб, поэтому она говорила быстро, не находя нужных слов отчаянно жестикулировала, нарушая тем привитые правила поведения, а потом, словно опомнившись, резко опускала руки и чинно складывала их на коленях.
– Все это невероятно, Глашенька, право слово. Я ведь перепугалась тогда в Летнем саду. В старших классах многие воспитанницы уже знают, кто будет их жених. У иных есть воздыхатели, а у меня никого. Правда, я думаю, что белые девы сами себе придумывают воздыхателей-то. А тут вдруг в саду я увидела молодого человека. А вдруг это мой воздыхатель назвался твоим именем и письма мне пишет? Все в голове смешалось. Ты меня в такой трепет привела!
– Да будет тебе, Варенька, давай говорить о главном. У нас мало времени.
– Давай о главном, – согласилась Варя, но тут же рассмеялась и сбилась на «а помнишь?»
И опять зашептала страстно, оживляя не только маменьку, папеньку, гувернанток и нянек, но призывая в помощь призраки комнат, лестницы на второй этаж, иконостас в детской, полукруглое окно с немецкими витражами, незабудки на клумбе и сосульки в каретном сарае. Глафира слушала и радовалась, что так много успела рассказать Варе в письмах. В противном случае, оглушенные встречей, они бы вообще ничего не успели обсудить.
– Какая ты отчаянная, Глаша. Решилась на побег. Да еще в мужском платье. Это так романтично. Как жалко, что я не могу рассказать об этом девочкам. Совсем как во французском романе. Ты ехала одна по пустынным полям…
– И еще по лугам, по лесам, – перебила ее со смехом Глафира. – Если бы тебя за старика стали сватать, ты бы тоже сбежала. Этот Баранов на гнома похож, глаза косят и нос, как у троля.
– Как у моего Петруччи? Ты что, забыла? Тебе папенька куклу-гнома подарил, ручки-ножки фарфоровые. Я этого гнома полюбила, и ты мне его передарила.
– Ах, Варенька. Я ведь приехала твоей помощи просить, а теперь вижу, как это глупо. Ты совсем еще ребенок!
– Вот уже нет!
– Ребенок и живешь в клетке, никого не видишь.
– Как же не вижу? У нас на театре много народу бывает. И великий князь, и великая княгиня Наталья Алексеевна. Такая красавица! И другие вельможи, даже иностранные министры.
– Мне не нужны иностранные министры, – вздохнула Глафира, кляня себя за излишнюю практичность (что пристала к ребенку?). – Мне нужно найти сильных людей из тех, с кем папенька был дружен.
Варя стала загибать пальцы.
– Папенька был дружен с князем Шербатовым, но он в Москве, еще со старым князем Куракиным, но он умер. Про графа К. ты писала, он в Лондоне. Но мы найдем благодетеля. И господин Бецкий нам может помочь. Он добрый.
– Это самый главный начальник в вашем обществе, да? Я слышала. Странная у него фамилия.
– Иван Иванович наш попечитель. А фамилия у него такая, потому что он рожден вне брака. Батюшка его князь Трубецкой.
– Так он бастард? Как я?
– Не люблю, когда ты так говоришь, – поморщилась Варя. – Ты моя любимая сестра. И у Бецкого есть любимица, – можно сказать, фаворитка, – добавила она лукаво.
– Ты?
– Не-ет. Я сама по себе. Любимая – это Глаша Алимова. Она удивительная. Государыня заказала художнику написать ее портрет.
– А тебе не обидно, что твой портрет не пишут?
– Нет, не обидно. Я ведь не очень умная и совсем без талантов, – пожала плечами Варенька. – А Алымова прелесть. Она все знает про Бецкого, и говорит, что он «дитя любви». Его батюшка Иван Юрьевич Трубецкой попал в шведский плен. Давно, еще при государе Петре Великом. И наш Бецкий родился в Стокгольме. Он очень добрый, очень умный, правда, совсем старый. Ему уже семьдесят.
– Значит, он в любую минуту может помереть, – рассудительно сказала Глафира. – И потом – зачем я ему? Мне нужен достойный человек, который знал бы мою историю. Мне предстоит самой вступать в права наследства. Понимаешь?
– Я знаю этого достойного человека. Я тебе о нем писала. Это мой опекун Георгий Александрович Бакунин. Он входит в члены совета попечителей нашего Общества. Он очень добрый и балует меня подарками. И еще, – Варенька слегка покраснела, – у него есть сын. Федор Георгиевич. Очень красивый и порядочный молодой человек. Он очень умный и занимает ответственный пост. В столь младые годы он уже служит секретарем у Панина.
– Это какого Панина?
– Как, ты не знаешь? Никита Иванович Панин, он правая рука нашей обожаемой государыни. Ой, Глашенька, надо тебе знакомиться с жизнью двора. Без этого не проживешь. И не век же тебе жить в мужском обличии.
– Это способ спрятаться.
– А тебя ищут?
– Не знаю.
– Мы вот как поступим, – сказала Варя взрослым и деловым тоном. – Я напишу моему опекуну и спрошу его совета.
– Спасибо, – Глафира благодарно прижала руки к груди. – Только не пиши ему, что я сбежала и все такое… Знаешь, как сделаем? Ты получила от меня письмо, в котором я жалуюсь, мол, не хочу выходить замуж за нелюбимого человека и прошу у тебя помощи. Можешь так написать?
– Могу. А если и это не поможет, я напишу прошение к государыне. – в голосе Вари появились важные, взрослые ноты. Ей явно хотелось похвастаться близостью к сильным мира сего. – Не удивляйся. У нас есть девочка, которая постоянно переписывается с Их Величеством. Девушку эта прозвали Черномазая Левушка. Правда, смешно? Это потому, что она смуглая, а фамилия у нее Левшина. Иногда мы пишем письма государыне сообща. Но это письма веселые, мы хотим порадовать государыню. Письмо-просьба это ведь совсем другое дело. Ты понимаешь?
– Понимаю, – вздохнула Глафира. – Скажи, кто такая Наталья? – спросила она вдруг.
– Она из мещанского училища. Милая девушка, только гордая очень. Это потому, что она красавица.
– При чем здесь это?
– О, наружность часто ослепляет людей. Наталья красивая, но бедная и незнатная, а иные, хоть и дурнушки, куда ближе к счастию, чем она. Мы с ней на прогулке познакомились. Я с качелей упала, а она мимо шла. Помогла мне встать. Я потом нашла ее, хотела косынку подарить, но она не взяла, обиделась. Но потом сама ко мне подошла и отдала письмо от тебя.
– Что это она старается? – подозрительно бросила Глафира.
– Не знаю.
– Тебе, наверное, сложно было сюда прийти?
– О-очень! Девочки из подушек сделали такой кулек, ну, словно я сплю. Если воспитательница обнаружит обман, они скажут, что я в уборной, что у меня живот болит. И очень страшно бежать по ночным коридорам. Я так боюсь Белой Дамы.
– Кого?
– Привидения. В монастыре живет привидение, я тебе точно говорю. – Варенька быстро перекрестилась.
В Смольном существовала устойчивая легенда, что давно, еще при Елизавете Петровне, в стены монастыря замуровали молодую монашку. Конечно, несчастная пострадала за любовь, и теперь она по ночам бродит по всей округе и ищет своих обидчиков. Все знают, что православные монашки носят только черное, а приведение всегда в белом. Да и само прозвище – Дама уже предполагало что-то инородное, романтическое и страшное до колик.
Дверь отворилась и вошла Наталья.
– Прощайтесь.
Глафира и Варя, заторопились, заговорили разом. Обе не знали, состоится ли повторная встреча или у них одна надежда на переписку. И вот уже Варенька бежит по темному коридору, а Наталья торопит Глафиру: «Быстрей, быстрей, неровен час сторож выйдет в сад». У калитки красивая мещаночка бросила сквозь зубы: «Прощайте», и почти вытолкнула Глафиру за монастырскую стену.
Как и было обещано, у главного монастырского входа стояла извозчичья карета, она и доставила нашу героиню на Большую Мещанскую. В воротах Глафиру встретила Феврония с плащом в руках, укутала им Глафиру до пят. Не приведи Господь столкнуться нос к носу с Озеровым. Тогда вопросов не оберешься.
Засыпая, Глафира перебрала в памяти подробности встречи с сестрой, улыбалась мечтательно и шептала себе в утешение – все будет хорошо. Полную картину счастья нарушал только один, некстати вылезавший вопрос: почему Феврония так старается, ведь расписка у нее уже на руках. Неужели она и впрямь не врет, говоря, что привязалась к Глафире всем сердцем?
Не только сильные мира сего, как то Панин и его окружение, были недовольны поведением императрицы. Были и другие, более скромные по социальному положению, а именно офицеры гвардии, которые твердо знали, что трон государыня заняла незаконно и пора ей возвращать его сыну. До времени об этом молчали, а как выяснилось, что совершеннолетие наследника не решило этой проблемы, то и возроптали. Возроптали, конечно, тихо, соберутся в какой-нибудь комнатенке или гостиной, выпьют, крякнут и начнут обсуждать неблагоприятное положение в отечестве.
Во-первых, всех несказанно раздражали фавориты. Кто нами правит, господа, Их Величество Екатерина или братья Орловы? Когда совершали переворот, всем было ясно, что Петр III плохой правитель, и в эйфории первых лет нового правления с этим были все согласны, но со временем стали задумываться – а чем он был так уж плох, убиенный? За шесть месяцев, что он пробыл на троне, были приняты важнейшие для государства законы. О секуляризации монастырских земель говорить не будем, положим, не военного ума это дело, но государь Петр Федорович дал вольность дворянству и отменил Тайную розыскных дел канцелярию. А сейчас? Государыня говорит одно, а делается совсем другое. А как это называется? Демагогия, вот как (язык сломаешь от этих слов!) Есть господин Шишковский, глава Тайной экспедиции, и, говорят, дел в работе у него более, чем достаточно. Манифест о вольности дворянства вроде бы не отменен, но всяк знает, что служить он все равно обязан, с той лишь разницей, что обязан не по принуждению, а как бы по собственной воле из-за любви к отечеству и лично к Екатерине II. Можно вспомнить и другие непорядки в стране: казнокрадство, взятки. А судят по совести? Нет!
Я привожу эти подробности, чтобы объяснить читателю, о чем толковали недовольные в казармах и гостиных, как некогда мы на кухнях. Многие из недовольных были масонами, но осуждение поведения и политики Екатерины носило с их точки зрения, не политический, а чисто нравственный характер. Императрица была поклонницей новомодных философских веяний, переписывалась с французскими писателями, а мы-то знаем, что идеи их есть чистой воды скептицизм. Поклонники Вольтера все как один безобразники, они осмеивают святые для россиян понятия, презирают предков и само отечество. Ведь и сам Елагин когда-то увлекался злонравием, прилепился душой к безбожнику Вольтеру, а потом понял, что потерял точку опоры. А совесть куда деть? Нельзя жить в полном разладе с самим собой! Нельзя вечно шутить и остроумничать, надо и о серьезном подумать. С турками воевали куда как успешно. Фельдмаршал Румянцев мог заключить мир на весьма выгодных для России условиях, а потом явился этот щеголь и дурак Гришка Орлов и с веселостью и бранью все разрушил.
Словом, хотели Павла. О заговоре речь пока не шла, но образовался некий кружок, совсем небольшой, в нем и десяти человек не было: собирались, разговаривали, думали. Как будут отнимать у Екатерины власть, дабы передать ее законному наследнику, пока не обсуждали. Сейчас главное объединить силы, наметить ядро, но не переусердствовать. Плоду надо дать вызреть, а там судьба даст подсказку, и плод сам упадет в руки.
Идейными вдохновителями этого брожения можно назвать братьев Паниных. Младший, Петр Иванович, – боевой прославленный генерал, он еще в Семилетней войне себя показал в битвах при Цорндорфе и Кунерсдорфе, за что получил чин генерала-поручика. В последней турецкой кампании он прославил себя взятием Бендер. За подвиги был награжден орденом Св. Георгия I степени. Однако императрица отнеслась к его победам прохладно. Он, вишь, город разрушил и слишком много солдат положил. Ах, так, воюйте сами!
Петр Иванович ушел в отставку и поселился в Москве. Человек он был гордый, тщеславный, обиду переживал тяжело, а потому не скрываясь стал поносить и дураков генералов, и царедворцев-лизоблюдов, прощелыг фаворитов и саму государыню. Москва, млея от страха и восторга, шепотом пересказывала его «поноски», а полицейские чины строчили доносы в северную столицу. Екатерина злилась, известно, что она называла опального генерала «первым врагом своим» и «персональным оскорбителем», а потом и вовсе учинила за ним негласный надзор.
Но военные успехи пугачевских орд снова призвал боевого генерала на службу отечеству. Кстати, именно Потемкин посоветовал императрице поставить Петра Ивановича Панина во главе армии, воюющей с мятежниками. Кроме того, Петру Ивановичу поручили начальствовать над губерниями Казанской, Оренбургской и Нижегородской. Короче говоря, общее дело оппозиции младший Панин плечом подпирал, но реальной помощи от него в данный момент ждать было нельзя.
Другое дело старший – Никита Иванович, блестящий царедворец и дипломат, свой человек при дворе. Вот внешний портрет его: немолод, тяжел, если не сказать, толст, все еще красив, носит парик к крупными буклями, манеры его безупречны. Он прост в обращении, можно даже сказать – ласков. Природная властность его как бы скрыта, но вполне ощутима собеседнику. Панин любит покой, тишину и хорошие книги. Еще он любит вкусно и красиво поесть. Петербуржцы спорили, сколько он расходует на личных поваров, но споры ни к чему не приводили, люди запутывались в нулях. Определение «сибарит» в характеристике Панина вполне уместно.
Женолюбив, да… При дворе Панина прямо-таки обвешивали сплетнями. Например, ходили упорные слухи, что Дашкова (будущий президент Академии наук) его внебрачная дочь. Во всяком случае, батюшка Дашковой Родион Илларионович Воронцов, в это верил, старшую дочь не любил и даже открыто с ней враждовал. Противники этой сплетни утверждали, что Дашкова никак не может быть дочерью Никиты Ивановича, потому что «знают наверное» – она его любовница. Сама Дашкова в своих «Записках» пишет, что старший Панин всегда был ей верным другом, и только. Я склонна ей верить.
При всей своей любви к женскому полу Никита Иванович так и остался холостяком. Была любовь, была. – Екатерина Шереметьева, образованная, красивая девица. И дело было слажено. Но невеста умерла за день до свадьбы. Случилось это шесть лет назад.
А вот энциклопедические сведения: родился в Данциге в 1718 году, воспитывался в Пернове (отец был там комендантом) среди прибалтийских немцев, то есть он уже в детстве стал иностранцем по манерам и поведению. Матушка братьев Паниных – Аграфена Васильевна Еверлакова – была племянницей всесильного Меншикова, поэтому мальчики были рано представлены ко двору. А служить в Конногвардейский полк были записаны чуть ли не в младенчестве.
Никите Ивановичу было чуть больше двадцати, когда ему выпал «случай», он был замечен государыней Елизаветой. Уже позднее, когда о лености Панина ходили анекдоты, была обнародована интересная легенда. Автор ее Станислав Понятовский. Уже все решено и обговорено, счастливый Панин должен по условленному сигналу явиться в спальню Елизаветы, но Никита Иванович, утомившись ждать, заснул у самых дверей и пропустил час любви.
Как там было на самом деле – мне не известно, свечку не держала. А то, что Иван Иванович Шувалов, дабы избавиться от соперника, выслала его за пределы России на дипломатическую работу, это похоже на правду. Вначале Дания, потом Швеция, и, наконец, возвращение домой на должность воспитателя цесаревича.
Смерть Елизаветы Панин оплакал со всей искренностью, а вот отношения с Петром III не сложились. Император хотел отблагодарить дипломата и воспитателя за верную службу, наградил его орденом Св. Андрея Первозванного, дал чин действительного тайного советника. Благодеяния Петра пошли еще дальше, он вознамерился сделать Панина военным генералом, но тот, ненавидя солдатчину и армию, отказался от почетной должности. Ну не дурак ли? Всякий нормальный человек должен мечтать об армии. После этого отказа император потерял к Панину всякий интерес.
Панин мечтал ограничить монархию. Монтескье тоже хотел конституционную монархию. Про Екатерининский «Наказ» Панин сказал: «Аксиомы, способные опрокинуть стены». Беда только, что «Наказ» оказался всего лишь литературным произведением, он не пошел в дело.
Надежда на Екатерину не оправдалась, и Панин «поставил» на Павла. Панин помнил, что мать обещала отдать сыну трон, и Екатерина знала, что он помнит, поэтому относилась к своему министру с опаской, доходящей до неприязни. Но императрица всегда умела скрывать свою неприязнь, если это «нужно было для дела». В XVIII веке лицемерие не считалось пороком, оно было естественно и необходимо, как нужду справить.
Однако в том, что Екатерина называла «делом», у нее с Паниным были серьезные расхождения. Панинский «Северный аккорд» – проект об объединении с северными государствами для противостояния Бурбонам и Габсбургам – не был принят. Раздел Польши в 1772 году – итог военных и дипломатических просчетов во время турецкой войны – был произведен на невыгодных для России условиях. Орлов тогда говорил, что за такой раздел Панин достоин смертной казни. Сама Екатерина плакала от обиды. Панин был сторонником прочного союза с Пруссией и Фридрихом Великим, а Екатерина склонялась к союзу с Австрией.
Словом, отношения императрицы с Паниным были, мягко говоря, натянутыми. А тут еще Никита Иванович выкинул фортель, какого от него никто не ожидал. Петербург от его выходки несколько месяцев не мог угомониться, судачили по всем гостиным. Иные говорили, что не избежать ему отставки, потому что в его поступке проглядывал откровенный вызов императрице.
Объясним суть дела. Отставку от должности воспитателя Панин получил не после венчания Павла, как было принято обычаем, а до. Чтобы смягчить удар, Екатерина буквально осыпала его милостями. В награду за воспитание цесаревича он получил чин фельдмаршала. Ему предложили уехать из дворца, но зато выдали 100 тысяч рублей на обзаведение домом в любой точке столицы. Пожалован был тоже ежегодный пенсион на 30 тысяч рублей, ежегодное жалование в 14 тысяч, сервиз на 50 тысяч рублей, экипаж и ливрея придворная, провизия и погреб на целый год, а сверх всего этого еще девять тыщ душ.
Петербург ерничал, а не подавится ли новоиспеченный фельдмаршал всем этим богатством? А Панин, мало того, что не подавился, так еще и обиделся, мол, ему ограничивают общение с цесаревичем, и в пику государыне раздал только что подаренных крестьян. Вскоре выяснилось, что Панин не просто раздал крепостных, а подарил их своим секретарям, и не весь подарок государыни, а только четыре тысячи из девяти. Но и это поступок беспримерный, неслыханный!
Екатерина словно не заметила дерзкой выходки своего министра. Дело Их Величества подарить, а подданному вольно по своему усмотрению распорядиться подарком. Но поди узнай, что у Их Величества на уме.
У Панина было три секретаря: немец Убри, аккуратист, чиновничья душа, человек на возрасте, Денис Фонвизин, вошедший в русскую историю отнюдь не как дипломат, а как великий драматург («Недоросля» все в школе проходили) и Федор Бакунин, двадцатилетний щеголь и любимец гостиных, но при этом человек дельный. Фонвизин был старше – двадцать восемь лет. К этому времени уже прославился своей пиесой «Бригадир», самой государыней был обласкан. Естественно, в свете к его драматургическим талантам никто серьезно не относился, мало ли чем человек тешит себя на досуге. Но Фонвизин был остроумен и меток в слове, в свете постоянно цитировали его каламбуры (как в наше время поэта Светлова), еще он был наделен даром подражания (как в наше время Ираклий Андронников). Фонвизин был очень заметный в двух столицах человек.
И вот на голову секретарей свалилось нешуточное богатство. Говорили, что Панин поделил крепостных промеж трех поровну. Но четыре тысячи поровну на три не делится. Цитировали Фонвизина: мол, всем по 1333 души, а «одна в остатке». А куда остаток? Может быть, Панин выделил одного из секретарей и дал ему полновесно 1334 души? Может, для ровного счету прибил одну лишнюю душу или, что совсем невероятно, на волю выпустил? Зубоскалил Петербург, анекдотцы сочинял и гоготал довольный.
Панин не обращал на пересуды ни малейшего внимания, обзавелся новым домом и, в только что обставленном кабинете, принялся вместе в Фонвизиным, любимцем своим, обсуждать конституцию для нового порядоустройства в государстве. При разговорах делались кой-какие наметки на бумаге. Затем эти наметки помещались в шкатулку, та закрывалась на ключ и пряталась в потайной ящик секретера.
Что это были за наметки? Позднее Панин озаглавил их как «Рассуждения о непременных законах». Главная мысль этих рассуждений – император (или императрица) хоть и есть преемник божественной власти на земле, в действиях своих должен опираться не на собственные желания и хотения, а на законы, кои для всех в государстве должны быть непреложны и преступать которые нельзя. От этих законов зависит внутреннее спокойствие каждого человека, а следовательно, и спокойствие государства в целом. Закон есть узда для обуздания страстей, законы – всему фундамент. И теперь Панину было совершенно ясно, что если кто и согласен соблюдать законы, так это Павел. Осталось только обдумать в деталях, как заставить императрицу отдать трон сыну. Но это потом, потом…
А пока Панин хотел расширить круг единомышленников. Он решил прибегнуть к помощи Елагина Ивана Перфильевича, человека влиятельного при дворе и, не будем забывать, Провинциального мастера всех русских масонов. Сам Панин занимал должность Наместного великого мастера, то есть формально считался у вольных каменщиков вторым лицом после Елагина. Исполнять эту формальность неформально ему мешала занятость, а чаще обычная лень.
Между двумя масонами состоялся разговор, который не дал никаких результатов. Слово «конституция», произнесенное Паниным вскользь, для Ивана Перфильевича имело только одно значение. Это была учредительная грамота, выдаваемая ложам от Востока, то есть Высшего управления. Восток территориально может находить и на западе, потому что Восток, как известно, – край избранных. Именно оттуда с глубокой, седой древности изливалась на человеков высшая мудрость.
Елагин был удивлен визиту Никиты Ивановича, но обрадовался ему. Надо сказать, что отношения у этих двух господ были натянутые. Елагин не мог простить, что Панин увел у него секретаря, ранее эту же должность Фонвизин исполнял у него. Кроме того, и по складу характера они были очень разные, а потому отношений, которые принято называть личными, у них не было. Теперь Иван Перфильевич решил, что Панин явился к ужину, чтобы загладить неловкость, которая возникла при последнем посещении ложи «Аполлона». Напоминаем, ложа эта была основана год назад Рейхелем, работала по циннедорфской системе, к которой Елагин очень склонялся. За столом зашел разговор об объединении «Аполлона» с «Уранией», но сидевший рядом Панин как-то круто и умело увел разговор в другую сторону. А теперь вишь, к ужину пожаловал! Елагин внимательно выслушал речи гостя о повреждении нравов, согласился, что в Швеции лучше живут, поскольку законы соблюдают, но ответил как бы совсем невпопад.
– Что и говорить, опыты нашего столетия научают нас, что человек развращен. Вы согласны?
Что ж тут не согласиться? Принялись за ужин. Панин обожал французскую кухню, и Елагин, желая ему угодить, потчевал гостя «гомарами», «устерсами» и прочими дарами моря. И вино, надо сказать, было очень приличным.
– А причину этого развращения надобно искать в состоянии общества, – продолжил разговор хозяин. – Все это оплакивания достойно.
– Именно так, – опять согласился гость. – Именно об этом я и хотел бы говорить с вами. Но оплакивать мало, надо действовать.
– Кто ж спорит? Иные богатством отягощены и имеют все блага счастия, но страсти, бушующие в душе человека, портят натуру, лишают ее гармонии. Главная цель каменщичества – возродить человека к его первой, натуральной добродетели. Эту же цель преследует религия и гражданские законы, но масонам известен свой свет истины.
– Гражданские законы нам необходимы, – поторопился Панин вставить слово, видя, что хозяин не собирается прерывать свою высокопарную речь.
– Гражданские законы – это частности. Главное, как трактовать истину. Именно в трактовке истины я вижу и первый, и второй градус познания, и даже, с вашего позволения, третий. Поэтому объединение сделает нас сильнее.
– Какое объединение? – осторожно спросил Панин.
– Объединение под флагом циннедорфской системы. Объединение с ложей Рейхеля.
– Здесь я вас поддержу. Безусловно, – он помедлил мгновенье. – А какая роль во всем этом уготовлена моему воспитаннику?
– Вы имеете в виду великого князя Павла Петровича?
– Именно.
Елагин воспринял этот вопрос спокойно. Не смутился, и даже как-то вальяжно развалился в кресле.
– Я думаю, что их высочеству в поиске истины дарована самим Всевышним особая роль. И пока царственная корона украшает чело его великой матушки, великий князь освоит все градусы любой системы. Время еще есть, еще есть.
Панин начал злиться, что было ему совсем не свойственно.
– При всем моем благорасположении к вам, я вынужден заметить, что в этом пункте с вами не согласен. Времени у нас очень мало. Государство не может ждать законов и конституции вечно!
– Ах, при чем здесь государство. Мир существовал и при древних халдеях, жрецах египетских, при строительстве Соломонова храма и при славном тамплиерском воинстве. Люди живут и умирают, а истина живет вечно.
Никита Иванович понял, что хозяин его попросту дурит, а может, подбирается к чему-то для него важному, но подбирается столь окольными путями, что и понять ничего нельзя. А ему, Панину, должно говорить прямо, за этим и пришел. Но вряд ли представится другой случай поговорить откровенно. Правда, кто в наше время говорит откровенно? Но следует хотя бы прощупать почву, на которой стоит Иван Перфильевич.
Целый вечер толкли воду в ступе. Панин переел. За столом сидели долго. К десяти часам как-то незаметно с представителей морской фауны сползли на пернатых. Рябчики с клюквенным соусом были отменно хороши. А про десерт и говорить нечего.
Домой Панин явился с больным животом и твердой уверенностью, что Елагина в революционные замыслы посвящать нельзя ни в коем случае. Ну и пусть его. В масонской среде достаточно здравомыслящих людей. А хранить тайну они умеют и без Елагина.
Работа над конституцией продолжалась всю зиму. Здесь очень некстати (а может, и кстати?) возникло дело злодея Пугачева, то есть все неприятности, связанные с бунтом. Но тем не менее Панин решился на важный разговор с великим князем.
Уже по настроению Павла было видно, что разговор этот состоялся вовремя. Павел выслушал своего воспитателя с полным вниманием, поклялся хранить тайну. О, он все понимает! Люди готовы пойти на смерть, только бы восторжествовала справедливость, и он по праву занял бы трон. И на условия он согласен. Он прочитает «Рассуждения о непременных законах» с полным вниманием и даст клятву.
– Верьте мне, Никита Иванович, как только я стану императором, государство Российское будет жить именно по тем законам, о которых вы пишите.
Вернемся к нашей героине. Встреча с сестрой произвела на Глафиру поистине благотворное действие. Ранее, пережевывая изо дня в день свои страхи, она запрещала себе радоваться: поймают, вернут назад, или еще того хуже, масонские или полицейские чины дознаются, что она обманом носит мужское платье. Днем страхи эти жили как предчувствие, воображение отказывалось рисовать страшные картины, но снам не прикажешь показывать только хорошее. Ночью она видела погоню, чьи-то цепкие руки хватали и волокли на расправу, а дальше страшный суд в подвале у вольных каменщиков.
Обещание Вареньки помочь в деле с наследством разом упразднило прежние страхи. Она увидела во сне ромашковый луг и еще какой-то город диковинный, в котором словно уже была когда-то, потому что узнавала и дворцы, и улицы.
Замечательное настроение не оставило ее и утром. Перед Глафирой вдруг словно ожил материальный мир – вместилище всяких прекрасных вещей. Начнем с того, что это очень приятно – иметь собственное жилье. Пусть она только квартирантка, но в этом флигеле ощущает себя полной хозяйкой. Глафира и не замечала прежде, как свеж куст жасмина под ее окном, какая красивая резная спинка у немецкого стула, как хорошо пахнет свежее белье, которое чистоплотная Феврония перекладывала лавандой. Над столом в простенке висело распятие – дань лютеранской вере хозяина, а в красном углу икона св. Николая-угодника – помощника всем путешествующим. Деревенское распятие было ярко раскрашено и имело, прямо скажем, веселый вид, а лик Николая Можайского выглядел отнюдь не суровым, а почти ласковым, явно одобряя Глафиру.
Теперь она не только оправдывала свой, на первый взгляд, безумный побег из Вешенок, но и гордилась собой. Будущее виделось вполне понятным. Главное, прожить в Петербурге потаенно еще два месяца, а потом она выйдет из подполья и заявит о своих правах.
И нечего прятаться во флигеле! Этот город принадлежит ей так же, как всем прочим жителям. Раньше только на Добром выезжала, а тут вдруг пристрастилась к пешим прогулкам. Она гуляла по набережным. Вид кораблей у пристани, след от бегущего по реке катера, изумрудная плесень на старых подгнивших сваях – все вызывало отклик в душе ее. И еще звуки… Звонили колокола, кричали грузчики, гомонили торговцы, цокали подковы о булыжник – во всем ей слышалась музыка большого города. Даже вечерний туман и чуть различимый в нем шорох листьев рождали свою мелодию. Глафире улыбались не только нимфы в парке, но и прохожие, и матросы на палубе, и барышни в кисейных платьях. Она не отказывала себе в удовольствии подмигнуть этим нарядным птичкам.
Душа ее жаждала любви, и это так понятно для девы неполных двадцати лет, но какая может быть любовь, если на тебе камзол и мужской парик? И сознаемся себе, ей жалко будет расставаться с мужским костюмом. И не потому, что он ей особенно нравился. Во-первых, женское платье теплее. Кажется, что об этом в летнюю пору говорить, но если вечер туманный или ветреный, то в портах ноги зябнут, а под юбкой всегда тепло. Удобно также, что когда юбкой ноги закрыты, не видно, штопанные у тебя чулки или нет. Можно и вообще на босу ногу туфли надеть, а у мужчин белые чулки должны быть всегда безукоризненно чисты, башмаки начищены, пряжки на них должны солнечных зайчиков пускать, а то срам, скажут, сей господин неряха.
И с мужским париком гораздо больше возни. Женские волосы позволяют некоторый беспорядок, это даже поэтично. Воткни над ухом розу, и вот ты уже шаарман! А на мужском парике букли должны быть безукоризненны, коса аккуратно оплетена шелковой лентой, лоб открыт и высок. Здесь цветком дело не поправишь. Каждый день надевай парик на болванку, подвивай кудри, а раз в неделю волоки волосы к справщику, чтобы он все изъяны выправил, пудру вычесал и все заново присыпал. Словом, возни немерено.
И не только в костюме дело. Пообвыкнув в новом обличье, Глафира просто поражена была, насколько мужчине, против женщины, лучше и вольготнее живется на этом свете! Она могла выйти из дома в любое время и никому не давать в этом отчета. А барышне как? Ей одной вообще неприлично на улице показаться. Рядом обязательно должна идти или маменька, или гувернантка, а на худой конец пара слуг, из которых один непременно мужчина. Простонародью живется не в пример легче. Пошла повариха на рынок, хоть бы и молоденькая, ну и иди себе, никого это не волнует. Но простонародью работать надо, а это тяжело. И потом они почти все рабы.
Глафира не хотела быть рабыней. В Петербурге столько соблазнительных интересных мест, и хочется везде побывать. И хорошо это делать одной, чтоб никто не дышал в затылок. Ты можешь зайти в любой кабак и заказать себе еду мясную и полпива. А девица, даже в сопровождении, может заглянуть разве что в кондитерскую, скушать рогалик или булочку с кофием. И то про такую говорят – смела не по годам.
А лавки модные или, скажем, книжные. Если ты мужчина, заходи и покупай, что душе угодно, хоть атлас морской, хоть «Санк-Петербургские новости». И никто не усмехнется, не скажет, что ты умничаешь и притворяешься. Быть «синим чулком» смешно и стыдно. А ведь столько интересных книг на свете! Глафира любила читать книжные оглавления в лавках, у нее даже глаза разбегались. Много немецкой литературы и французской, но были книги и на русском. Правда, покупки она делала скупо, помня, что надо экономить.
И все-таки она все время выходила за рамки назначенного дневного бюджета. Виной тому был театр. Вот ведь прожорливое чудовище! Но Глафира не могла и не хотела отказывать себе в удовольствии лицезреть это чудо. Видно, наследственность со стороны матушка давала о себе знать. На первом же спектакле Глафира разом вспомнила и запах кулис, и вразнобой пиликающие скрипки настраивающегося оркестра, и наивно-роскошные костюмы актеров. Она-то знала цену этой царственной пышности, там подштопано, тут подшито. Все это она видела еще девочкой, глядя из бокового выхода, как красавица мать выводит свои рулады. И как в детстве, так и теперь, возникало чувство, что именно здесь, на ристалище, разыгрывается подлинная жизнь, а за стенами театра протекает только ее копия. Потом батюшка запретил ребенку без нужды шляться в театр, объяснив, что пиесы часто имеют фривольное содержание, а ребенок должен жить с гувернанткой и вовремя ложиться спать.
Любовь к театру в ту пору была сродни поветрию – заразительной болезни. Это было модно. В театр ходили и простолюдины. Глафира экономила деньги и часто глядела на сцену с галерки рядом со студентами, художниками, горничными и ремесленниками. Однажды рядом с ней очутился даже поп – вот как любили в столице театр. Если представление нравилось, то богатая публика аплодировала метанием кошельков – таков обычай.
Наиболее популярна была в Петербурге французская комедия. Все русские литераторы кинулись в переводчики. В комедии вся интрига завязывалась на плутовстве. А кто главные плуты? Конечно, слуги. Драма входила в другую категорию и называлась «представления для мещан», хоть их любила вся публика без сословного разбору. Русские пиесы тоже были в почете. Гремел великий Сумароков. На его представлении «Синав и Трувор» Глафира обрыдалась. Был некто фон Визин, видно, из немцев. Он написал известную всему Петербургу драму, нет, комедию из русской жизни со странным названием не то «Генерал», не то «Бригадир». Говорят, сама государыня очень одобрила этот труд. Глафира мечтала эту пиесу увидеть, но она нигде не шла.
Однажды на афишке она увидела знакомую фамилию – Елагин Иван Перфирьевич. Оказывается, глава русских масонов тоже подался в драматурги. Наверное, переводит с французского, а вернее сказать – пересказывает, снабжая героев русскими именами и постными диалогами о всемирном счастии и справедливости. А потом и вовсе неожиданность. Она узнала, что Елагин не только Провинциальный мастер у вольных каменщиков, но еще и глава всех театров в столице. Это ее несколько примирило с масонами.
Глафира уже знала всех актеров по именам и могла рассказать о каждом. Актерка Трещина, например, любимица Петербурга, по сути своей совершенный оборотень. Сегодня рыдает в драме, заламывает лилейные ручки и говорит: «скорее умру, чем расстанусь со своим возлюбленным», а завтра она же кокетливая субретка в комедии – ловкая, живая, веселая: «Ах, зачем мне ваша любовь, если вы бедны?» Каждый актер являлся в своем характере, и в этом было истинное правдоподобие жизни.
Но больше всего Глафира любила трагедию. Выбор объяснялся просто – она обожала актера Веретенникова. В газете о нем писали: «атлет трагического котурна». Истинно так, красив, широкоплеч, фигура полна достоинства – прямо-таки слепок с греческой статуи. Играл он вычурно, одушевленно, местами неистово. Иногда вместо слова только взгляд или язвительная улыбка, но какая улыбка! Публика трепетала. Правда, посмотрев трагедию про Медею по третьему разу, Глафира поняла, что Веретенников не живет на сцене, как актеры в комедии, а именно играет. Каждый жест, шаг, пауза заранее заучены. Трагедия не похожа на реальный приземленный быт, в ней жизнь должна быть высокой.
Словом, Глафира жила в полном упоении. Дайте только время, она получит свои деньги, а там уж найдет, куда их употребить. Иногда по ночам, когда сон не шел, она садилась у открытого окна, смотрела на кружившихся вокруг свечи мотыльков и мошек и мечтала, что когда-нибудь возьмет псевдоним и станет актеркой. Она выйдет на сцену и будет порхать! Беда только, что эти глупые мотыльки так беспечны, вот уже и опалили свои серебристые покровы. Слезы умиления застилали глаза. Так часто мечты заменяют нам реальную жизнь, и лучшие свои переживания мы испытываем именно во время грез, иногда совсем пустых.
Но ведь все это реально, почему нет? Голос у нее чистый, но слабый, в опере ей делать нечего, но ужо в трагедии она себя покажет! На театре среди публики слышала, что в столице есть уже клубы или курсы, где учат сольфеджи, а также декламации и мимике.
А в иные ночи она плотно зашторивала окна, надевала женское платье и становилась перед зеркалом. Вот она камеристка Лизетта – фигура ее становилась живой, увертливой, ножку эдак в бок! Получается же, право слово! Пытаясь изобразить Медею, она произносила неистовые фразы, сотрясала воздух адским смехом, и тут же в испуге зажимала ладонью рот. Вдруг Озеров за стеной еще не спит. Что он подумает, услышав ее вопли. Зеркало было не только собеседником, оно было окном в дивный мир театра.
Письма от Вареньки прекратились на время. В последней записке она сообщила, письмо своему опекуну давно написала, а теперь ждет ответа, и что увидеться в ближайшее время нет никакой возможности. Государыня решила, что не плохо бы старшим классам пообщаться с природой, поэтому их вывезли за город в специально снятый для летних занятий дом. В Петербург они должны были вернуться где-то в конце лета.
Долгожданная весточка от Вари пришла, как и было обещано, в середине августа, и совершенно потрясла Глафиру, более того, уничтожила ее в буквальном смысле слова. Оглушительная весть была упакована в куверт из розовой бумаги и включала в себя ответ опекуна и записку от Вари, полную междометий и знаков восклицания, между которыми прятался невысказанный вопрос – что все это значит, а?
Письмо от старика Бакунина было полно сочувствия. Главное известие предваряло вступление, в котором опекун деликатно писал о тщете наших надежд и желаний. «Жизнь есть сосуд скорби, а потому смертный всегда должен быть готов, что Господь призовет его к своему порогу. Крепись, моя милая девочка. Господь дает нам крест, дает и силу. Ты должна мужественно перенести скорбное известие».
Какое извести-то? Хорошо тебе, старый петух, размышлять на эту тему, но зачем девице в шестнадцать лет напоминать о смертном часе? – негодовала Глафира, разбирая незнакомый почерк. Потом глаза ее округлились. Она наконец добралась до главного.
Скорбное известие было таковым: старшая сестра ее Глафира Турлина почила в бозе в начале июня сего года. И умерла она смертью насильственной, наложив на себя руки. «Глафира ушла из жизни добровольно…» Т-а-а-к… От возмущения Глафира начала икать. «На похоронах усопшей присутствовал опекун умершей, он и подтвердил ее личность. Сейчас господин Веселовский Ипполит Иванович пребывает в Италии. По возвращении в отечество, если вы захотите, он встретиться с вами, милое мое дитя, и расскажет подробности этой скорбной истории. Похоронена Глафира Турлина в приходе Воскресенской церкви за церковной оградой. Уведомила меня о сим печальном событии воспитательница сестры вашей и владелица усадьбы Вешенки Марья Викторовна Рюмкина».
Значит, у меня уже есть собственная могила. А кто же тогда я? Может, и душа моя переселилась в тело Альберта Шлоса? И теперь мне всегда придется жить в мужском обличье? А как же наследство?
Глафира выпила воды, отерла вдруг вспотевшую шею и лицо и расплакалась.
Надо ли объяснять, что счастливая и беззаботная жизнь кончилась в один миг. Вначале она хотела тут же бежать к Февронии, чтобы поплакать на ее пышной груди и попросить совета, но в дверях она сообразила, что полуодета. Не гоже бежать через двор в домашних ботах. Времени на переодевание хватило как раз на то, чтобы в голове, как фонарь, возвещающий об опасности, вспыхнула здравая мысль. А вдруг Феврония не поверит! То есть как раз поверит, что Глафира Турлина умерла, а девица, поселившаяся в ее доме под именем немца Шлоса, просто самозванка, которая ведет свою игру. Правда, в качестве доказательства можно предъявить Вареньку, она-то признала в ней сестру. Но тут Феврония как раз может и усомниться, скажет, де, вы не виделись десять лет, Варя может принять желаемое за действительность и признать сестрой любую, кого не подсунь.
Из состояния срыва, мучительных раздумий, словом, отчаяния, Глафиру вывел явившийся вдруг утром Озеров. Это было не в его обычае, если он и захаживал, то вечером, осматривал комнату голодными глазами – угостят ли на этот раз кулебякой или сразу выпроводят за порог, сославшись на занятость? Закусит, почмокает мокрыми губами и начнет звать в какие-то компании, как понимала Глафира, на масонские обеды, «где хорошо кормят и собеседники приятные». Каждый раз он отчитывался перед Глафирой, сообщая, сколько именно денег опустил в суму собирателя милостыни:
– Деньги небольшие, но ведь каждый раз надо подавать. Но зато потом удивительная легкость в душе, поскольку сребролюбие угнетает, а щедрость и сострадание к ближнему, наоборот, расширяют вены, увеличивает ток крови в голове, и жизнь видится в благоприятном свете.
Глафире давно надоели его прожорливость, назидательность и излишнее любопытство, но сейчас она даже обрадовалась, квас подала и кренделек с маком, который гость с удовольствием сжевал. Далее разговор пошел как обычно о масонской трапезе, только на этот раз Озеров вцепился в Глафиру намертво, как клещ по весне.
– Уж этот обед, господин Шлос, вы должны посетить непременно. Сам мастер стула приглашает вас, а на это должны быть веские причины.
– Какие же?
На толстом лице Озерова появилось строгое выражение, но руки он продолжал держать в молитвенном жесте, ладонь к ладони, как перед иконой.
– Это мне не дано знать. Я всего лишь рядовой член. Но ваше непоявление на оной трапезе может быть воспринято с непониманием. И неблагоприятием. Ну что вы хмуритесь, милый Альберт? В прошлый раз вы сослались на нездоровье, на прошлой неделе говорили, что очень заняты. А меж тем весь день провели дома.
– Вы что, следите за мной?
– Боже избавь! Но фурия определенно говорила, что вы в тот день не выезжали за ворота.
– Не могла Феврония вам этого говорить. Подслушивали?
– Господин Шлос, вы все время подозреваете меня в каких-то гадостях. А я ведь и обидеться могу.