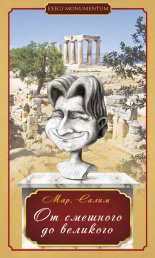Вас любит Президент Романовский Владимир

– Я не притворяюсь, – возразила Грэйс. – Я и есть инфернальная сука. – Подравняв ноготь ножницами Гвен, она добавила, – Эй, вы тут будете ночевать вдвоем?
– Нет, – сказала Гвен.
– Нет, – сказал Лерой. – Извини. Я забыл, что сегодня четверг. – Он повернулся к Гвен. – Четверг – это святое. Выхода нет, нужно взять ее с собой.
– Взять с собой? Ты шутишь.
– Нет.
– Зачем?
– По двум причинам. Мы с ней проводим недостаточно времени вместе, это первая. Думаешь ходить по городу, ожидая, что какой-нибудь снайпер выстрелит тебе в голову – опасно? Вот подожди, узнаешь, что будет, если оставить Грэйс одну в этой квартире. Это вторая причина. Не желаю, чтобы у меня в доме устраивали оргии. Грэйс, едешь с нами, будут приключения.
– Ты с ума сошел, – сказала Гвен. – Она ни в чем не замешана, и она ребенок. Думай головой!
– Я и думаю.
– Нет, – настаивала Гвен. – Слушай, ты не имеешь права, в конце концов. Алё! Очнись! Что с тобой!
– Если ты заботишься о морали несчастного ребенка, то поздно. Она уже один раз делала аборт…
– Вранье, – сказала Грэйс. – Ты знаешь, что это полная хуйня. Нечего верить всему, что говорит тебе моя тупая невежественная мать.
– В полицейских делах нет морального аспекта, – продолжал Лерой. – Мы делаем то, что нам велят. У нас иммунитет. Присоединяйся к клубу. Грэйс, найди какую-нибудь сумку в … тебе лучше знать, в каком шкафу … и напихай туда носков и трусиков. Возможно, мы проведем три или четыре дня в провинции.
– А как же школа? – спросила Грэйс. – Присутствие предмета твоей любви вскружило тебе голову, – добавила она по-французски.
– Ты очень помпезно говоришь, когда на французский переходишь, – заметил ей Лерой, тоже по-французски. – Помимо этого, не забывай, что предмет моей любви, как ты выразилась, знаком с данным языком, хоть и поверхностно.
Гвен засмеялась.
– Ну, хорошо, к чертям все, – сказала Грэйс по-английски. – Ты прав, мы недостаточно времени проводим вместе. Я устала и мне скучно. Чувствую себя старухой, и мама действует мне на последний оставшийся у меня здоровый нерв всю неделю. А убивать кого-нибудь будут? Я люблю кровавые потехи.
– Не предвижу таковых, – сказал Лерой, – но мы можем остановиться в каком-нибудь темном месте и я подвергну какого-нибудь прохожего пытке, специально, чтобы тебе угодить.
Снаружи раздались свистки и хохот, когда Грэйс и Гвен вышли на крыльцо, и прекратились мгновенно, когда рутинным жестом Лерой вынул автоматический пистолет и вставил обойму.
– Твоя тачка? – спросила Грэйс у Гвен.
– Нет. Моей подруги. – И Гвен добавила иронически, все больше нервничая, – Хотела бы такую иметь?
– Нет, – сказала Грэйс. – Хотела бы, чтобы мой бойфренд такую имел.
– Она же дама, – объяснил Лерой. – Она не водит.
– Дамам не положено? – спросила Гвен.
– Конечно нет. И настоящим джентльменам тоже не положено.
– Но ты же водишь.
– А я не джентльмен, – сказал Лерой, заводя мотор. – Увы. Давеча еду в метро, и стоит передо мной дура одна, прямо перед моим сидением, и нужно подняться и уступить ей место, если ты настоящий джентльмен, но я посмотрел ей в глаза и увидел в них идеологическую искру, такие бывают у журналистов и феминисток, и остался сидеть. Если ты ведешь себя так, будто у тебя есть хуй с яйцами, извини, я тебе место не уступлю. … Так, это глупости, я не желаю.
Две машины остановились перед ними, одна за другой, на светофоре. Лерой сунул руку в рюкзак и вытащил алую полицейскую мигалку. Выставив его на крышу внедорожника, он подключил провод к гнезду зажигалки.
– Би-би, – сказал он, крутанув руль вправо до отказа и взбираясь через высокий поребрик на тротуар.
Следующие пять минут они неслись так, что окружающий ландшафт смазался, как картина позднего Моне. Гвен держалась обеими руками за пристегнутый пассажирский ремень, сразу над плечом, и временами закрывала глаза. Как бывший сорванец, она любила водить машину; как дама, она любила, когда ее возили; но к суицидного типа дорожным трюкам страсти у нее не было никогда.
Он или не он? Зачем было представлять свою приемную дочь? Может, он собирается убить их обеих? Она была готова пожертвовать собой, но самопожертвование требует интима между безжалостным властителем и подданным, приговоренным к уничтожению. Интим! Частная жизнь! Любые третьи в этой ситуации лишние. Любовь не в оргиях родится, если перефразировать знаменитого поэта; казни с присутствием свидетелей теряют остроту – исчезает шарм.
Лерой остановил машину у самого въездного пандуса Бруклин-Квинс-Шоссе и вытащил мобильник.
– Я сейчас, – сказал он Гвен. Посмотрел на Грэйс. Она закатила глаза.
Он отошел на двадцать ярдов, к одной из гигантских несущих конструкций, на которых держалась эстакада шоссе, прислонился к ней, и набрал номер.
– Винс? Это Лерой.
– Все в порядке, Детектив?
– Пока что да. Как ты там?
– Не спрашивайте.
– Гейл действует на нервы?
– Не то слово. Но что делать!
Выдержав паузу, Лерой сказал,
– Можно кое-что сделать. Пойди прогуляйся. Гулять полезно. Ты спортсмен, тебе ли не знать.
– Э … Нет, спасибо. Мы достаточно с ней гуляли за последние две недели.
– Один. Иди гулять один. Просто выйди из дома. А потом забудь вернуться.
– Это шутка такая?
Лерой подумал – не сказать ли про серьги? Нет, не сейчас.
– Нет, не шутка. И не обман. Я тебя хоть раз обманул? Иди и не возвращайся. Иди домой. Или езжай к детям. И дай мне поговорить с Гейл.
Винс не знал, что и думать. Он отдал трубку Гейл.
– Гейл? – строго сказал Лерой. – Мы поймали и арестовали гада, который за тобой гонялся. Но нам нужно поймать его дружка. Того, которого ты нам помогла идентифицировать. Винс сейчас выйдет погулять. С тобой все в порядке, но я хочу, чтобы ты осталась в квартире и слушала, кто звонит, не поднимая трубку. Таким образом мы будем держать с тобой связь все время. Если тебе нужна еда, закажи по телефону. Но не выходи из дома, что бы не произошло. Хорошо?
Ему пришлось повторить все это еще и еще раз, чтобы до Гейл дошла суть. Он выключил телефон и вернулся в машину. Один взгляд на Гвен сказал ему очень многое.
– Дай сюда, – сказал он, протягивая руку.
– Что дать?
– Чем ты там только что пользовалась, подслушивая разговор.
– Я не…
– Ого, – сказал он.
Он выскочил из машины и сорвал с себя пиджак. Изучил. Микрофон оказался размером с медную монетку. Прикреплен к спине, чуть выше талии. Лерой оторвал его от пиджака, бросил на землю, и наступил сверху ногой. Гвен поморщилась как от боли и вытащила наушник из уха. Лерой снова сел за руль и завел мотор. Гвен сжалась, будто он сейчас ее ударит. Возникла неприятная пауза. Грэйс следила за сценой с большим интересом.
– Зачем ты сказал Винсу, чтобы он ушел из квартиры? – спросила Гвен.
Лерой въехал по пандусу на шоссе и втерся в поток машин.
– Гейл в безопасности, – сказал он наконец. – Если друг наш ждет, чтобы ее оставили одну … вряд ли, но все может быть … Не может же он попытаться зайти, если в квартире еще кто-то есть. А так – если он попытается проникнуть, то из здания он уже не выйдет. Я взял у тебя две камеры, попользоваться. Они над дверью квартиры. Я получу сигнал на мобильник и дам знать Капитану Марти и остальным ковбоям.
– Подожди, подожди, – сказала Гвен. – Ты что, опять используешь Гейл, как приманку? На этот раз без прикрытия?
– Ну да, – сказал Лерой. – У нее уже есть опыт в этом деле. Почему нет?
– Кто такая Гейл? – спросила Грэйс с огромным интересом. Эти полицейские дела, оказывается, гораздо интереснее, чем она думала.
– Ты понимаешь, – сказала Гвен, – что если что-нибудь случиться с Гейл, ты будешь в ответе?
– Только если ты разделишь со мной ответственность.
– Кто такая Гейл? – настаивала Грэйс.
– Я? – воскликнула Гвен. – Почему?
– Вспомним, чьим делом мы все это время занимаемся, – сказал Лерой.
– Я не просила…
– Также вспомним, что в кошки-мышки мы играем с очень способным парнем. Винс бы его не остановил. Повторяю, сомневаюсь, что он явится к тебе в квартиру. И я склонен думать, что он скорее всего появится в доме Гейл, и поэтому мы туда сейчас едем. Однако все может быть. Также позволь тебе напомнить, что ты согласилась оставить Гейл и Винса одних потому, что со мной ты в безопасности. Ты, лично. Так что все претензии по поводу эгоизма отпадают.
– Да, как же, – Гвен попыталась изобразить сарказм. Она подумала, не сказать ли ему о своих подозрениях, чтобы разом со всем покончить. – Я звоню Винсу.
– Звони, – сказал Лерой. – Расскажи ему про серьги Гейл.
– Ты дурак, – сказала Гвен.
– Какие серьги? – спросила Грэйс.
– Вот эти, – сказал Лерой, доставая серьги из кармана и болтая ими перед носом Гвен.
– Так это ты их взял! – закричала Гвен.
– Дай посмотреть, – сказала Грэйс, наклоняясь вперед.
– Я? А. Нет, я не украл их. Ты мне велела их искать, и я поискал, и нашел их в стенном шкафчике над раковиной, в ванной.
– Почему же ты не отдал их Гейл? – сердито спросила Гвен.
– Еще чего! Не увидеть, как Гейл делает нечеловеческие усилия, чтобы оставаться тактичной в присутствии негра, спиздившего ее серьги? Ты шутишь. А если бы она выпалила бы ему в лицо – отдавай, мол, серьги! Как бы он среагировал? Такое пропустить? Нет уж.
– Я боюсь даже думать, как бы он среагировал, – сказала Гвен, сдерживая ярость.
– Ну хорошо, – сказал Лерой. – Но ты-то должна, по крайней мере, радоваться, что он покидает квартиру. Нам он там совершенно не нужен. Стесняет.
– Ты сволочь, – сказала Гвен. – У тебя нет никакого уважения к чувствам других.
– Это точно, – согласилась Грэйс с заднего сидения. – Кто такая Гейл?
– Домохозяйка, над которой Гвен любит издеваться, – сказал Лерой. – Водит ее в разные места и заставляет говорить глупости, чтобы все смеялись.
– Вранье, – сказала Гвен. – И никакая она не домохозяйка. Она не замужем. И детей у нее нет.
– Может, она вышла бы замуж, если бы ты ее не отвлекала все время и не совала бы нос в ее дела.
– Ты подлая, эгоистичная сволочь! – закричала Гвен.
– Не ловись на это! – крикнула предупредительно ее Грэйс. – Он специально!
– Что – специально?
– Специально тебя выводит. Он и маму также выводил. Он со всеми так. Развлекается.
– Зачем?
– Он так делает, когда хочет вывернуться из какой-нибудь ситуации. Либо он решил тебя бросить…
– Заткнись, Грэйс, – сказал Лерой.
– Либо…
– Меня можно бросить гораздо более простым способом, – сказала Гвен, сжимая зубы.
– … или, – продолжала Грэйс, – он не желает делать то, что вы с ним собрались делать, из-за чего мы куда-то едем.
– Заткнись! – сказал Лерой не очень уверенно. – Ебаный в рот!
Он подъехал к обочине и остановил машину.
– Что случилось? – подозрительно спросила все еще сердитая Гвен.
– Нехорошие предчувствия, – сказал Лерой, покачав головой. – Серьезно. Паршивое дело. И я должен ехать один. Вот что. Давайте я вас, девки, сброшу где-нибудь. У какого-нибудь отеля. Выпьете амаретто, познакомитесь получше.
Что ж, логично, подумала Гвен. Если Лерой действительно задумал то, на что он туманно намекает, то – самое время ей, и Грэйс тоже, сейчас вылезти, и чтобы делом занялся профессионал. Но может быть – может быть – в нем наконец-то проснулась совесть, и ей, Гвен, следует использовать момент, спасти себя и эту девчушку, пока совесть Лероя снова не уснула. Логично, но выглядит плохо. Если она сейчас выйдет, она потеряет право быть с этим кретином на равных. Тоже мне привилегия! Некоторые люди уверяют, что не воспользовались какими-то возможностями ради своих детей. У Гвен детей нет.
– Я еду с тобой, – сказала она, – но думаю, что нам нужно где-нибудь высадить Грэйс.
– Ни хуя, – сказала Грэйс, хотя в ее энтузиазме на этот раз прозвучала сомнительная нота. – Никуда я не пойду. Такой кайф, с вами весело.
– Нет, – сказал Лерой. – Если ты едешь, то Грэйс тоже едет.
– Зачем? – воскликнула Гвен раздраженно.
Лерой был не просто ненормальный – у него в голове были бесконечные петли и спирали, не соединяющиеся, очевидно, с остальным миром, но логичные сами по себе! Настаивая, чтобы Грэйс ехала с ними, он … автоматически … перекладывал вину за все, что случится, на Гвен. Если Грэйс пострадает, Гвен будет виновата.
– Ебаная сволочь, – сказала Гвен.
Глаза Лероя широко открылись.
– О, да, – сказал он. – Я боялся, что подцепил на жизненном пути какие-то ангельские качества. Нет, к счастью это не так. Я все еще та самая ебаная сволочь, какой был всегда. И если он хочет сволочь, он получит сволочь.
– Кто – он? – спросила подозрительно Гвен.
Лерой издал короткий смешок. Включив скорость, он надавил на акселератор. Скрипнули шины. Мелковатый Форд Темпо попался на пути, вильнул, забуксовал, и остановился. Лерой остановил внедорожник, выскочил, и пнул ногой дверь Форда, оставив на ней основательную вмятину, а затем обежал Форд спереди и выбил ногой одну из фар. Посыпались осколки. Водитель, явно работяга из простых, большой телом, вышел, грозно крича. Лерой схватился за открытую дверь и рванул ее. Дверь отскочила, ударив водителя в ребра. Лерой снова ее схватил, и на этот раз оторвал от петель и бросил в сторону.
– Что скажем, а? – спросил он водителя с вызовом. – Как ты намерен поступить? Ну, сделай что-нибудь. Не стесняйся. Так я и знал. Говно бесхребетное. Садись обратно в свою жестянку, и чтобы мне тихо тут. Понял, сука?
Он вернулся за руль внедорожника и захлопнул дверь.
– Уже лучше, – сказал он, вдавливая акселератор в пол.
***
Винс пытался читать, но беспорядочное, неорганизованное присутствие Гейл в квартире не давало ему сосредоточиться. Вся квартира вибрировала от движения и звуков. Краны урчали и шипели, унитаз шумел и рыгал, телевизор каркал, стерео дребезжало, на удивление тяжелая поступь Гейл сотрясала полы, эхо отлетало от штукатурки. Время от времени, через неровные интервалы, Гейл стучалась в «радиорубку», спрашивая, не хочет ли Винс посмотреть тот или иной дебильный сериал по телевизору, предлагая ему кофе и алкоголь, и наконец пожаловалась, что ей очень одиноко. В какой-то момент Винс даже хотел ее выебать в расчете на то, что она слегка успокоится, но отказался от этой идеи – возникло бы еще больше проблем. Можно было ее выключить апперкотом, но последствия такого шага представлялись ему не менее неприятными. Винс слез с раскладушки, надел ботинки и пиджак, и вышел в гостиную. Зазвонил мобильник. Что это мобильник мой делает на телевизоре?
– Винс? Это Лерой.
– Все в порядке, Детектив?
Гейл вышла из ванной в халате Гвен, слишком коротком для нее. Она повозилась у телевизора, поглядывая на Винса. Последние четыре или пять дней она вела себя с ним странно.
– … Иди домой. Или езжай к детям. И дай мне поговорить с Гейл.
Винс передал телефон Гейл. Она ныла и жаловалась и ничего не понимала из того, что ей говорят, и опять ныла. Наконец она выключила связь.
– Все нормально, – сказал Винс.
– Что ты имеешь в виду?
– Опасности нет.
– Этот гад тоже самое говорит. Вам всем легко говорить. Вы в ту ночь в моей машине не сидели. Подонок вам пистолет к башкам не прижимал!
– Все хорошо, – сказал Винс.
– Никуда ты не пойдешь. Не имеешь права.
Надев пиджак, Винс вдруг сообразил, что блок в памяти, который ему все это время досаждал, исчез. Все это время только хорошие воспоминания об Илэйн приходили ему в голову – теперь же ее недостатки потеряли моральный аспект, влились в общую гармонию, и стали почти безопасны для воспоминаний. Спускаясь в лифте, Винс улыбнулся, удивляя самого себя, когда вдруг вспомнил, как основательно недолюбливала Илэйн свою младшую сестру. «Гвен думает, что вокруг нее одни дураки», – говорила она. «И это якобы дает ей право относиться к людям, будто они грязь, поскольку разницы они все равно не поймут и не оценят. И она такая скупая – это просто ужасно. Не представляешь себе. Когда едешь с ней на такси, она всегда настаивает, что платить нужно пополам, и потом неделями может тебе досаждать, пока не заплатишь свою долю до последнего цента».
Когда надеваешь солнечные очки в сумерках, то чувствуешь себя глуповато. Световые волны, отраженные предметами, изгибаются под незнакомым углом, и уменьшенное их влияние на глаза может вывести человека из равновесия. Чтобы компенсировать это, мозг переключает основные информационные каналы на уши, и шквал аудиторных ощущений, которые обычно редактируются, теряя лишние нюансы, начинает в конце концов пугать.
Винс подумал – не передвинуть ли очки ниже, чтобы смотреть поверх рамки, но вспомнил, что именно в таком виде его поместили на обложку журнала «Ньюзвик» месяца три назад.
Он находился на улице, в темноте, один – первый раз за много лет. Намеренно сгорбившись, он зашагал таким образом, будто у него болела спина – хорошая маскировка, если никто тебя специально не ищет.
Он чувствовал себя спокойнее, чем две недели назад. Наверное пора забрать детей. Нехорошо, когда дети пропускают так много из школьной программы. Кроме того, он по ним скучал.
Он помнил название станции. Вывод Бентли из гаража, покупка карты Нью Джерзи с названиями станций и дорог, поиски в темноте – все это отняло бы слишком много времени. Еще больше времени отняла бы у него, наверное, попытка объяснить таксисту, куда именно нужно ехать. Общественный транспорт – самое лучше решение. Почти во всех случаях.
Он поднял руку. Пятое по счету свободное такси остановилось и подобрало его. Водитель был белый – редкость в наши дни. Прибыв на Пенн Стейшн, Винс долго изучал карты и расписания поездов пока случайно не обнаружил на одной из карт название искомой станции. Станция располагалась на одинокой ветке, идущей по касательной к Северовосточному Корридору и заканчивающейся – черт его знает, где это, и живут ли там люди. Ветка работала в убыток, так же, как большинство веток на планете, из-за распространенности драндулетов и шоссе. Увлечение человечества бесполезными игрушками приняло астрономические размеры после Второй Мировой Войны и сейчас, более половины столетия спустя, не собиралось слабеть. Так сказала однажды Илэйн и, подумав, Винс решил, что она права, но это не заставило его отказаться от Бентли, что и являлось, кстати сказать, доказательством утверждения Илэйн.
До отхода поезда оставалось еще минут двадцать, и Винс вышел на Седьмую Авеню, чтобы посмотреть, что нынче показывают в Мэдисон Сквер Гардене. Он очень удивился, когда чуть не столкнулся с Джоном Форрестером.
Глава двадцать первая. Кому герой, а кому…
– Что это такое? – спросил редактор, брезгливо указывая на экран, где были статья и фото, присланные ему Роджером Вудзом.
По его тону Роджер заключил, что начальник не рад результатам работы Роджера.
– Это – тот самый репортаж, о котором я вам говорил, – сказал Роджер.
– Репортаж! – с горечью повторил редактор. – Репортаж! Ну и ну. – Он развязал галстук.
– А что не так? – осторожно поинтересовался Роджер.
– Что не так? – редактор покачал головой. – Слушай, Вудз, у папы твоего друзья высокопоставленные, и только поэтому я тебе сейчас кое-что объясню. Сядь. Будь на твоем месте другой, я бы не стал стараться. Речь идет о таких вещах, в которых каждый репортер, если он чего-то стоит, должен разбираться сам. Ты да я, Вудз, работаем в одном из самых респектабельных ежедневных изданий мира. Это не просто ежедневная газета. Это – нью-йоркская ежедневная газета. Знаешь, сколько экземпляров мы продаем каждый день? Нет, не знаешь. И я не знаю. Но все равно – несметное количество экземпляров. Как ты думаешь, это важно?
– Да, сэр, – сказал Роджер.
– А почему это важно, Вудз? Вот объясни мне.
Роджер пораздумывал, пытаясь угадать, что именно хочет услышать от него редактор, какой ответ.
– Это делает нас влиятельными? – осторожно предположил он.
– Нет. То есть, конечно, делает. Но это не главное. Думаешь, мы получаем прибыли от продажи номера?
– Да, сэр.
– Нет. Посмотри на здание. Посмотри на персонал. Посмотри на эту старую блядь, ответственную за колонку сплетен, расхаживающую в миллионнодолларовых колье перед всеми. Если бы мы зависели от читателей, нам бы следовало поднять цену за экземпляр до … не знаю … до девяти долларов, чтобы только не работать в убыток! Да средний житель Нью-Йорка скорее переедет в Польшу, чем купит газету за деньги, на которые он может купить в баре рюмку коньяка, или в магазине целую бутылку джина! То, что у нас большой тираж, означает только одно – рекламодателям нравится наша газета. Они платят за все. Вот возьми в руки экземпляр. Посмотри на всю эту рекламу. Читатели не смотрят, но рекламодатели-то об этом не знают! А кто это, как ты думаешь – наши рекламодатели? Или, вернее, кто убеждает их печатать их дурацкую рекламу в нашей газете? Наша газета – алтарь, Вудз, храм постиндустриального капитализма! Нет больше конкуренции, нет свободного предпринимательства, нет недоверия друг к другу. Мы наконец-то оградились от всего этого, мы в безопасности, и чтобы не растерять достижения, алтарь должен действовать, жертвы должны приноситься каждый день. Кто приносит эти жертвы? Владельцы корпораций. Они знают об этом. Мы тоже знаем. Они нам платят за наши услуги, и мы печатаем их рекламу – это расписка. Чтобы, когда к ним явятся вдруг боги постиндустриальной эры, и спросят, совершаются ли жертвоприношения, они могли бы показать рекламу, которую мы печатаем. Расписку. Они вполне благонамеренны, эти корпорационные прихожане, и мы делаем все, чтобы их удовлетворить. Но когда алтарь вдруг оскорбили, когда кураторы храма, включая главного жреца, которому я служу в качестве ассистента, вдруг забывают о своих непосредственных обязанностях дабы удовлетворить пошлые журналистские амбиции ничтожества по имени Роджер Вудз, рекламодатели могут и обидеться! Могут пойти еще куда-нибудь со своими дотациями! Со своими жертвами! Найти другой храм, или построить новый! Конечно же некоторые наши прихожане ссорятся иногда между собой. Они тоже люди. И что же, неужели они заслужили, чтобы весь мир вдруг об этом узнал? Это что, наша святая обязанность – выставлять их на посмешище? Ты в церкви на Пасху слышал ли когда нибудь, Роджер, чтобы священник называл своих прихожан подлыми грешниками? Нет. Вместо этого он говорит им, что Бог их любит. И помимо этого ничего больше не говорит. Потому что жалование его зависит от них. Они дают деньги. Мы говорим нашим прихожанам, что то, что они делают – прекрасно и полезно. Ты знаешь, кто владеет этой нашей гордой газетой? Ты видел этот список? Посмотри на досуге. Я облегчу тебе задачу. Возьми список и посмотри на фамилии под буквой Си. И, уверяю тебя, ты найдешь там фамилию Кокс сразу под фамилиями Клайн, Кловер к Клатсман.
– Сэр…
– Нет, нет, юноша, не спорь со мной.
– Клатсман начинается на букву Кей, сэр.
– Не умничай, Вудз. Для тебя он начинается и на Си и на Кей, настолько он важен. Научись журнализму. Забудь, чему тебя учили в школе. Знаешь, где настоящая школа? Скажи.
– Э … Здесь? – осторожно предположил Роджер.
– И да, и нет. Если бы тебя звали не Вудз, знаешь, что бы я сделал?
– Э … Нет, сэр.
– Я бы тебя уволил прямо сейчас. И что бы случилось после этого?
– Э … что, сэр?
– Ты бы попытался устроиться в другой ежедневник. А потом ты бы начал стучаться в двери еженедельников. Журналов, выходящих раз в месяц. Раз в квартал. И все бы тебе отказали. Один взгляд на твое резюме, один звонок сюда, и ты снова готов занять место в очереди получающих пособие по безработице. Потом кто-нибудь посоветовал бы тебе попытать счастья в одной из тысяч региональных газетенок. Не в Филадельфии, Бостоне или Чикаго, сам понимаешь, но где-нибудь у черта на рогах, в каком-нибудь месте, откуда индейцев не нужно было выселять – они сами ушли, так там противно. И к твоему удивлению, ты бы получил там место. Там платять чуть больше, чем в интернетных изданиях. Доллара на два в день больше. Следующие десять лет ты бы писал репортажи о пропавших шелудивых пуделях и марьяжных проблемах Джо Хика, у которого осталось во рту три зуба и который планирует на будущий год пойти на курсы, чтобы научиться читать хотя бы крупный шрифт. И это, Вудз, была бы твоя школа. Десять лет такой школы – и ты бы приполз на четвереньках обратно в Нью-Йорк и умолял бы кого-нибудь, чтобы тебе дали еще один шанс. И они бы подумали и, может быть, дали бы его тебе, второй шанс. И тогда бы ты понял, что хороший журнализм – это не стиль, и не фривольное толкование социальных вопросов. Хороший журналист не занимается собственно сенсациями. Главная функция журналиста – его умение взять какой-нибудь совершенно безопасный, утомительный, скучный факт и представить его, как сенсацию. Очень мало людей умеют это делать. Не у всякого издания найдется два таких сотрудника. Любая школьница, жующая резинку, может написать статью о чем-то сенсационном. Это несложно. Даже грамматику толком знать не обязательно. Любой может. Это не делает любого журналистом. Касательно же сенсационных фотографий – спроси парней в ФБР или ЦРУ, сколько добра у них там накопилось. Заодно можешь спросить их, пересекаются ли когда-либо их пути с путями папарацци, которые зарабатывают себе на жизнь фотографиями кинозвезд и королевских отпрысков, то есть, иными словами, людей, ни на кого не могущих повлиять и совершенно не важных. Так. Теперь сотри эту гадость, которую ты называешь репортажем, и из почты ее убери, и покажи мне наконец, что ты в состоянии написать статью о семнадцатилетней поп-звезде так хорошо и интересно, чтобы ее можно было поместить в непосредственной близости от первой страницы. Все. Иди.
Напиться – или пройтись пешком – вот и весь выбор. Роджер выбрал прогулку и, проследовав через СоХо и Вилледж, направился на север по Седьмой Авеню. Он только что пережил важную веху в своей жизни и карьере, и он об этом знал. Ему было жаль себя и своих усилий. Репортаж был хорош, содержал точно выверенное число деталей, юмор в нужных местах, и элегантную фразеологию – выделялся бы в любом случае, а ведь он, репортаж, был к тому же сенсационным. Один магнат пытается преподать другому урок, вмешивается чемпион мира по боксу, два телохранителя выведены из строя. А фотографии!
Повинуясь импульсу, он купил в киоске сегодняшний «Крониклер», а заодно «Поуст» и «Дейли Ньюз». Сжимая зубы, он также купил «Таймз». Киоск находился в районе с высоким культурным уровнем. Роджер вздохнул и купил «Дейли Телеграф», «Ле Фигаро» и «Дейли Мейл».
Главные страницы.
«Поуст»: Ретивая Строптивая. Редакция до сих пор под впечатлением внезапного развода популярной двадцатилетней певицы.
«Крониклер»: Смекалистый Друг. Умная собака спасает хозяина, у которого случился удар, набирая номер скорой помощи.
«Нью-Йорк Таймз»: Президент дает пустые обещания. Демократия возрождается в далекой стране. Медикейд испытывает трудности. Посадка на Марсе – возможны неудачи.
Британцы оказались еще менее интересны, а лягушатники еще хуже.
Роджер возвратился к киоску и купил два радикальных еженедельника – «Прогресс» и «Сплоченность».
«Прогресс»: Президент Дает Пустые Обещания.
«Сплоченность»: Меньшинства: Все Еще Угнетаемы.
Роджер попытался представить себе кого-нибудь на территории Республики, для кого это оказалось бы новостью – и не смог.
Некоторое время он пораздумывал – не открыть ли свою собственную газету, и не попросить ли отца, чтобы он ее на первых порах финансировал? Неплохая идея. Никакой рекламы. Только хорошие репортажи и интересные статьи. Сенсации. Добрый старый журнализм.
Девять долларов за экземпляр.
Выбор читателя – развод популярной восемнадцатилетней певицы за доллар или два магната и боксер за девять долларов. Понятно, что они выберут. Два магната, боксер, плюс броская, едкая статья главного редактора про богов постиндустриальной эры за семь долларов? Может быть. Но из Роджера хороший редактор не получится. И он об этом знал.
Он обнаружил, что находится напротив Пенн Стейшн, только потому, что глаза его вдруг разглядели в толпе две знакомые фигуры – не просто знакомые – это были главные герои репортажа, который должен был сделать его, Роджера, знаменитым за один день. Мысли все еще были заняты невеселыми делами мира, но ноги уже несли его через улицу, и боковое зрение автоматически удерживало от попадания под разогнавшееся такси или грузовик. Роджер был прирожденный репортер, живущий в эпоху, когда прирожденные репортеры стали вдруг никому не нужны.
Боксер и богач спустились по ступеням, ведущим в главный проход вокзала. Роджер последовал за ними. Они изучили сперва карту, затем расписание, купили билеты, и присоединились к толпе, стоящей под табло, указывающим, с какой платформы отправляется тот или иной поезд. Встав позади них, невидимый и неслышимый, как и полагается репортеру, Роджер уловил, что поезд их … подадут на … семнадцатый путь.
В проходе, ведущем к платформе имелись эскалатор и лестница, заполнившиеся толпой нью-джерзийцев сразу по объявлении поезда. Одним взглядом Роджер оценил вульгарные (по манхаттанским понятиям) наряды, длинные искусственные ногти и высокие прически женщин, синтетические пиджаки, уродливые галстуки и громоздкие ботинки мужчин. Хорошо натренированное ухо уловило гнусаво-распевные интонации, типичные для некоторых графств штата. Открылись двери, и толпа влилась в вагоны, занимая лучшие места.
Роджер вошел в тот же вагон, что и те двое, за которыми он следил.
До того, как он успел выяснить, откуда именно ему будет лучше видно наблюдаемых, все двуместные сидения у правого борта были заняты. Левобортные сидения были трехместные. Занимались они в соответствии с проверенным временем ритуалом. Сперва в меру целеустремленные дамы и господа занимали места у прохода, надеясь, что мало кто наберется наглости попросить попутчика подвинуться, не говоря уже о притискивании к окну между коленями пассажира и спинкой впередистоящего сидения. В переполненных вагонах, тем не менее, именно это всегда и случалось. Присутствие толпы добавляло просящим и протискивающимся мужества. Таким образом, вторая фаза занятия сидений заканчивалась оккупированием двух мест – у прохода и у окна – каждого трехместного сидения. Свободное место между ними оставалось свободным до тех пор, пока люди, переходящие из вагона в вагон в поисках свободных мест у прохода или у окна наконец отчаивались, и наиболее отчаянные из их числа начинали требовать, чтобы сидящие у прохода либо подвинулись, либо убрали с дороги ноги. Средние места трехместных сидений, занятых со стороны прохода очень жирными, или очень неряшливыми, или очень злобными на вид пассажирами, заполнялись в последнюю очередь.
Роджер Вудз, наблюдая за всем этим, забавлялся до того момента, когда обнаружил, что все места заняты и сесть ему некуда. Пришлось остаться возле дверей. Пространство отделялось от остального вагона стеклопластиковым щитом с рекламным плакатом, изображающим радостно улыбающихся женщин, чьи глаза и зубы закрашены были черным фломастером. Хозяин фломастера также снабдил женщин усами. Очевидно, некоторые из пассажиров Нью-Джерзийского Транзита весьма легкомысленно относились к постиндустриальным жертвоприношениям.
Некоторые из пассажиров уже начали звонить по мобильникам, зачем-то ставя в известность домашних, что они в поезде.
Внезапно Роджер Вудз вспомнил о реалиях и сообразил, что все это бессмысленно. Здесь не было материала для репортажа – по крайней мере для репортажа, который могла бы напечатать уважаемая газета. Некоторое время он раздумывал – не сойти ли с поезда и не выпить ли чего-нибудь в одном из трех баров Пенн Стейшн. Логично, не так ли. Но, не наделенный высоким уровнем интеллекта, Роджер позволил своим журналистским инстинктам победить логику. Кондуктор включил интерком и перечислил все станции, на которых данный поезд скорее всего остановится. Затем он объявил станции, на которых пассажиры могли пересесть на поезда, следующие по другим веткам, и станции, до которых они после этого могли бы добраться. Затем он перечислил все это с самого начала. Двери поезда закрылись.
Роджер Вудз поправил ремень своего журналистского рюкзака, содержащего фотокамеру, ноутбук, блокнот, несколько ручек и ключей, и удостоверение личности, и начал пробираться сквозь толпу к двуместному сидению, занятому Джоном и Винсом.
– Эй, Винс, твой биограф пришел, – сказал Джон тихо.
Винс глянул.
– Ага, – сказал он. – Мистер Вудз, собственной персоной.
– Как поживаете, ребята? – любезно спросил Роджер.
– Поживаем хорошо, – откликнулся Джон, забавляясь. – Ты в Нью-Джерзи живешь, Роджер?
– А … Нет, сэр.
– Ты, стало быть, за нами следил?
– Хмм … Да, сэр.
– Ты знаешь – это невежливо, следить за людьми, – пожурил его Джон. – А раз уж следишь, вдвойне невежливо в этом признаваться.
– Сожалею, сэр.
– Что ты рассчитываешь узнать в этот раз?
– Понятия не имею, – признался Роджер. – Я видел, как вы заходите в вокзал. Я понял, что что-то происходит, необычное, поскольку вы не выглядите, ни один, ни другой, как люди, часто пользующиеся Нью-Джерзийским Транзитом.
– Любопытное предприятие, не так ли – эта железнодорожная компания? – спросил Джон. – Я был бы тебе очень благодарен, Роджер, если бы ты сейчас никого не упоминал по имени.
Роджер сообразил наконец, что, вроде бы, никто в вагоне не узнавал Винса. Камуфляж прост и эффективен – бейсбольная кепка и большие черные очки.
– Никаких проблем, – сказал Роджер.
– Как статья продвигается? – спросил Джон.
– Я ее закончил.
– Она в сегодняшней газете?