Комната страха (сборник) Левенталь Вадим
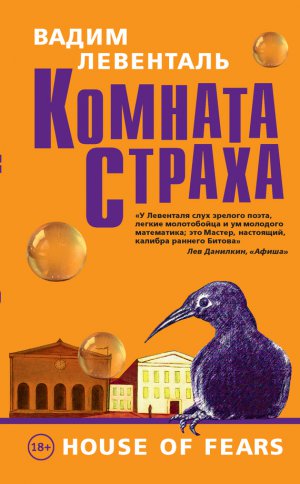
Ко всему этому не может не примешиваться усталость от шестилетних отношений, и я с ужасом думаю о том, что Полина шутит, пользуясь русским языком, для того, чтобы проговорить ту вещь, которую она, отдавая себе в этом отчет или нет – неважно, держит в голове, очевидно, уже давно: лучше всего для нее было бы, если бы Вилли просто каким-то образом исчез. Для ребенка смерть – форма такого неважно-куда-и-как-исчезновения; и у Полины ее желание выпутаться из бесконечного безденежья выражается так же: пусть Вилли умрет.
Это не просто решило бы все проблемы – это решило бы все проблемы наилучшим образом. Полине, в сущности, больше всего нужна внешняя неизбежность – чтобы, с одной стороны, не признавать свое поражение, а с другой – не брать на себя ответственность, которую Вилли не хочет, а дети не в состоянии с ней разделить. Катюха, давай замочим Вилли, – хохочет она, и я вместе с ней.
Полина – адекватный и умный человек, без пяти минут Ph. D, ясно, что она не будет никого убивать. Не только потому, что у нее мозги на месте, но и потому, что в нашем кругу это не принято: люди, которые конспектируют библиотеки и читают лекции, живут не там, где случаются бытовые убийства. Я говорю себе это, но вместе с тем я говорю себе, что наличие публикаций и участие в конференциях еще не зарок от сумы и тюрьмы. Эта мысль приводит меня в смятение и мучает: допуская, что Полина может и не шутить, я, как мне кажется, совершаю маленькое предательство. И всё же вероятнее всего, что эти качели – не более чем судорожная, на холостом ходу работа головного мозга, не привыкшего к суровой голландской дури.
Вилли отставляет в сторону барабан и скручивает еще один джойнт. Я смотрю, как ловко пляшут его двуцветные пальцы. Да, это единственное, что он умеет по-настоящему хорошо, говорит Полина. Мне хочется спросить, как же насчет других мужских навыков, но меня останавливает мысль, что она предложит попробовать, – спрошу потом.
Стройка, километры рабицы, грязь – это мы идем к метро: район страшноватый. В полутьме мне всюду мерещатся банды – арабские, африканские, – плотно сбитые мужчины в черных кожаных куртках молча оборачиваются на нас. Три правила, говорит Полина, иди знакомой дорогой, не останавливайся, не сворачивай.
Последний раз, когда я была у Полины – четыре года назад, тогда только родился Ваня, второй, – они жили в Йордане, в большой, снятой вскладчину квартире. Вот здесь мне уже эта тусовка, объясняет она, мне уже не двадцать лет. Музыканты, художники, культурологи – все бездельники мира. Бухло, Че Гевара, трава – всё, больше людям ничего не нужно. Как жопу ребенку подтереть – извините, мы еще свежего Жижека не прочитали. Полина злится, и ее можно понять: Йордан был почти центр – старый, уютный район, цветы и уличные кафе.
Когда впереди показывается мечеть, мне становится поспокойнее: почему-то мне кажется, что рядом с мечетью нас уже не тронут. Мы проходим длинные ряды ларьков, как на Сенной в девяностые, – говорю я, и Полина хохочет. Отсмеявшись, она тянет меня к входу в метро: я называю нашу станцию – Станция Крайняя.
Станция Крайняя похожа на тюрьму, как ее показывают в американских фильмах: сетки, решетки, даже узкие ступеньки, по которым мы поднимаемся, просвечивают вниз, и внизу видны лужи натекшей с крыши воды. Тем не менее яркий свет и разноцветные табло радуют: по крайней мере, здесь безопасно. В местных тюрьмах вообще безопасно, говорит Полина, а если хочешь ширяться – пожалуйста, каждый день будут приносить.
В вагоне меня уже совсем отпускает, и я решаюсь спросить Полину про Вилли. Грех жаловаться; если б не это, давно бы уже его мочканула. Двадцать два сантиметра, мы мерили. И стоит два раза в день, что твой муэдзин. – Муэдзин пять, поправляю я. А не дул бы как паровоз, было бы и пять. Полина никогда никому не уступает в споре.
За окнами узлами завязываются ленты эстакад, мелькают кроссворды окон в домах, и вдалеке слева в призрачной зеленой подсветке чуть заметно плывет высотка. Когда поезд ныряет под землю, я вдруг обнаруживаю, что совсем не помню, как мы вышли из дома. Помню Вилли, как он крутит косяк, и что потом мы идем к метро; что между – дыра. Спрашиваю Полину, но она, кажется, то ли не расслышала, то ли не понимает, что я имею в виду: ну а что, дети спят, могу я раз в жизни в клуб выбраться?
Выйдя из метро, мы попадаем в праздник: пятница, лето, Амстердам. По Амстелу, слегка покачивая широкими бедрами, идут лодки и, прямо и строго, сверкающие катера. Светится в стороне мост – развертка синего богомола. На левом берегу в окружении галдящей многоязыкой толпы мальчик с сосредоточенным крестьянским лицом жонглирует факелами, но факелов не видно: выглядит это так, будто он ладонями крутит огненную баранку инфернального автомобиля, бесконечно заворачивая вправо. Полина тащит меня вперед: ты думаешь, здесь как у вас? к часу собрались, и до двенадцати субботы афтерпати? здесь скоро уже все разойдутся!
Что, если мы действительно убили Вилли – может быть, я просто не помню. Полина ведет себя как ни в чем не бывало, но это ничего не значит – ее самообладанию любой памятник позавидует. Думать об этом неприятно и глупее некуда, но перестать я не могу: внутри меня растет беспокойство. Она могла специально увести меня в клуб, чтобы потом я подтвердила, что она всю ночь провела в клубе, а где шлялся, оставив детей, ее недомуженек, она не знает. Спросить у Полины я не могу, и вместо этого спрашиваю про Вилли, обходится ли он только травой. Нет, конечно, что ты; и грибочки он уважает, и кокос, когда дают, MDMA за милую душу; даже по вене пару раз пускал, их всё это не так, как нас, берет; их алкашка убивает.
Мы ныряем в клуб, как в парилку. Впрочем, это гигантская парилка. Под потолком парят четыре громадные люстры, пространство зала пробивают разноцветные лазеры, воздух трясется. Полина отплясывает, как сорвавшаяся с цепи, и ее можно понять: с двумя детьми успеешь соскучиться по клубному угару.
В дыму и мигающих лучах света дергается и качается тысяча человек: мальчики, девочки и люди, про которых не поймешь, мальчики они или девочки. Впрочем, по нескольким девочкам понятно, что они мальчики: они прыгают осторожно, чтобы не слетели накладные груди. Полина берет у меня деньги, две бумажки по двадцать евро – это всё, что у меня есть; картой здесь, оказывается, не расплатиться. Она исчезает, крикнув, чтобы я никуда не уходила с этого места. Глаза ее широко распахнуты, она возбуждена до предела.
Я не умею танцевать, просто слегка дергаюсь – стоять столбом здесь смог бы только столб: толпа дышит и ворочается, как настоящий, какой не снился и Гоббсу, Левиафан – одно животное тело, упругое, молодое, раскаленное. У этого животного есть цель, его движение имеет смысл: дистилляция чистой эйфории, эликсира беспримесной сексуальности. Ногами и руками здесь взбивают молоко трехмерного пространства, чтобы выпрыгнуть из него в продолжение рода. Я путано делюсь этой мыслью с Полиной, когда она возвращается. Полина вместо ответа протягивает мне таблетку: съешь и всё поймешь. А это на сдачу, – в другой руке у нее бутылка воды.
Нет, кричит она мне в ухо, всё наоборот. В действительности человек испытывает страх перед сексуальностью. Она лишает его индивидуальности, то есть вообще выключает его как отдельного человека. Для либидо неважно, кто ты. Ему наплевать на личность, человек ему нужен только как сегмент трубы, по которой оно ползет дальше. Поэтому люди выдумывают миллион способов задушить его. Это, она крутит ладонью над головой, один из них. Только тут дело в том, чтобы поставить либидо перед собой и так перестать его бояться. Знаешь, иногда тренируют силу воли, а тут – но она уже так хочет танцевать, что ей лень закончить. Она прыгает, выбрасывая вверх руки.
Могли мы задушить Вилли? Я пытаюсь себе представить, как это могло бы выглядеть. Я бы держала ноги, а Полина – прижимала подушку к лицу. Полина тяжелее и, наверное, сильнее его – крепкая порода: у нее всё крупное – лицо, шея, плечи, грудь, бёдра. Полина красивая и стройная, просто очень большая. Я вижу, как на нее смотрят. Полине это очень нравится.
Таблетка, как обычно, приходит мне не столько в ноги, сколько в голову: мысль начинает бесконечно забираться сама на себя. Я думаю о смерти Вилли, потому что, возможно, сама хотела бы с ним секса (двадцать два, это ж надо), но с другой стороны, мозг может обманывать меня, подсовывать логические конструкции вместо простого, зато настоящего воспоминания. Я думаю себя думающую, и меня начинает немного потряхивать изнутри. Я двигаюсь в сторону, к стене – постоять и попить воды.
У стены на корточках сидит мальчик, который, как только я подхожу, поднимается и говорит мне hallo – я отвечаю ему по-немецки, потому что слышу баварский, ни с чем не спутаешь, акцент. Мальчик хватает воздух ртом, как рыба, от удивления: он симпатичный, черненький (наполовину итальянец? турок?), и ему не больше двадцати, на таких нужно писать “exploring the world, handle with care”. То ли мальчик перекурил, то ли плохо учился в школе, только английский его колдыбает квадратным колесом по пересеченной местности, и я со своим немецким для него, как мама для мамонтенка.
Пока мы с Матиасом обсуждаем, кто откуда приехал и кто где учится (я ему еще и нравлюсь: он осторожно трогает меня за плечо и задерживает пальцы; я не говорю ему про магистратуру, зачем пугать мальчика, для него двадцать и двадцать семь пока только слова), я замечаю Полину. Она подпрыгивает, вертит задницей и тащит в нашу сторону высокого, с нее ростом, и как палка худого парня – русского, как выясняется.
Я ломаю голову, зачем он мог Полине понадобиться; разве что для меня, но я тоже никогда не любила такие потерянные лица – на Матиасе оно еще как-то смотрится, но Андрею лет тридцать пять, – к тому же скоро становится понятно, что он гей. Стесняясь, он спрашивает у Полины, ты давно тут живешь, знаешь, наверное, как тут с гей-клубами, – Полина взглядывает на меня, в глазах у нее какая-то особенная бешеная резвость, мне становится не по себе и хочется ее отговорить, знать бы только от чего.
Когда я всё понимаю, уже слишком поздно, да к тому же все мои силы уходят на то, чтобы сохранять серьезное выражение лица. Полина болтает одновременно с Матиасом и Андреем. У Матиаса она спрашивает, как он добрался, а Андрею объясняет, что здесь у нас уже давно не то, что там у них, отдельных гей-клубов нет, просто геи тусуются везде, вот и всё. Вот, – показывает она на Матиаса, – нравится? Андрею нравится. Я у него спросила, он работает здесь. – В смысле работает? – Говорит, пятьдесят. Матиас бурно рассказывает про то, как он добирался сюда на машинах. Андрей удивлен, но Матиас ему правда очень нравится. Только есть нюанс: если ты отдашь деньги ему в руки, то ему придется платить налог, он тут совершенно бешеный; так что тут делают так: отдают деньги третьему, вот хоть Катюхе, а уж она потом Матиасу, понял? Я тупо беру деньги, пятьдесят евро, и Полина тащит меня в сторону: сейчас вернемся! Bis bald!
Пробравшись через толпу подальше, Полина вытаскивает у меня полтинник, подпрыгивает, зажав его высоко в руке, и победно улюлюкает. Я – ничего не могу с собой поделать – хохочу, складываясь пополам. Филолог тоже может зарабатывать! – кричит она мне в ухо.
Но, конечно, всё это сверхъестественное веселье может быть реакцией сознания на ужас в темноте той дыры, про которую я ничего не помню, – от скручивающего косяк Вилли до дороги к метро. Мне кажется, он там есть, я слышу его хриплое сдавленное дыхание, но его заглушает биение танцпола.
Танец в эпицентре салюта: синие вспышки, оранжевые взрывы, красные гирлянды; на большом, во всю стену экране беззвучно и медленно раскрывается мега-вагина, и зал заполняет туман.
В тумане становятся ненадежны руки и лица: тела разбиты и собираются заново; зеленые лазеры разрезают этот кремовый торт на кусочки, но ничего не освещают, – вероятно, именно так и выглядит бессознательное – всполохи и фрагменты.
Когда туман рассеивается, я трясу Полину за плечо: издалека к нам пробираются наши мальчики – продавец и покупатель. На лице у Полины – та смесь озабоченности и сосредоточенности, которая, кажется, и позволяет ей всю жизнь добиваться чего-то вопреки всему; чтобы принять решение, ей нужно полторы секунды – она хватает меня за руку и тащит к выходу.
Я кричу, что лучше просто отдать деньги – пошутили и пошутили. Вместо ответа Полина показывает мне средний палец – но предназначен он не мне, а двум разъяренным мужчинам, которые наконец чуть-чуть вспомнили английский: сами виноваты.
Пробираться через танцующую толпу весело и трудно – я толкаю девицу, несущую два больших цветных коктейля, коктейли взлетают вверх, к лазерам и огням, – визг и хохот, – и за нами с Полиной закручивается спасительная суматоха. Пахнет сладким потом.
Мы выскакиваем на улицу, пробегаем мимо загородок, в которых до сих пор давятся желающие попасть внутрь. На нас смотрят, но хотя бы не показывают пальцами: видимо, название клуба настраивает на побег из него в ущерб чинному выходу. Я останавливаюсь отдышаться, но Полина тянет меня дальше: погнали!
То ли она видит сзади парней, то ли это так работают колеса, и ей просто хочется бегать – так или иначе, я только за: мы несемся вглубь площади, перескакиваем трамвайные пути, огибаем каменную фигуру того, кто при жизни носил водяную фамилию, перелетаем широкие скамьи – на Краудпляйн тусят, гомонят: люди сидят на парапетах фонтанов, лежат на траве, стоят и ходят, – исполинская фигура Полины не может найти себе места, Полина перепрыгивает через людей и наконец рушится на траву, увлекая меня за собой, подкатывается к парню в шортах и с волосатыми ногами и начинает страстно с ним целоваться, перекатываясь, закатывая его на себя сверху, а меня толкает к другому (другу?), который оказывается африканцем; я впервые в жизни целуюсь с негром.
Краем глаза я вижу две пары ног, пробегающих мимо, но действительно ли это они – и если обманут был один, то почему они гонятся за нами вдвоем, – бог весть. Мои руки ложатся на плечи незнакомого мужчины – во мне шевелится отвращение, но, кажется, я получаю от этого отвращения наслаждение. Могла бы я задушить его? Почему я об этом думаю?
Почему мы говорим о раскольниках? Я пытаюсь понять, как мы на них вышли, и не понимаю. Полина пытается объяснить ребятам про никонианскую реформу (это, типа, как Лютер? – нет, наоборот), – но как вообще могла об этом зайти речь?
Нацеловавшись, она сбросила с себя своего парня и стала хохотать. Потом, так же хохоча, рассказывала про немца и русского (и я ему говорю: я его сутенер, давай полтинник). Ребята – белый оказался высоким красавчиком с широченной улыбкой и разве что слишком низким лбом, а мой – крепышом с очень красивыми мечтательными глазами, – хохотали тоже, потом спросили про полтинник, Полина вынула его и стала им размахивать, как флагом. Дэвид, черный, сказал, что они как раз думали, где взять кэш, мол, его товарищ (он тут где-то, на площади) знает, где взять по дешевке truffes, он может взять на всех, – и Полина не раздумывая отдала бумажку.
Я немного испугалась, всё же грибы не моя чашка чая, но Полина замахала руками, сказала, что я дура и ничего не понимаю, что truffes – это даже не совсем грибы, что кайфа в них всё равно что в кефире алкоголя. Я еще робко предложила тогда лучше выпить, но тут Полина серьезно сказала, что за это штрафуют.
Как бы то ни было, теперь где-то в окрестных улочках нам покупают псилоцибины, а Полина, взбудораженная, как ракета на старте, рассказывает нашим новым друзьям про раскольников. Мы сидим на газоне, скрестив ноги, вокруг гудит ночной город – смех, плеск воды и щелканье фотокамер. Сладкий запах травы щекочет горло, и хочется пить. Дэвид и Свен отвлекаются на телефон – звонить товарищу, спрашивать, как дела, – но Полину не остановить, она переходит на русский и едва не кричит мне: раскольники были правы!
Я слушаю ее, хотя это трудно: украдкой я слежу за Дэвидом – у него спокойные движения уверенного в себе сильного животного, такого, пожалуй, подушкой не задушишь. Они были абсолютно правы – вопрос о языковой норме упирается в вопрос о бытии Божьем! Я чувствую, что нужно хотя бы что-то сказать, чтобы дать понять, что я в теме. Да, говорю я, в начале было Слово, – Полина аж взвивается: именно!
Потому что если языковая норма меняется, и мы признаём это нормальным, то это значит только то, что норма есть вариант ненормальности. И если нет источника абсолютной языковой нормы – нет и быть не может – это значит только то, что Бога нет, – вот что сразу поняли раскольники.
Видимо, это какая-то часть Полининой диссертации, и мне нужно то ли поспорить, то ли что-то еще – но вместо этого я смотрю на Полину, на ее круглое, добротное лицо и полные длинные руки, представляю себе, как я занялась бы любовью с ней, думаю о том, почему я об этом думаю, и моя мысль снова буксует в этой колее. Я говорю, что хочу пить. Дэвид гладит меня по колену, и я не убираю его руку.
Норма есть вариант ненормальности – Полина повторяет это еще раз по-английски для ребят. Дэвид поднимается, обещает найти воды. Когда он уходит, второй, Свен, тянется к Полине, она отодвигается от него и говорит: вообще-то мы пара, – про нас с ней. В подтверждение она целует меня в губы – меня трясет от возбуждения, хотя это стыдно и ничего особенного в ее поцелуе нет.
Дэвид возвращается вместе с гонцом, протягивает мне воду и садится в круг, кинув в центр полиэтиленовый пакет. Мы грызем круглые белые клубни: на вкус как грецкий орех, разве что горьковатый. Свен говорит, что на всех, пожалуй, маловато, Дэвид просит меня передавать воду по кругу. Полина ложится на спину, и ее голова оказывается у меня на коленях. Дэвид шепчет мне что-то на ухо по-голландски, щекочет губами шею – мне смешно, я не могу сдержаться и падаю на траву – что ты ржешь? – хохочет Полина, – я им про серьезные вещи…
Между тем мне, в сущности, страшно за свою шею: для меня вдруг становится очевидно, что нет на свете более хрупкой вещи, чем она.
Полина повисает на мне и Дэвиде и жарко дышит мне в ухо: смотри, Катюха! Мы движемся по тесной улочке, вдвойне тесной от горячих, в основном мужских тел: здесь курят, пьют пиво из бутылок, обнимаются, целуются; в глазах у меня рябит от бритых затылков, накачанных мускулов, крепких обтянутых задниц и нескончаемой вереницы лиц – белых, черных, азиатских, юных, взрослых, красивых, страшных, сладострастных, безразличных, я чувствую, как проскальзывают по мне слегка неприязненные взгляды; Полина в восторге.
Из открытых дверей баров несется музыка, на улицу беспорядочно выставлены высокие стулья, свалены в кучи пакеты с мусором, и неподвижно светят неоновые огни – всё это проплывает мимо нас, будто внутренности затонувшего корабля, я чувствую себя батискафом, и на одну секунду меня посещает страстное желание разбить стенки своей раковины, чтобы стать частью этой экосистемы, поселиться здесь каким-нибудь полипом, актинией, медузой.
А что с илли, кричу я Полине, мы его грохнули? Полина кивает: подушкой задушили. И сбросили в пруд. Она серьезна, но, с другой стороны, это ее способ шутить – с каменным выражением лица. Более того – она может делать вид, что шутит, чтобы не говорить правду как правду. Я пытаюсь разглядеть правду в ее глазах, но это не лучший момент: в глазах у нее – исступленный восторг; возможно, она ловит с клубней что-то, чего не поймала я.
Мы сворачиваем в узкий проход, который даже не назовешь улицей: двигаться здесь можно только гуськом, и с теми, кто идет навстречу, расходиться, прижимаясь к стене. Граффити на высоте спины бледные: вытерты спинами. Нам обязательно идти по самым наркоманским притонам? – кричу я Полине по-русски. А куда бы ты хотела, дорогая? – хохочет она, – отвести тебя в музей эротики? В музее эротики я была в прошлый раз, это очень смешно – примерно как облитый водой пушистый кот. Полина идет вслед за мной, а сразу за ней – Свен. Он спрашивает, почему мы смеемся, – Полина говорит, что мы обдумываем план, как его придушить. Ну и как? – В страстных объятиях, сладкий!
Я распластываюсь спиной по стене, чтобы пропустить пожилую туристическую парочку; они молчат, но что они туристы, видно по глазам – настороженные, заискивающие взгляды выдают их с головой; я чувствую что-то вроде превосходства: всё же я здесь уже не совсем чужая, – и это сладкое ощущение заволакивает всё мое существо. Полина за мной, глядя женщине (большие очки плюс прическа, как сахарная вата на палочке) в глаза, вполголоса говорит ей: cocaine? snow? meth? – и через несколько шагов снова заходится смехом, повторяя вслед за своей жертвой: oh no, thank you so muuuch!
Из трубы мы выходим на шумную, но благочинную улицу: кафе, рестораны, сувенирные лавки, нежный рекламный свет и Брамсовы венгерские танцы. Полине, конечно, захочется здесь устроить какое-нибудь бесчинство, хотя в нашем положении это может быть очень рискованно. Но она может рассуждать и наоборот. Разумеется, это в том случае, если всё, что приходит мне в голову, действительно мое, а не занесено случайно вместе с травой, таблетками или клубнями, как, бывает, вместе с рыбой покупаешь десяток присосавшихся к стенкам ее желудка черных неподвижных червей, и вид их потом долго стоит перед глазами; впрочем, хваленые клубни разве что прибавили мне бодрости, но не более того – возможно, их действительно было слишком мало.
И всё же от греха подальше я обнимаю Полину за шею и стараюсь отвлечь ее разговором, спрашиваю, кто ей больше понравился: Свен или Дэвид. Ты шутишь? Чтобы я еще раз в жизни связалась с ниггером? Меня передергивает.
Вероятно, это иллюзия, но мне кажется, я всё больше погружаюсь в этот эшелонированный каналами город, в его шумы и ритмы, глухие и гулкие, я пропитана запахом стоячей воды, искусана комарами и приучаюсь говорить по-английски с немецким акцентом и наоборот. Меня завораживает прогресс превращения чужого в свое – не это ли имел в виду Гуссерль, когда говорил о месте другого, которое я способно занять, – город, в котором дома стоят чуть косовато, как, бывает, деревья в болотистом лесу, город, по наследству перешедший нынешним пиздаболам от рыцарей беззаветной жадности, он грязь елеем царским напоит, город оранжевых шариков и красных ставней, – я чувствую, как становлюсь кирпичом в его кладке, столбиком на его мостовой, крюком под крышей, опорой моста. Моя медитация имеет целью выход меня за пределы себя, экстатический скачок в незнаемое, дискурс о методе философии приматов. Я – доисторическое растение, хвощ в себе, и я вылезаю на сушу.
Полина вырывает меня из короткого забытья: мы на берегу канала, сидим прямо на мостовой, ребята всё еще с нами, Свен рассказывает что-то про Африку – вроде он там чуть не целый год жил, – и Полина вполголоса говорит мне, что точно с такими же интонациями европейцы рассказывают о России. Африка, говорю я, это вообще инобытие России: Гумилев – Чуковский, львы – медведи, снежной пустыне снится саванна с жирафами. Договорить я не успеваю, сзади нас окликают по-русски: эй, девчонки! Мы оборачиваемся, и хорошо бы было куда-то убежать, но уже поздно.
Полина в восторге: это они, кричит она ребятам, те парни, которых мы натянули в клубе! Кажется, ей особенно приятно, что выдался случай подтвердить правдивость истории про пятьдесят евро. Русский с немцем, впрочем, не выглядят как-то особенно враждебно, они садятся рядом, и я замечаю, как Андрей гладит Матиаса по плечу и тот трогает его ладонь в ответ. Ого, ребята, Полина бесцеремонна, как обычно, так полтинник все-таки даром не пропал! Я объясняю Андрею, что это была дурацкая шутка, но что полтинник мы уже потратили, я могу потом снять с карты и вернуть тебе, оставь телефон. Андрей отмахивается. Мы удивились, что вы убежали из клуба, говорит он, думали заказать выпивки на всех. Они хорошо вместе смотрятся: Андрей, с его рубленым лицом и угловатыми руками-ногами, и Матиас, нежный и мягкий, как девочка-турчанка. Дэвид смотрит на них с неодобрением.
Полина еще раз в лицах пересказывает историю про пятьдесят евро, передразнивая языковую беспомощность одного и другого, получается смешно, причем Андрей – видимо, несколько коктейлей сделали свое дело – находит в себе английского, чтобы уточнять ее рассказ: она мне говорит, очень высокий налог! а я думаю, боже, как тут всё строго!
Я слушаю вполуха, вместо этого я вглядываюсь в огни на набережной – я вижу гармонию этих огней. Их расположение подчинено сложному, но строгому ритму. Группами по три – голубой, красный, желтый – внутри каждой группы вразнобой, они следуют друг за другом гирляндой. Иногда между ними встраивается зеленый, и я думаю о нем как о помехе. Но чем крепче я сосредоточиваюсь на пятнах и цветах, тем больше я понимаю, что никакой случайности тут нет места: всё это самоцветье раскрывается как строгая система, в которой горизонтальные ряды отвечают вертикальным, свою роль играет оттенок цвета и интенсивность огня, которая, опрокинутая в неверную мутную воду, бесконечно усложняется, и величие этого устройства внушает трепет.
Если человек – машина, то есть механизм, то, конечно, не в том примитивном смысле, в котором ex machina показывался бог: есть машины посложнее колесницы. Норма тогда предзадана изначально, коль скоро ты уже не элементарная частица – но нужен ли в этом случае какой-либо бог, кроме бога зеленых деревьев?
Полина опять трясет меня за плечо: Свен зовет всех к себе, где-то он тут в центре живет в сквоте. Полина в восторге: да ладно! все же разогнали уже? – Только не наш. Свен поднимается на ноги, и в возбуждении вслед за ним подскакивают остальные. Дэвид говорит что-то Свену, кивая в сторону Андрея и Матиаса, я не понимаю по-голландски, но чувствую какую-то секундную неловкость, после которой Полина взрывается.
Faggots? Педики, бл…? Грязный потный ниггер! Не давая Дэвиду опомниться, она со всей силы толкает его в грудь руками, и Дэвид спиной летит в воду. Полина не успокаивается: она наклоняется к воде и выкрикивает короткую лекцию о толерантности, которой должны научиться все, кто слез с пальмы и приехал сюда, в gefckte, goddamn, цивилизацию, где их отучили есть бананы и носить юбки из, mother fucker, перьев, показали каждому ass hole, как держать нож и вилку, объяснили, arshloch, что нужно мыться каждый день и много чего еще. Дэвид всё это время барахтается в воде, Свен хохочет, Андрей, который, кажется, ничего не понял, перегибается вниз и протягивает Дэвиду руку.
Полина немного успокаивается и, еще сквозь зубы что-то бормоча, отходит в сторону, Андрей тащит Дэвида, который подтягивается, уцепившись за камень, Андрей вслепую второй рукой ищет за что бы схватиться и хватается за колесо припаркованной машины – «фиат», маленький городской автомобильчик, который, когда Дэвиду удается перевалиться на живот, а Андрей в финальном усилии дергает его с удвоенным усердием, легонько трогается и двигается вперед – машину забыли поставить на ручник (а на передачу здесь почти не ставят).
Где-то в груди сладко щекочет все пять или десять секунд, которые машина чуть слышно шуршит резиной и сначала стучит об угол набережной днищем, а потом начинает кувырок, не успевает закончить его и носом шлепается в воду. Я отираю брызги с лица.
Я слышу одновременно несколько ругательств на разных языках, и яростнее всех кричит Полина. Она не может успокоиться, крутится на месте и бьет воздух кулаками. Свен показывает рукой на мост вдалеке: по нему движется красно-синий огонек полицейской машины. Полина берет Свена за локоть: где твой долбанный сквот? мотаем! Она тащит его, Свен смотрит на нее непонимающе: зачем? мы-то тут при чем? мы никакого преступления не совершали! На лице Полины настоящий ужас, она растерянно оглядывает всю компанию и продолжает тянуть Свена. Преступление не преступление, какая разница, мы все обдолбанные, у нее нет документов, эти двое туристы, кому-то охота объяснять всё это полночи в участке? Она говорит скороговоркой, сдавленно кричит – она в истерике и в высшей степени убедительна, хотя и в самом деле похоже на то, что ее реакция несколько преувеличена по сравнению с произошедшим. Как только эта мысль приходит мне в голову, я хватаю Свена за другую руку и тоже тащу его.
Через секунду мы несемся по тротуару, созвездия и звездные системы огней встряхиваются и перемешиваются, как в шейкере, мы огибаем напуганных прохожих, перепрыгиваем мешки с мусором, за нами валятся несколько стульев, и Полина что-то кричит Свену, с которым она бежит впереди. Он кричит ей что-то в ответ, и они сворачивают в проулок слева. Бежать легко и радостно; перемелькивают вывески, двери, окна, витрины, вертушки с открытками, велосипеды, причем всё это имеет смысл только в том случае, если и в самом деле – это я закончить не могу, – а если нет, то это значит, что Полина просто переусердствовала с веществами; возможно, сама она закинулась не одной таблеткой, а двумя, и плюс еще клубни – может быть, это просто измена. Мы перебегаем через широкую улицу и снова ныряем в узкий полутемный ход, в середине которого Свен открывает желтую грязную дверь, я с облегчением думаю, что мы на месте, но вместо этого мы через еще одну дверь вываливаемся в громадный двор, через который Свен петляет, чтобы не попадать под огни фонарей; нам повезло со штурманом. Из двора мы выходим, открыв решетку, и тут Свен останавливается: теперь будем идти медленно и парами, мы с Дэвидом впереди. На улице тишина и покой, гуляют туристы и под вывеской ювелирного магазина поет длинноволосый гитарист, голосом подражая коровьему американскому выговору. С улицы мы сворачиваем на набережную, и, взглянув вверх, я вижу на небе проблески рассвета.
Свен, скрестив ноги, сидит на матрасе и крутит один за другим косяки – дым толкается по маленькой комнате и выбирается в приоткрытое окно – такое же, как на Станции Крайней, без штор. Край неба в окне незаметно высветляется, но слабо, будто на последнем дыхании, будто поверхность воды затягивает льдом. Наше окно смотрит в неприютность открытого космоса, но внутри светит настольная лампа, она стоит прямо на полу, накрыта красной, гармошкой сложенной бумагой, и гравитация электрического света удерживает атмосферу так, что не страшно. Полина перекидывается незлобными шуточками с уже переодевшимся Дэвидом: где твои vahlenki, мать? – да разбила все, пока ниггеров пиздила, – впрочем, они работают на публику. Свен то и дело отвлекается от косяков, чтобы отсмеяться, Андрей и Матиас, похоже, понимают далеко не всё, но хихикают тоже. Мы сидим и лежим прямо на полу – кроме пары матрасов и стола, мебели здесь нет. На стене напротив меня раскрывает пасть гигантский, даже не уместившийся на всей стене красный дракон.
После каждого взрыва хохота Свен просит – мать, ребята, разбудим Анни, выйдет нехорошо – быть потише, но получается плохо, потише не может даже сам Свен. Анни – твоя девушка? – спрашивает Полина, в ответ на что Свен и Дэвид переглядываются и заходятся смехом. Нет, белая госпожа, она соседка, – говорит Дэвид и передает Полине новый косяк. Спасибо, сладкий, – Полина берет папиросу, прикуривает и передает мне. Поверх колес и клубней трава ложится мягко, почти незаметно.
Полина расспрашивает Свена, чем он занимается (играет в каком-то самопальном, но абсолютно революционном театре), а я изучаю сваленные в углу книги, это почти стандартный набор, который и должен быть у обитателя сквота творческой профессии, – бодяга дхармы и прочая la budda в дешевых изданиях. Многие книги потрепаны, как будто переходили от одного сквоттера к другому вместе с матрасами и столом. Учитывая количество травы (Свен насыпает ее из громадного, в каких добропорядочные граждане носят продукты, пакета), едва ли дело тут часто доходит до чтения. Наконец в тот самый момент, когда Свен посреди комнаты показывает, как двигается какой-то его персонаж (он похож на Адасинского в этот момент, но я боюсь говорить об этом – у них ведь абсолютно революционный театр), все хохочут, дверь открывается и заходит Анни.
Мать, Анни, мы так не хотели разбудить тебя, Дэвид прижимает руки к груди, что ты хочешь, королева? хочешь самый большой на свете косяк? Анни зевает и мотает головой: дайте попить. Привет, она оглядывает всех в комнате, я Анни. – Мы в курсе, говорит Полина, эти ребята, похоже, боятся тебя больше чем полиции, только и разговоров было, чтобы тебя не разбудить.
Анни не просто красива – она бесподобна. На вид ей года двадцать два, и у нее мягкое скандинавское лицо с веснушками – я бы сказала, Исландия, но может быть, только потому, что для этого лица Норвегия или Швеция звучат слишком обыденно: в нем еще много подросткового – скулы, припухлость губ, – и в то же время большими миндалевидными глазами она смотрит так, как могла бы смотреть возлюбленная Катулла на Беатриче, как бы говоря «ты многое теряешь, детка».
Я знаю, говорит Полина, что тебе нужно, тебе нужна таблетка от доктора, она достает из кармана пакет с таблеткой, будешь? Дэвид присвистывает. Спокойно, она только одна и только для королевы! ну так? Анни пару секунд раздумывает: о’кей, говорит, спасибо.
Через двадцать минут Анни уже бодрее всех, она, скрестив ноги, сидит на матрасе, и хор голосов пересказывает ей все приключения дня: прикинь, мы со Свеном сидим на Рембрандпляйн и думаем, где бы вырубить стаффа, и тут прибегают эти бешеные русские, господи, это был настоящий секшуал херрасмент. – Это у них в России такое традиционное развлечение – насиловать черных и потом топить их. – Мать, мы же еще не рассказали тебе!..
Я продолжаю перебирать книги и украдкой наблюдаю за Полиной: она светится наслаждением. Похоже, дело не в наркотиках: тот образ жизни, который она вела когда-то, – она как будто вернулась на несколько лет назад, в свой сквот в Йордане, с посиделками до утра, безудержными новыми знакомствами, когда, встав утром, не знаешь наверняка, чем закончится день, – сама такая жизнь – наркотик. И конечно, коль скоро она вынуждена была отказаться от этой жизни с рождением детей, а детей ей заделал Вилли, то он, получается, и есть тот самый человек, который украл у нее кайф, и то обстоятельство, что сам он при этом не был поставлен перед необходимостью сжечь мосты, не могло не усугубить ненависть к нему. Я снова мучительно пытаюсь пробить стену беспамятства на Станции Крайней, и ничего – я только как будто чувствую, как оттуда подтягивает сквознячок, но не более того. Должны же когда-то закончиться все приходы мира, говорю я себе, в конце концов, воск для нас – прежде всего свеча, Картезий.
В это время Полина пихает меня ногой: что, читательница, вставляет? Я машу книжкой с тушевым Джуан-Цзы на обложке: ага, думаю вот, может, я кусочек воска, которому снится, что он обдолбавшаяся русская девица. – Мне, кстати, Полина подхватывает, всегда казалось, что это глупо и ограничено, подумаешь, бабочке снится Джуан-Цзы, а ему – бабочка. Ясно, что это только основа схемы, что-то вроде борромеева узла, их нужно нанизывать друг на друга: бабочке снится Джуан-Цзы, Джуан-Цзы снится, что он император, императору – что он собачка фаворитки, а ей – что она торговец рисом, она говорит приподнято и сразу всем, но в действительности старается произвести впечатление на Анни, и только, и даже если где-то цепочка возвращается к бабочке, всё равно смысл конструкции в том и состоит, что в каждом конкретном месте она не замкнута.
На небе прочерчиваются блеклые линии облаков, и свет из окна теснит красный свет лампы, дракон на стене как будто наливается кровью. Полина, говорю я по-русски, нам домой не пора? – Катюха, брось, всё там в порядке будет. Я ложусь на пол и слушаю говор, отвлекаясь от смысла слов, просто как шум, мой слух перестраивается так, чтобы слышать в этом шуме музыку – додекафонную сонату, в которую тонкими ручейками вливаются тихий посвист трамвая с улицы, еле уловимое урчание воды в трубах, шуршание полиэтиленового пакета в руках и много чего еще.
Откуда-то взялась гитара, и немецкий мальчик – его имя начисто вылетело из головы – наигрывает на ней что-то меланхоличное, Полины нет, потом он начинает петь, и оказывается, что у него чистый сильный голос, Анни тоже нет, он поет по-английски, хотя и с очень смешным акцентом, что-то, чего никто не знает, хотя, кажется, это Коэн, а может, и нет. Андрей смотрит на своего мальчика влюбленными глазами, Дэвид, кажется, спит, а Свен слегка подвывает, пытаясь угадать развитие мелодии.
Меня немного потряхивает, как будто от холода, хотя скорее всего на самом деле просто холодно. Голое полуоткрытое окно, в которое забираются ручейки утренней уличной сырости, внушает мне отвращение и страх: хочется набросить на этот глаз покрывало и остаться в электрическом свете, как в околоплодных водах. Квадрат безразличного, потусторонней синевы неба недвусмысленно угрожает моей отдельности, я ясно чувствую присутствие центробежной силы, которая готова преодолеть гравитацию я, и тогда с меня полетят, брызнут в разные стороны части конструкции, удерживающей впечатления моей жизни, как с молекулы, которую разгоняют в центрифуге, осыпаются атомы.
Матиас (точно) передает гитару Свену, и теперь поет что-то очень знакомое Свен, со слухом у него проблемы, он, очевидно, знает о них и компенсирует их нарочитым артистизмом, получается скорее смешно, но кажется, он рассчитывает на такой эффект. У Матиаса в руках оказывается губная гармошка, и он частично спасает положение. Дэвид, оказывается, не спит; не поднимаясь с пола, он прижимает к животу маленький барабанчик и легонько похлопывает по нему ладонями. Меня охватывает беспокойство, когда я смотрю на него с барабаном.
Я встаю и выхожу из комнаты, никто не обращает на меня внимания. В коридоре полутьма, но это электрическая полутьма, здесь мне становится лучше. Желтый свет – из кухни: здесь пусто и грязно, чашки со старым кофейным осадком и коричневые круги на столе, просыпанные макароны и мятые рекламные проспекты. Кухня глухая, окна нет, но есть дверь в ванную. Звуки гитары и губной гармошки доносятся досюда милосердно смягченные. Выйдя из ванной, я думаю, не пересидеть ли здесь, но потом всё же возвращаюсь в коридор. Двери похожи друг на друга, и я немного в них путаюсь, и толкаю какую-то одну, и, только толкнув, понимаю, что опять обманута: ведь нужную дверь легко было определить по звукам музыки, а это другая дверь, и нужна она мне только потому, что я ожидала увидеть за ней то, что и вижу, – в комнате без электрического света, с таким же голым окном, залитой холодным уличным небом, на полу среди цветных пуфиков, подушек, тряпок, одежды целуют и ласкают друг друга Полина и Анни.
На Анни уже нет одежды, и бросается в глаза бесстыдное совершенство ее тела: мягкость плеча, точная линия талии и идеальная соразмерность бедра, закинутого на ногу Полины. Джинсы у Полины уже расстегнуты и стянуты до середины задницы. Анни что-то ворчит по-голландски, и я закрываю дверь, чертовски холодно, все-таки это, вероятнее всего, от голода.
Я снова прохожу по полутемному коридору, рядом с входной дверью кое-как вповалку лежит разномастная обувь и стоит прислоненное к стене зеркало, в котором я вижу свое тело, и оно кажется мне подозрительным, как будто это не могу быть взаправду я, и к тому же оно слишком большое и неловкое. Я бесшумно открываю дверь, выскальзываю на лестницу и так же мягким медленным движением бесшумно прижимаю дверь к косяку, язычок всё же щелкает чуть слышно, спускаюсь по узким, как лифтовая шахта, пролетам, вниз, где уже совсем холодно, и из-под щели внизу рвется яростный уличный блеск, сердце неритмично колотится, я хватаюсь за ледяную дверную ручку и резко распахиваю дверь, парадную мгновенно доверху заполняет бледно-синий свет, хлещет по ступеням и накрывает меня с головой. Задыхаясь, я шагаю вперед.
Сильный ветер режет кожу лица; сияние нездешнего неба прорезывает город: утро. Я слышу запах пекущегося хлеба и пунктиром с ним – гнилой воды. По другой стороне улицы катит скрипучий велосипед пожилая женщина с морщинистым лицом. На мгновение я становлюсь этой женщиной, это я встала сегодня ни свет ни заря, позавтракала круассаном и белым кофе, проверила, не написали ли внуки, почту, выкатила из подъезда велосипед, пощурилась на небо, застегнула куртку и покатила на смену, и мне хорошо и спокойно, размеренность и ощущение собственного тела доставляют мне чувственное наслаждение, и на девушку с кругами под глазами, вышедшую из двери напротив, я смотрю с удовольствием, потому что в этом, без сомнения, также есть своя размеренность, юности подобает тратить ночи впустую, колёса мира крутятся ладно, зубчик цепляется за зубчик. Велосипед сворачивает.
Улица продолжается мостом, но я прохожу по похожей на книжную, с домами-книгами, полку набережной и сажусь на корточки под каштаном. В воде хозяйничают утки, за моей спиной хлопает на ветру флаг над дверью закрытого бара, и снова шуршит велосипед. С той стороны канала статная мамочка сажает в машину двух заспанных детей, и девочка, постарше, с распущенными соломенными волосиками, капризничает, мамочка меня уговаривает, просит потерпеть, зато мы быстро-быстро долетим и сегодня вечером уже будем купаться на пляже, хочешь купаться? – я хочу взять с собой тигра! – солнце мое, а ему там будет жарко, на море, и купаться он не любит, давай он нас здесь подождет? А там мы купим тебе дельфина. Я соглашаюсь на дельфина и сажусь в кресло, мама меня пристегивает. Я мечтаю о том, как буду играть с дельфином, и еще замечаю, что мамочка очень-очень красивая, и мне хочется что-то сказать об этом.
Я встаю и возвращаюсь к мосту, перехожу через него и снова иду по улицам. Пузырь неба медленно наливается, и ветер пригоняет на него несколько маленьких круглых облачков. Справа открывается дверь, и я выхожу из парадной, поправляя на ноге блестящую лакированную туфлю, рассматриваю ноготь на безымянном пальце, пока ничего, но завтра нужно обязательно в салон, я цокаю каблуками по мостовой, незаметно посматривая на свои отражения в витринах. Дойдя до площади, я толкаю стеклянную дверь булочной и, взяв маленький кофе, воду и конвертик со шпинатом, сажусь за столик у окна. Я разворачиваю большой отсвечивающий на солнце каталог, чтобы успеть обязательно изучить его перед встречей, аккуратно отпиваю кофе и смотрю на площадь, которая начинает заполняться выходящими с вокзала туристами, продавцами карт и магнитиков на холодильник; поднимаются роллеты и со звоном колокольчиков распахиваются прозрачные двери, плавно скользят трамваи, и наконец становится жарко.
Город гомонит, трезвонит, хохочет. Он кипит медленно, как густая раскаленная каша. Толпы перетекают из улицы в улицу, заполняют набережные, сходятся на площадях, вспухают и опадают, стучат вилки и ножи, играют гитары и барабаны, урчат моторы катеров, в каналах бьются неразборчивые отзвуки экскурсий, лает собака, и в эпицентре жары снова поднимается ветер. Он начинается как легкое утешающее поглаживание, но почти сразу становится крутым и резким, как хлопок хлыста. В небе теснятся низкие серые тучи, первые капли ударяют в пыльные камни, толпы в смятении и весело ищут дождевики, зонты, козырьки ресторанов и сувенирных лавок, входы в музеи и храмы.
Я прячусь от штормового ливня вместе с группой шведских школьников в дешевом общепите и в компании руководителей компаний в ресторане на шестом этаже стеклянного новодела, и, обернутая в холодный полиэтиленовый мешок с капюшоном, кручу педали, разбрызгивая воду передним колесом. Я выхожу из укрытий, когда дождь перестает, и топчу лужу резиновым сапожком, подсматривая за родителями, хохоча вместе с ними, перехожу из магазина в магазин, легонько проводя пальцами по ребрам вешалок с платьями, рубашками, футболками, рассматриваю в витринах кольца и серьги, я продаю тюльпаны и рододендроны на цветочном рынке, разглядываю луковички и ахаю, глядя на цены.
Небо, прокашлявшись, разгорается вечерним пожаром, и я спешу прочь из закрывающихся музеев, офисов и торговых центров. Я располагаюсь на мостовых смотреть фокусы и кукольные представления, в тихих кофешопах и пивных барах, в кофейнях и джаз-клубах, еду домой, ворча на зазевавшихся туристов, затаскиваю велосипед в вагон метро, тороплюсь в театр и на концерт. Я не успеваю заметить, как стемнело – зажигаются гирлянды фонарей и ряды вывесок, разверзаются жерла ночных клубов, и хихикающая толпа как бы между делом растекается по улицам с горящими красным витринами в полный рост. Пахнет гнилой водой, марихуаной, потом, духами и палеными волосами. Я сижу привалившись к стене в алкогольном угаре, пою хором, вскакиваю на скамью, когда наши прорываются к воротам, кручу винил на возвышении перед тысячной толпой, продаю толченый аспирин под видом кокаина, смотрю телевизор перед сном.
Мелькают огни, и все шумы смешиваются в однотонный гул. Я захожу в комнату, тщательно крашу лицо и переодеваюсь в белое белье. Смотрю на себя в зеркало и щелкаю языком. Глотаю кофе из термоса, прячу сумку с вещами в шкаф, отдергиваю штору и сажусь на высокий барный стул. Томно и даже слегка надменно, иначе мышцы лица быстро устают, осматриваю прохожих. Напротив меня останавливается большой темнокожий мужчина, рубаха расстегнута, галстук в кармане. Я открываю ему дверь, он колеблется и, будто подталкиваемый озорными взглядами прохожих, заваливается внутрь. Я задергиваю штору. Разумеется, я знаю, что делать дальше.
«Ча-ща» пиши с буквой кровь
Владимир Соловьев
- Заранее над смертью торжествуя
- И цепь времен любовью одолев,
- Подруга вечная, тебя не назову я,
- Но ты почуешь трепетный напев…
Марку подарили на день рождения фотоаппарат, но не такой: не цифровой, а пленочный; в него нужно было заряжать – папа так и сказал: заряжать – пленку, а потом – там была еще целая коробка вместе с ним – разводить раствор, проявлять, промывать, закреплять, печатать. Это Марк говорил, что мечтает быть фотографом (он другое имел в виду, ему хотелось тоже фотоаппарат, как у всех, но пришлось соответствовать).
Хочешь быть фотографом, – это папа сказал, а Марк потом как само собой разумеющееся говорил всем в школе, – научись сначала проявлять, печатать, всё руками, сам, чтобы понять процесс изнутри, а потом уже… – в школе слушали со скепсисом, но все-таки уважительно кивали: антиквариат.
Проявлять и печатать оказалось трудно, но не чересчур – уже к концу августа Марку удавалось зарядить бачок так, чтобы пленка не слипалась, подобрать температуру раствора и засечь время так, чтобы не перетемнить негатив, и его стал по-настоящему завораживать момент, когда в слабом красном, как рубин, свете, на белой бумаге из небытия, из прошлого, которого теперь нет, медленно, будто преодолевая сопротивление листа, проступали вещи, люди, тени – воробей, присевший на спинку скамейки, наклонивший голову вниз и вбок (уже испугался, но еще не улетел), или вода, текущая из трубы, когда дождь уже закончился, и маленькое кристальное озеро в асфальтовой чаше кипит, расходится дергающимися кругами, или мама, обернувшаяся от стола: Ма-арк! кушать! господи, ты меня напугал (смазано), – они были, несомненно, теми же самыми, но в то же время другими, потому что нигде в жизни не встретишь ее обездвиженности, и тем больше движение взывало к себе.
На второй неделе сентября Марк сфотографировал в школе девчонку – она сидела с ногами на подоконнике, уткнувшись в книгу, шел первый урок. Он спросил, можно ли, она приподняла плечо и поджала губу – ему понравилось, как солнце просвечивает раковину уха (розовую, точно кусочек каменной соли, который папа привез ему из последней экспедиции), но кадр, конечно, оказался засвеченным; он проявлял пленку на выходных, решил всё же напечатать – снимок ни к черту, но вот что: Марк был абсолютно уверен, что большого, в тени под книгой неразличимой формы перстня на среднем пальце ее правой руки не было – быть не могло, он бы его заметил.
Это ведь не в одну секунду произошло. Марк прекрасно помнил, как сначала смотрел, оценивая, что может получиться, потом соображал, как спросить – решил все-таки вежливо: на «вы» и с «извините», – потом расчехлял, не спуская с нее глаз, камеру, потом примеривался, а еще обещал подарить снимок, спрашивал, в каком она классе учится (в параллельном), и, не зная, как закончить разговор, сказал: что, не пустили? – ага – ну ладно, я побежал. У нее было выточенное как будто из камня лицо с высокими скулами, маленький рот, большие, чуть раскосые глаза, завязанные высоко, почти на макушке, в пучок чернущие волосы и длинные худые пальцы – на этих пальцах не было колец, она заправляла ими за ухо выбившуюся на висок прядку волос. Он обернулся на нее еще раз, когда отошел на несколько шагов: она уже уткнулась обратно в книгу (задняя сторона обложки была пуста), и он очень хорошо запомнил эту картинку, потому что подумал, что, наплевав на ухо, нужно было снимать в фас – все-таки против света он пока снимать не умел.
В понедельник Марк спросил у Бори – единственного пока, с кем в новом классе он общался, – знает ли он девчонку из восьмого «А»: черненькую, глаза раскосые, – тот не знал. А что? – Да фотку обещал подарить. – Они там в «А» долбанутые все. Покажи фотку.
Марку не хотелось показывать фотографию, и он соврал, что оставил ее дома. Он и девчонке не собирался показывать снимок, но нужно же было проверить, что там с этим перстнем – может, он и в самом деле его не заметил. Пришлось смотреть по расписанию, где у «А»-класса биология, и мчаться после последнего урока со всех ног этажом ниже – и сбить на лестнице какого-то верзилу (эй, мелкий! – но бегом-бегом вниз), – чтобы успеть к моменту, когда дверь отвалится вбок и в коридор сначала выпихнутся буйные, потом выйдут остальные и выползут, наконец, сонные, – чернявой с раскосыми глазами и худыми пальцами не было ни среди первых, ни среди вторых, ни среди третьих. Пара девчонок посмотрели на него, заинтересовавшись его ищущим взглядом, но подойти спросить он не решился.
Он увидел ее на первом этаже под лестницей – она шла из туалета, Марк, стесняясь, сделал вид, что не обратил на это внимания. Она не помнила, но сразу вспомнила; он сказал, что кадр засвечен, она ответила: ясно, и тогда он, хотя вообще-то не собирался, это ему только что в голову пришло, предложил, что, может быть, он ее пофотографирует (с интонацией профессионала: у вас лицо интересное, – но уши и руки всё равно выдавали его, конечно). Она сказала: ну давай потом как-нибудь, и он только успел спросить, как ее зовут, прежде чем она вставила в уши белые пуговки, – Полина. У нее были очень красивые пальцы, и на этих пальцах, ни на одном, не было колец. А я Марк, – слышала ли? Даже следов не было.
Сентябрь был как будто вторым августом – он длился и длился; жаркий сухой город иногда, в самые тихие моменты, казалось, гудел от усилия удержаться накраю осени; так было по утрам, когда Марк выходил на пустую набережную Карповки и впереди, у монастырского подворья, переговаривались утки, а сзади ровно шумел Каменноостровский, – появлялся звук, не относящийся ни к какому движению, гул в ушах, было еще не изнурительно жарко, но чистое, лазуритовое, от края до края небо накалялось с каждой минутой; и так же было вечером, когда мама отправляла Марка на хлебозавод, и он переходил из одного двора в другой, пересекая узкие, как коридоры, улицы, – скрипели качели, и женский голос протяжно кого-то, не то Ваню, не то Васю, звал, и в неподвижном упругом воздухе дрожал тот же гул; Марк иногда задерживал дыхание, чтобы лучше слышать его.
Засвеченный снимок Марк держал в отдельном конверте в ящике стола и доставал его, чтобы еще раз всмотреться, перед сном – в конце концов он пришел к выводу, что пленка могла поцарапаться в бачке, или, может быть, пока пленка сохла, на нее что-то налипло, а уж что брак похож на массивное, как будто с какой-то фигурой, кольцо, не более чем случайность, эффект, бывают ведь похожи облака на корабли или на великанских птиц. Тем не менее он собирался как-нибудь невзначай спросить Полину, не носит ли она колец, и камеру теперь брал всё время с собой не только потому, что это первое правило настоящего фотографа, но и на случай, если встретит ее – она ведь тоже жила где-то рядом. Марк снимал облупленные брандмауэры, которые напечатанными выглядели как геометрически отрезанное небо, разомлевших на горячих карнизах кошек, а один раз даже незаметно щелкнул в открытое окно старика под вывеской «Ремонт обуви» – он согнулся над работой, и красноватый вечерний свет выхватывал его большое лобастое лицо из кружащейся пыли, из желтой темноты, как на картинах Рембрандта, – но, возвращаясь домой, всегда оставлял несколько кадров: а вдруг? Он видел Полину несколько раз мельком в коридорах школы и только слегка кивал ей: подойти вот так сразу было бы стратегически неверно – нужно недельку подождать и потом как бы вдруг об этом вспомнить.
Через неделю Марк потерял Полину из вида: ее не было. Она не появлялась случайно в коридорах, ее не было в столовой, после уроков она не выходила на улицу, и Марк два раза сбегал со своих уроков, чтобы сидеть на подоконнике напротив двери, за которой занимался ее класс, и после звонка рассеянным взглядом косить на выпихивающихся, выходящих, выползающих, – Полины не было.
Утром в пятницу – это была последняя пятница сентября, но сентябрь как будто об этом не догадывался: солнце красило чиновный гранит в нежный благородный берилл, готовясь снова расплавить воздух (про аномальную осень говорили уже даже по телевизору), – Марк примеривался тайком снять идущую по краю тротуара согнутую пополам старушку, когда сзади зазвенело привет! – он чуть не подпрыгнул. Это была не она, хотя в первую секунду Марк был в этом уверен – кто же еще? – но лицо было знакомое: ее одноклассница. Ты ведь новенький? Из «В»-класса? Они пошли дальше вместе, девчонка – Марина! а тебя? – расспрашивала, что это он всё снимает, и Марк нехотя объяснял, что учится только, толком не получается пока – говорить ему было легко: с не такими уж красивыми девчонками ему всегда было легче. Наконец в неловкости паузы он, как бы для поддержания разговора, спросил: ты ведь с Полиной учишься? с черненькой такой? И Марина ни секунды не раздумывая ответила: ага, вот не повезло, да? – А что? – Да она же больная, над ней вся школа смеется. А мы как будто виноваты.
У Марка сразу спутались слова и тяжело задвигался язык, но все-таки он промямлил, что обещал ей отдать одну вещь, отдать бы да забыть, но что-то не видно ее.
Фиг знает, заболела вроде. Марина сказала это после короткого молчания и несколько высокомерно – так что Марк стал рассказывать про старую школу, а еще про новую квартиру, из-за которой школу пришлось сменить. Когда они дошли, ему показалось, что доверие удалось немного восстановить, – во всяком случае, на прощание Марина улыбнулась и один раз согнула ладошку пополам, прежде чем прибиться к девичьей стайке под лестницей.
Третьим уроком была физкультура: бегали в соседнем сквере. На бегу солнце часто перемигивало через плотную, как плетеная корзина, малахитовую листву, и Марк думал, как бы сфотографировать это мелькание – он знал, что это возможно, только непонятно было, как именно. Он, как и все, срезал угол в дальнем краю сквера, у детской площадки, на которой не было детей, и оттого еще сильнее хотелось забраться на горку и скатиться по оранжевой спиральной трубе. К четвертому кругу бежать стало тяжело, ухало в голове, бег превратился в дергающуюся ходьбу. Площадку пересекала сгорбленная старуха – она как будто всем туловищем тащила за собой остальное тело, волочащиеся ноги и раскачивающуюся тряпичную авоську, которую держала двумя руками за спиной. Марка замутило: из авоськи, оставляя за старухой пунктирный след, капала на песок площадки кровь. Он загадал, что если старуха не успеет уйти, пока он бежит еще один круг, если он увидит ее еще один, третий раз – потому что это была та самая, которую он так и не снял утром, – то он выяснит, где живет Полина, и навестит ее: в конце концов, если она болеет, и ее так не любят в школе, то кто же тогда ее навестит.
Решив так, Марк старался дальше бежать не быстрее и не медленнее, чем раньше, хотя физрук, бодрый дядька в пластмассовых очках и пузырящихся на коленях спортивных штанах, прихлопывал ладонями: давай-давай, чего плетемся! На проспекте прорычала фура и оставила за собой перегарный запах, от которого слегка тошнило. Добежав до площадки, Марк увидел старуху, присевшую на скамейку отдохнуть: авоську она поставила на землю рядом с собой, и там растеклась уже маленькая, похожая на срез агата лужица. Старуха смотрела прямо перед собой, мимо Марка, на лице ее двигалась тень от листвы.
Узнать адрес оказалось легче легкого: Марк просто зашел в учительскую и сказал Екатерине Львовне, русичке, что брал у Полины книгу, а вот теперь она заболела и он хочет вернуть, вдруг она ей нужна. Екатерина Львовна перекатывающим движением положила одну ногу на другую, раскрыла журнал и продиктовала адрес: Марк давно заметил, что вызывает почему-то доверие у женщин возраста примерно своих бабушек. У всех, впрочем, свои закидоны. Екатерина Львовна, прежде чем достать с полки журнал, спросила, как писать «жи-ши».
С буквой «и». – Молодец. А кто у тебя родители? – это уже листая страницы. Папа геолог, а мама искусствовед. – Тогда понятно.
Гатчинская улица, на которой жила Полина, в субботу днем была пуста, только на противоположной стороне гулял мужчина с собакой – он останавливался, слегка откинувшись назад, когда его собака бросалась к очередному кусту, и смотрел наверх: в синем, как газовое пламя, небе свернулись белки облаков. Марк нашел предыдущий дом и следующий: ничего не оставалось, кроме как признать, что двухэтажная пристройка без номера и есть то, что ему нужно. Пристройка была – семь шагов в ширину и четырнадцать – в глубину; вход в нее обнаружился с обратной стороны, в довольно темном углу. Звонка было два: рядом с нижним крепилась скотчем бумажка с отпечатанными словами «ЗАО НПО “Объединенные лесные заготовки”», верхний был просто звонок.
Марк долго ждал и подумал даже, а работает ли звонок вообще, но дверь всё же коротко пикнула, он вошел и уже через мгновение оказался в кромешной тьме. Марк вынул из кармана телефон, нажал на кнопку, и бледный свет экрана выхватил очертания лестницы; только поднявшись на половину пролета, Марк понял, насколько здесь еще и холодно – намного холоднее, чем на улице. Наверху ему открыла девочка лет восьми – в джинсиках и футболке, с распущенными волосами по плечи. Девочка шмыгала носом; Марку против света плохо было видно, но по тому, как она чуть закидывала голову, и по темным полосам на тыльной стороне ладони он понял, что у девочки не сопли, а носом идет кровь. На мгновение ему показалось, что мама, наверное, была права, и у него все-таки температура, его немного повело, но он спросил: Полина здесь живет? – Ее сейчас нет. Гоос у девочки был низкий и тихий. Понятно. Марк думал буквально секунду, потом сказал: Я ей подарок принес, фотографию. Запустил руку в сумку, выудил наугад одну (вид на запад с Карповского моста) и протянул. Только дай мне какую-нибудь монетку, так просто – плохая примета дарить. (Это он про ножики слышал, но чем фотография хуже ножа, о нее, в конце концов, тоже можно порезаться.)
Девочка исчезла за дверью буквально на мгновение, но Марк вынул фотоаппарат из чехла, спустил затвор и спрятал обратно еще быстрее. Протягивая ему монетку, девочка другую руку прятала за дверь (надо думать, совсем измазала); у нее были те же обсидианово-черные, как у Полины, глаза, но на этом лице они казались чем-то противоестественным.
Обратно Марк старался идти по солнечной стороне, но всё равно его немного знобило, как после чего-то постыдного, что настойчиво лезет в голову: девочка, судя по всему, девочкой вовсе не была, а была взрослой карлицей, иначе откуда этот голос и этот взрослый взгляд. Снимок он надеялся увеличить и получше рассмотреть, что там внутри квартиры, куда его не пустили. Но кадр не был даже засвечен, он был просто бел; печатать было бессмысленно, но Марк напечатал – черный лист бумаги.
Всё воскресенье мама осторожно трогала Марку лоб, а утром в понедельник заставила померить температуру и позвонила классной: Марк заболел. День Марк пролежал в постели (на стол мама, уходя, поставила графин апельсинового сока, воду, какие-то таблетки – бутерброды в холодильнике), то засыпая, то просыпаясь, то просыпаясь из сна, в котором он вставал, шел в школу и видел там Полину, она на него не смотрела, но ему становилось страшно, когда он вдруг замечал, что на пол с нее стекает кровь, и почему-то черная, вставал, брал фотоаппарат, снимал окно и комнату родителей, но фотоаппарат не работал, щелчка не получалось, он жал и жал на спуск со всё возрастающим нетерпением и ужасом, но просыпался и из этого сна, пил отстоявшийся сок и жевал холодные бутерброды, болела голова, и он потел так, что простыня промокла насквозь, пытался читать («Мифы народов мира» – папа сказал освоить к его возвращению), но к каждой новой строчке забывал, что было в предыдущей, наконец он собрал с полки коллекцию подаренных папой камней, положил их рядом с собой на подушку и заснул крепко и спокойно, а вечером вернулась мама и сразу вслед за ней позвонили в дверь две девочки: одна из них была одноклассница, Динара, а другая – Марина.
Динару отправила классная – рассказать, что проходили, а главное, дать понять Марку, что мы переживаем, – Марина прибилась за компанию – просто так; мама дала девочкам чаю, и они ушли; уходя, Марина сказала: кстати, Полина выздоровела, ты же хотел ей что-то отдать, хочешь, я передам? Марк протянул «Мифы народов мира». Перед сном Марк попросил маму поставить горчичники (что это с тобой? обычно не заставить) и выпил по две таблетки каждой, которой нужно было по одной, и все-таки на утро он был еще слишком очевидно болен. Только через день он вынул градусник, пока ртуть не успела доползти до красной точки, и убедил маму, что здоров, как крокодил! – почему как крокодил? – потому что крокодилы не болеют (потому что ты же любишь, мама, небанальные сравнения).
На улице было жарко или это была температура, сухо, кружилась голова, октябрь прикидывался сентябрем или это продолжался бесконечный, сорвавшийся с оси август, вяло пошевеливались пыльные листья кустов, грузовики на Чкаловском поднимали за собой столбы дорожного праха, цвета домов, детских площадок, вывесок были воспалены или это был эффект головной боли, Марк расстегнул куртку, но пока дошел до школы, всё равно вспотел. Полина стояла у гардероба и смотрела на него в упор. Когда он подошел, она протянула ему «Мифы народов мира» и спросила, сколько у него уроков. Марк сказал, что шесть. Хорошо; тогда здесь же после шестого. Она ушла, Марк еле запихнул книгу в друзу рюкзака. Ее лицо после болезни стало острее, как будто кости готовились прорвать его тонкую пленку, а гематитовые кристаллы глаз, плавясь, должны были затопить его целиком; глядела она недружелюбно, а может быть, взгляд у Марка немного рябил, когда он из слепящей солнцем улицы зашел в полутемный школьный гардероб.
Уроки тянулись бесконечно; на переменах Марк раскрывал книгу и смотрел в нее, чтобы можно было от любого вопроса отделаться носовым мх-хм, но читать не мог: мир как будто медленно заворачивался в одну сторону, как густое тесто, вещи и слова смещались, и то, что занимало мысли Марка, – это нельзя ли как-нибудь это ощущение, что время сдвинулось относительно пространства, рассогласовалось с ним, – зафиксировать, схватить в четырехугольную рамку кадра. На русском Марк невпопад ответил на какой-то вопрос «с буквой “а”» – ему казалось, что это правильный ответ, но, видимо, это был правильный ответ на предыдущий вопрос, – и класс захохотал; Динара, откинув вьющуюся прядь за проколотое ухо, громко сказала, что он же болел, дураки, классная отчитала Динару за дураков, и Марк ловил себя на легком чувстве благодарности Динаре, но больше удивлялся тому, что его сознание как бы с запаздыванием неустанно регистрировало, что вот он сидит на уроке и слышит, что все говорят, и видит, как смотрит в окно пухлый пипконосый, кажется, Глеб, как наклоняется к соседке высокомерная Надя, и как при этом на сантиметр отодвигается бретелька ее платья, и множество других вещей, которые не имеют к нему никакого отношения; ему хотелось вернуться домой к камням и книгам, но он не мог уже не встретиться с Полиной (чтобы понять, – говорил он себе; но что именно понять? – в этом месте мысль регулярно сбивалась на что-то другое) – это желание было сильнее любого другого.
После шестого урока в гардеробе рядом с ним оказалась Марина: ты уже выздоровел? не может быть; да нет, я же вижу, ты еще болеешь, ты чего, с ума сошел; проводить тебя домой? Марк мотал головой, не спорил, чтобы она поскорее ушла, но в то же время чувствовал благодарность и хотел ей сказать, что она хорошая, только боялся, что тогда она точно не отцепится. У дальних шкафчиков он увидел прислонившуюся к стене Полину, она смотрела прямо на него и, когда увидела, что он ее заметил, отвернулась и пошла к выходу. Тогда он затащил рюкзак на плечо, тронул Марину за руку, спасибо, пока, и пошел вслед за Полиной; Марина, стрельнув два раза глазами, сказала ему вслед дурак – с обидой, конечно, но эта обида была производной искренней заботы, Марк понял это.
Он догнал Полину за углом, уже во дворе, где гуляла с коляской утомленная взрослая женщина и две старушки на скамейке перешептывались, поворачивая головы в разные стороны. Дойдя до сквозной, на Левашовский, подворотни, Полина остановилась в тени и повернулась к Марку. Секунду она смотрела на него, ее лицо было близко, и Марк вдруг понял, что оно некрасивое, в сущности, это лицо, вытянутое, как со страницы маминого альбома про средневековую живопись, а потом сказала: не делай этого. Марк оторопел, но переспросить не успел; прежде чем он придумал, как продолжить разговор, переспросила она: понял? И Марк вынужден был, даже против воли, или это опять сместилась какая-то секунда, ответить: понял. Полина опустила лицо и, прежде чем развернуться и исчезнуть в подворотной глубине, подняла глаза и сказала: спасибо за фотографию, красивая. Марку захотелось спрятаться куда-нибудь, и всё же он был уверен, или это ему показалось, – что в этот последний момент во взгляде ее было что-то вроде живости, как бывает, когда поворачиваешь нешлифованый гематит, внутри загорается и тает красноватая жилка.
Мама снова оставила Марка дома – градусника никакого не надо, и так всё видно; давай-ка выздоравливай к папиному приезду (в воскресенье должен был вернуться папа), – но, когда она ушла, Марк оделся и вышел из дома. Он придумал какой-то повод – кажется, закончился лимон, купить, – и забыл о нем, оказавшись на улице. Изнемогающий от жары город плавился всеми цветами радуги, в воздухе висела взвесь песка и пыли, из опущенных окон машин неслась восточная музыка, в монастыре били колокола, во дворах пили теплое пиво мужчины с фиолетовыми лицами, в подворотнях приходилось задерживать дыхание, Марк не мог додумать ни одну мысль, они плавали в его сознании, как хлопья свернувшегося молока, то ему казалось, что он уже развернулся и идет в сторону дома, то – что сегодня ему попадается слишком много красных машин; иногда он поднимал фотоаппарат и снимал – створ улицы без единой тени, хищных голубей над звездной россыпью пшена, рыбу, валяющуюся на тротуаре (кошка напряженно ждала, пока он настроит выдержку), – стараясь запомнить, как всё это выглядит, чтобы сличить потом с тем, что окажется на снимке. Оказалось, что всё это время он кругами и зигзагами шел на Гатчинскую улицу, где издалека еще заметил у двух этажного грязно-желтого дома суету: перемигивала «скорая», стояли люди, из полицейских машин выходили, поправляя фуражки, люди в форме. Никто не обратил внимания на Марка, и он прошел во двор. Там тоже стояли люди – женщины с волнообразными складками животов, мужчины в тапочках, раскуривающие ядовитые сигареты, старики в старых пиджаках, – они переговаривались, переминались с ноги на ногу, поворачивали головы за лениво проходящими из машин во двор и обратно полицейскими, и всё время отскакивали взглядом от железной двери, прямо под которой, наискосок перерезанное тенью, темнело и отсверкивало крупное и похожее на изогнутую Африку пятно крови. Марк немного постоял рядом с двумя толстыми женщинами, одна из которых аккуратно поставила у каждой ноги по пакету с торчащими из них упаковкой яиц справа и макаронами слева, – он не прислушивался специально, но слышал: из разговора было ясно, что вроде бы убили – ну или сама упала? это еще постараться надо так упасть, чтобы всю голову разбить – старушку – Нина Михайловна, кажется, она, вот которая недавно-то переехала – маленькая такая, что ли? Марк достал фотоаппарат и сфотографировал металлическую дверь с лежащей под ней косой тенью; и как-то не укладывалось в голове, что это та самая дверь, в которую он уже заходил, за которой на втором этаже жила Полина.
Дома Марк осторожно вынимал из ванночки тяжелый и гибкий лист бумаги, стекал раствор, капли собирались внизу снимка, срывались и падали обратно в ванночку, Марк подносил снимок близко-близко к глазам, было плоховато видно в темном свете лампы, постепенно взгляд фокусировался, и становилось понятно: вот рука тетки с пакетами, вот стряхивает пепел полицейский, вот тень от провода наверху, и дверь, и тень, чистый выщербленный асфальт, но лужи крови нет, вообще ничего нет, Марк ронял снимок в ванночку, тянулся за ним, падал и оказывался в воде, пытался кричать, барахтался и – с сорванным от ужаса дыханием – проснулся. Мама еще не возвращалась, Марк, хотя стены ходили ходуном, разложил вещи как они были, важно было, чтобы мама не догадалась, выпил полтора стакана сока, больше не смог, и остальное вылил в унитаз, вместе с таблетками, побоялся, что вырвет, когда он начнет запивать их водой. Ключ в двери завертелся, как раз когда Марк лег обратно под одеяло, кажется, даже еще не затихла в туалете вода, мама потрогала лоб, дала градусник – как ты? – почти уже хорошо – молодец (это уже кивая на пустой графин), но, дойдя до кухни, ахнула (и наверняка прижала руки к груди, всегда так делала): Ма-арк, а ты почему ничего не съел? Марк неслышно и зло чертыхнулся и сказал вслух просто, буднично: не хотелось, мама; нет аппетита; лежать целый день – откуда ему взяться. Пока мама переодевалась, он переложил закладку в «Мифах народов мира» на двадцать страниц вперед и стряхнул градусник до тридцати семи и двух, чтобы было хоть как-то правдоподобно.
Хитрости всё же не помогли: утром Марк уговаривал маму, что он здоров, хорошо себя чувствует и может пойти в школу, что надоело лежать дома, но маму было не переспорить – в воскресенье возвращается папа, и Марк, пожалуйста, давай выздоровеем к папиному возвращению, хорошо? – Марк остался дома. У мамы была всего одна лекция в середине дня, и она уехала, сказав, чтобы он поспал, пока ее не будет, пару часиков – заеду в магазин, куплю тебе чего-нибудь вкусненького; чего ты хочешь? Марк из-за занавески выглянул посмотреть, как мама выезжает: ее машина осторожно проклюнулась носом из подворотни, вырулила на набережную и, сверкнув лакировкой, исчезла – Марк опустил занавеску. У него бешено колотилось сердце, слабость в руках мешала одеться, куртку он натянул только с третьей попытки, и дверь закрывал, прислонившись плечом к стене: стоило Марку выйти на площадку, в глазах замерцало, несколько секунд он вообще ничего не видел, и мир возвращался к нему постепенно, как будто восстанавливаясь по пикселям.
Внизу этот эффект повторился: уличный свет ослепил Марка, заставил его опуститься на ступеньку парадной, иначе он упал бы, он сидел с закрытыми глазами и видел кипение огненной магмы, которая постепенно остывала, густела, крутилась медленнее и стала наконец оранжевой. Когда он открыл глаза, мимо проходила женщина с высокой желтой прической и неодобрительно его оглядывала. Марк пропустил ее, поднялся и пошел. Мозаичный бело-серый монастырь рябил в глазах, Марк старался на него не смотреть, но рябила вода, и перебегал из окна в окно навязчивый солнечный луч, пульсировал шум потока с Каменноостровского – вслушиваясь в него, Марк различал за ним или, может быть, под ним ровный гул, но мелодичный, как будто дул кто-то с бесконечными легкими в тромбон. В школе шел урок, но охранник пустил Марка, проводив его жующим взглядом, и Марк, слабея, забрался на третий этаж к расписанию, а потом, снова привыкая к полутьме коридора, дошел до класса, где занимался восьмой «А». Только сейчас он сообразил, что не снял куртку, но решил, что всё равно, потер виски и открыл дверь.
И снова рыгнула в него жаркая пасть солнца; он сощурился, ритмичное бубнение биологички сменилось вопросительной тишиной, и Марк заставил себя открыть глаза. Класс перед ним рождался из кровавой воронки, Марк держался рукой за косяк, чтобы не упасть, кажется, повторяла его имя учительница, повторяла с нарастающим нетерпением, но скоро ему повезло: воронка схлопнулась, и он увидел повернутые к нему головы: кто-то глядел, явно радуясь, что хоть чем-то разнообразился скучный урок, кто-то уже растягивал рот в усмешке, кто-то что-то соседу шептал, Полины не было, и Марк закрыл дверь, сказав старательно-громко и внятно: извините, я ошибся, – за закрытой дверью класс взорвался хохотом.
На лестнице Марк решил сесть отдохнуть несколько минут. Прижался спиной и затылком к холодной крашеной стене. По коридору сбивчивой дробью простучали каблуки, на лестницу выскочила Марина и подбежала к нему. Ты зачем пришел? Положила руку ему на лоб. Дурак. Повторяя дурак-дурак-дурак-дурак, как будто бежало по длинному извилистому туннелю наслаивающееся само на себя эхо, Марина силой подняла его, вышла с ним на улицу, ты сможешь дойти до дома? – и потащила его, ну иди хоть немного сам, я не могу тебя нести, вот так, вот так, Марк старался не закрывать глаза, дурак-дурак-дурак-дурак.
В лестничной темноте и в холоде Марку стало чуть получше, он достал ключ и пытался вставить его в замок, Марина не вытерпела, отняла у него связку, открыла сама: всё, я обратно, мне и так попадет. Марк кивнул и дернул губами: спасибо. Марина еще раз потрогала его лоб, отняла ладонь, опустила руку. Полина у нас больше не учится, перевели ее куда-то.
Оставшись один, Марк почти вслепую разделся, запихнул вещи в шкаф, залез под одеяло и, свернувшись, заснул, причем перед тем как забыться с удивлением понял, что его сильно трясет, и, наверное, всё это время трясло. Проспал он до самого вечера – мама уже успела приготовить ужин. Покормив Марка, мама заставила его выпить таблетки, села рядом с ним на кровать и стала читать ему, открыв «Мифы» посреди какой-то давно начавшейся истории.
Потом, когда мама устала читать, они стали говорить о папе, о том, что они будут делать, когда он вернется, но Марку казалось, что мама затеяа этот разговор специально, думая, что от него он быстрее поправится. Он старался подыгрывать ей и поэтому не испытывал от придумывания планов такой радости, как обычно. Видно было, что мама устала и не уходит, потому что волнуется; Марк стал зевать и прикрывать глаза; тогда мама сказала: ну что, поспишь еще? – ага, погасила свет и закрыла дверь.
Темнота разрезала комнату геометрическими тенями: одна наискосок отсекала сразу две трети потолка и большую часть стены, другая отхватывала от потолка только маленький, но зато темнее некуда треугольник и спускалась узкой полосой вниз, исчезая за кроватью. Между этими большими скрещивались и переламывались тонкие тени конструкции окна, висели бледные, еле различимые пятна той стороны Карповки – Марк уже успел за эти несколько месяцев привыкнуть к игре, в которой нужно было по теням восстанавливать, что там, на той стороне: дерево, дорожный знак, провода.
К утру ему стало лучше: на градуснике было тридцать семь с половиной, Марку даже не пришлось трясти чертовой стекляшкой. Он попробовал сказать про школу, но сразу увидел, что мама ни за что его не отпустит; по пятницам у нее не было занятий, и Марк решил, что, по крайней мере, за сегодняшний день он выздоровеет, а завтра сможет выйти из дома. Днем Марк вынул из фотоаппарата пленку и зарядил ее в бачок, но – как так получилось, не мог потом вспомнить и проклинал себя – залил не остуженный проявитель, пленка была испорчена; он попробовал напечатать – жест отчаяния, и бессмысленный: на бумаге только расплылись темные лужи. После этого он долго читал, но, закрывая книгу, положил закладку туда же, где она была сначала: ничего не запомнил, всё – перечитывать. Вечером пришла Марина. Рассказывала, что проходили, предлагала сделать вместе домашнее задание – я у девчонок из твоего класса взяла, на понедельник, к понедельнику-то ты точно уже выздоровеешь, – видно было, как ей хотелось растормошить его, она пересказывала сюжет какого-то фильма, делилась школьными сплетнями, спрашивала, что он делал летом, и объясняла, где именно у нее дача, – но всё без толку: Марк лежал, водя взглядом по полу, лицо его ничего не выражало, и вместо ответов он либо взмахивал рукой, либо согласительно хмыкал. Наконец Марина не выдержала и, с минуту помолчав, стала дергать губами: ладно, я всё вижу, тебе неприятно, что я пришла, да? ну хорошо, вот и прекрасно, больше я тебя не буду беспокоить, – она резко встала, стул проскрипел по полу, и подпрыгнул кулончик с сердечком у нее на платье – зря я вообще с тобой связалась, – открыла дверь и почти уже вышла, но повернулась и выставила указательный палец – и не дай бог тебе подойти ко мне в школе, даже не думай. Надо было бы дать ей понять, что всё совсем не так, как она думает, то есть что хоть сердечко она повесила, может быть, и зря, но его воспитания хватило бы на то, чтобы занять любого гостя разговором, – но Марк не мог: последние несколько часов он чувствовал, что болезнь его возвращается, становилось всё жарче и жарче, пот, оказалось, заново заволок всю кожу, пульсировала боль в голове, и в глазах резало всё сильнее, и от ужаса, что он не выздоровел, не выздоравливает, не выздоровеет, Марка парализовало, сердце колотилось еще быстрее, бросало в жар, и пот выступал больше и больше, он мог думать только об этом.
Перед сном мама поставила Марку градусник, но Марк, чтобы не пугать ее, снова вынул градусник раньше – как только серебристая полоска, вынырнув при повороте, показала тридцать семь с половиной. Он закрывал глаза и поворачивался на бок, чтобы выглядело так, будто он просто хочет спать, а не то что он весь горит и раскалывается голова, но спать не мог, – как только мама закрыла дверь, Марк откинул одеяло и так лежал битый час, пока за стеной не щелкнул выключатель и мама не перестала ворочаться. Тогда он сел на кровати, но скоро понял, что сидеть тяжело, и лег опять, сон не шел, а вернее, шел где-то рядом и иногда задевал Марка – в такие моменты какое-нибудь одно слово, на котором заканчивалась его мысль, вдруг, как воздушный шарик, надувалось и начинало жить какой-то перпендикулярной жизнью, Марк тянулся за вытягивающимися узкими комнатами, оглядывался и видел мокрые стены, вообще всё было мокрое, он сам был мокрый, – тут шарик сдувался и снова становился словом, но уже другим, потому что это ведь он был и в самом деле мокрый, поменять бы простыню. Наяву комната мерцала в такт пульсации крови в ушах, отвратительный воздух, наполненный запахом его пота, густел с каждым часом, Марк долго обдумывал путь к форточке, и за это время успел один раз разбить окно и порезать его осколками всё тело, так что теплая липкая кровь выступила с ног до головы, и один раз выпасть в окно и полететь над Карповкой, повторяя ее изгибы, причем на улице было светло как днем, но в конце концов собрался с духом, дошел, держась за шкаф, до окна, забрался на стул, открыл ее и еще долго стоял так, успокаивая вестибулярный аппарат и вместе с тем вдыхая вкусный ночной воздух. Возвращаясь в постель, Марк взял с собой свои камни. Его начало знобить, он затянул на себя одеяло, выбрал из лежащей рядом горсти маленькое, как перепелиное, малахитовое яйцо и положил его в рот. Холод и тяжесть яйца успокоили его, и как только мокрый, поблескивающий слюнными поверх своих собственных, минеральных разводов разводами и согревшийся камень выкатился на подушку, Марк заснул глубоко.
Спал он недолго: обратно в кровать его выплюнул кошмар, в котором он шел по Гатчинской улице, росли и росли кусты с деревьями, всё больше, и наконец он уже просто не мог идти, ветки оплели его со всех сторон, стягивали тело и голову всё сильнее, так что он не мог дышать. Когда проснулась мама, Марк свернулся под одеялом – теперь он уже не просто не хотел, чтобы мама всё поняла, что он болеет и что ему всё хуже, но и чувствовал себя виноватым за обман с градусником: вместо объяснений проще уж было дождаться, когда ему действительно станет лучше, – мама тихо открыла дверь, бесшумно ругнулась, закрыла форточку и вышла. Марк слышал, как она возится в ванной и на кухне, слышал или, скорее, угадывал музыку, которую она включила, и стремительное щелкотание клавиатуры – писала что-нибудь в фейсбуке или отвечала на почту, – всё это время он лежал всё в той же позе, на случай если она зайдет, и только закрывал глаза, когда слишком больно становилось от света, и открывал, когда голова начинала слишком сильно кружиться. Иногда его, как и ночью, затягивало в мгновенный, как порыв ветра, сон, в котором то уже наступало завтра, и он открывал папе дверь, но за дверью никого не было, то приходила и садилась рядом с ним Полина, ее плоховато, против света, было видно, она молчала, и не была Полиной, а была не то маленькой девочкой, не то старушкой-карлицей, – но всё реже, потому что всё сильнее колотилось сердце: сначала эта мысль пришла в голову лишь как предположительная, но Марк раздумывал над ней и скоро понял, что именно так, как бы это ни было страшно, он и сделает – когда мама на скорую руку оденется, чтобы быстро доехать до магазина купить свежего хлеба, молока, чего-нибудь вкусненького, Марк выберется из кровати и, как бы его ни шатало, пусть двигаться придется наощупь и каждый раз заставлять тело сделать еще один шаг, оденется, даже застегнет куртку и выйдет на сверкающую просторную набережную Карповки.
Октябрь дышал жарким сухим маревом, из которого Марк выхватывал плеск крыльев ленивых и жирных осенних уток, обрывок разговора прошедших мимо женщин – никогда такого не было, сколько живу, никогда – и всё тот же обволакивающий гул, как будто подземный или, скорее, с той стороны этого глухого марева октября. В ушах колотило, и на периферии зрения угрожающе закручивались багровые спирали – время от времени Марку казалось, что он идет слишком медленно, всё медленнее, и рискует остановиться совсем, так что он пробовал бежать, чтобы преодолеть инерцию пространства, но дышать становилось тяжело уже после нескольких прыжков, и он возвращался к шагу, всю свою волю удерживая на том, чтобы не остановиться, продолжать идти, хотя ему казалось, что идет он не совсем там, будто высокая ифленая арка должна была вывести его на широкую улицу без деревьев, а выводила на пустой перекресток, где с той стороны стоял закопченный, с грязными окнами завод, который он давно должен был пройти. Слепящие горловины улиц сменялись кромешной подворотной тьмой и пылающими кратерами дворов, и мелькали, рябили, плескались тени деревьев, стен, оконные блики, – Марк обнаружил, что давно уже идет по Гатчинской, только опять слишком медленно. Ему хотелось побежать или быстро идти, но вязкая солнечная топь не давалась ему – наоборот, до каждого следующего дерева становилось всё дальше; Марк пробовал считать шаги, но каждый раз сбивался.
Марку всё время казалось, что происходящее происходит с задержкой; словно бы свое тело он вынужден был тащить позади себя, как бьющую по ногам сумку, – мир вот-вот готов был опрокинуться, нужно было успеть унести себя из-под домов, столбов, выбоин на асфальте, магазинных вывесок и дорожных знаков и для этого держаться за то единственное, что оставалось недвижным, – за мысль о железной двери в сыром углу тесного двора, о лестничном пролете за этой дверью, темном, и к тому же он не взял телефон, чтобы подсветить, но он всё помнил и должен был пробраться наощупь. Двор, когда он в него попал, захлопнув решетку ворот за шатающейся, идущей волнами улицей, накренился и начал угрожающе закручиваться, его половины, разрезанные ломаной тенью, поплыли друг за другом, Марка кинуло на землю, он скорчился и зажмурил глаза, но на внутренней стороне век красные всполохи всё так же сменялись черными провалами, все они уходили вбок и вправо, и Марк чувствовал, что если он отпустит себя, то его затянет в эту воронку головой вниз, держался, стоял на четвереньках и смотрел, как капли со лба, собравшись у крыльев носа, улетают в сторону и мгновенно впитываются асфальтовым крошевом, и наконец, выгнувшись так, будто весь вес его громадного тела висел у него на шее, дернулся, встал на ноги и, держась рукой за стену, сделал четырнадцать шагов вперед. Едва он успел поднести палец к кнопке звонка, как дверь запищала, Марк потянул ее на себя, она потяжелела за эти дни, открыть до конца не удалось, ему пришлось боком втискиваться в темную щель, за которой, когда он оказался внутри и дверь бесшумно вернулась на место, было холодно, и Марк почувствовал, как пот на лице стал застывать в густую клейкую массу. Он постоял немного, прижавшись затылком к железу двери, а потом – то ли он открыл глаза, то ли взгляд стал привыкать к темноте – темноту стал наполнять бледный свет, идущий сверху, как будто его источали влажные стены, но свет этот не причинял боли, не рябил, – вообще здесь ничего не крутилось и не падало, ступени стояли плотно, и Марк, подавшись вперед, обнаружил, что поднимается по лестнице легко; его, пожалуй, еще немного мутило, но уже совсем не так, как на улице, по последним ступеням второго пролета он почти взлетел и оказался перед дверью, которая была открыта, и за дверью не было никого, – Марк вошел.
Он постучал по открытой двери, и навстречу ему вышла та же девочка лет восьми с черными, слишком большими для ее маленького лица глазами. Полина дома? – спросил Марк. Ее нет. – Она вышла? Девочка посмотрела так, будто извинялась, что не могла объяснить. Полины нет. – А тебя как зовут? Девочка повернула голову в сторону, а потом спросила, хочет ли Марк чаю. Спасибо. Она кивнула и зашла в кухню, Марк шагнул вслед за ней. Он сел на стул (он был во всей кухне – маленькой, не больше прихожей – один) и смотрел, как девочка заваривает чай. Что-то в этом было не то, Марк не мог сообразить, в чем дело, и наконец понял: девочка доставала чашку, наливала в чайник воду и ставила его на плиту, вынимала из коробки чайный пакетик – всё так, будто она делала это впервые, а до тех пор только в книге читала, как это должно быть. Марк не знал, что спрашивать, надеялся, что девочка объяснит как-нибудь сама, а вернее, сидя в холодной кухне с наглухо занавешенными окнами, он чувствовал, что ему становится легче, голова не кружилась, его не била дрожь, и он боялся нарушить это состояние, хотел продлить его хоть немного. Чай, несмотря на все девочкины старания, получился не совсем: то ли вода не вскипела, то ли она слишком рано вынула пакетик. Тем не менее Марк пил его, не подавая виду, сказал «спасибо» и смотрел на девочку. Она стояла, прислонившись к плите, оглядывала Марка и время от времени, забывшись, отправляла палец в нос, а потом, спохватившись, вынимала его и прятала за спину, причем, судя по всему, вытирала его там о платьице – она была в платье. Марк удивился, как он мог подумать в прошлый раз, что она не девочка, не маленькая, – она была ничуть не похожа на взрослую, пусть даже карлицу. Выпив половину чашки, Марк подумал, что слишком много смотрит на девочку и это неудобно. Тогда он стал смотреть вокруг – на плиту, на шкафчики, на холодильник. Холодильник стоял вплотную к стене и открывался к стене: Марк отставил чашку, когда понял это, – холодильник стоял так, что просто не мог открываться. Испугавшись, он стал смотреть выше, туда, где шла к плите газовая труба. Чай был холодным, иначе и быть не могло: он просто не мог вскипеть, вентиль на трубе был закручен. Девочка следила за перемещениями его взгляда и уже почти не вынимала палец из носа. Марку показалось, что глаза ее стали больше и темнее.
Он встал и – решил, что лучше ничего не говорить, – молча пошел в комнату. Обернувшись, он увидел, что девочка тоже вышла и встала за его спиной в двери. В комнате никого не было – маленькая, чуть больше кухни, с тремя окнами, но окна были заклеены бумагой, комната тоже казалась наспех сооруженной декорацией: раздвижной диван стоял у батареи так, что его нельзя было бы никак раздвинуть, зеркальная дверь шкафа была повернута к стене, и настольная лампа стояла так, что ее вилка никак не могла бы дотянуться до розетки. Он повернулся к девочке и, прежде чем она резко шагнула к нему, понял, что все-таки ошибся: не девочка, карлица, почти старушка, в кухне она прятала лицо в тени, а сейчас было видно – лицо с несвежей кожей, торчащими из ноздрей волосами, высохшими нитками губ, и руки – пузырящиеся бородавками, коричневые, – она шагнула к нему и вцепилась ему в шею. Руки ее были холодные, будто с мороза, но страшнее всего было от того, что смотрела она вовсе не на него, а в сторону, и взглядом хоть и злобным, но довольно равнодушным, как будто она душила Марка не потому, что ей так уж этого хотелось, а только потому, что ей нужно было. Она давила всё сильнее, Марк почувствовал, как в его коже начинают отпечатываться ее крепкие, немного загнутые ногти, и, кажется, не столько от страха (потому что он был отупляющий), сколько на энергии отвращения к этим ногтям он сильно дернулся, назад и в сторону, так что карлица выпустила его и, запнувшись о ножку дивана, упала.
Всё происходило в полной тишине, только глухо стукнули о паркет ее колени, но больше звуков не было. Карлица быстро поднялась, и Марк стал пятиться от нее, лихорадочно думая, что делать, когда упрется в стену, но стены всё не было, а карлица шла за ним осторожно, как будто боясь спугнуть. Еще через несколько шагов Марк оказался в другой комнате (думать о том, как это он не заметил дверь, времени не было), он шарил руками вокруг себя, боясь споткнуться и одновременно надеясь нащупать что-то, чем можно было бы от старухи защищаться, хотя бы стул, но ничего не было, а та – молча шла за ним, опустив руки, и ему вдруг показалось, что ее глаза вовсе не глаза, а что-то наподобие темных очков, может быть, такие линзы. Карлица дернула рукой, как бы выбрасывая ее вперед, Марк отшатнулся и побежал.
Комнаты сменяли друг друга, Марк не успевал вглядеться в них, только несся от двери к двери, впрочем, замечая краем глаза то старый черный сервант – такой же, как был у его бабушки, – то книжный шкаф с наваленными горизонтально поверх стоящих вертикально книг книгами, то картины на стенах – пейзаж с весенней проселочной дорогой и натюрморт с похожей на высокий торт сиренью, – всё было тихо, Марк даже не слышал топота карлицыных ног за собой, только чувствовал ее движение как бы спиной, а его собственные ноги стучали по полу глухо, как будто были слышны издалека. Он прятался за шкафами и отгораживался от карлицы столами: она то превращалась снова в маленькую девочку, и тогда становилось странно, как она вообще могла быть такой сильной, не более чем жутковатая девочка, разве что, может быть, немного не в себе, то коряво открывала рот, и тогда становилось ясно, что она древняя старуха, с разваленной челюстью и мерзким фиолетовым языком. Он пробовал кидать в нее вещи, подвернувшиеся под руку, – вазу с грязными подтеками по бокам, старинный телефон с диском, но без провода, книгу в переплете, такую старую, что корешок ходил ходуном, – но всё улетало куда-то мимо, она даже не уворачивалась, у Марка просто не хватало сил хорошо бросить. Убежать не получалось: девочка не отставала от него и каждую минуту – еще немного – готова была наброситься. Комнаты заворачивали, двери появлялись то справа, то слева, но были все чем-то похожи друг на друга, хотя и не вовсе одинаковые. В комнате с черным пианино, на котором кое-где был сбит лак, а вплотную к крышке стояла на полу кадка с высоким раскидистым фикусом, так что было ясно, что на пианино никто давно не играет, Марк схватил с покрытого застиранной скатертью стола овальное зеркало на ножке, а в следующей комнате он обошел кругом трехчастную ширму с усредненно-китайским рисунком и решил бежать обратно, к выходу. Старуха (впрочем, со спины было непонятно, возможно, и девочка) стояла, как будто потеряв его, напротив большого стенного зеркала. Марк вышел из-за ширмы и стал отходить к двери. Карлица, увидев его в зеркале, начала было поворачиваться, но застыла, когда Марк со своим зеркалом оказался прямо напротив нее – увидев себя в бесконечном в обе стороны коридоре отражений, она слегка запрокинула голову и больше не двигалась.
Марк видел только ее спину и затылок, а в зеркале напротив было пыльно и темно, ничего толком не разглядеть, – понятно было только, что человек не может стоять без движения так долго (они даже вместе с папой читали об этом и ставили опыты – нет, невозможно, даже если очень сильно захотеть). Но теперь стало только страшнее. Сердце ухало, свело живот и по спине пробегала сверху вниз дрожь – и всё же Марк, вместо того чтобы развернуться и побежать, медленно, держа овал зеркала перед собой, подошел к фигуре, протянул левую руку и коснулся плеча. Сначала не произошло ничего, но почти сразу, словно бы от его касания что-то, только в первую секунду незаметно, а потом всё больше и больше, начало двигаться, рука стала обваливаться и рухнула на пол, расколовшись там на пальцы, запястье, локоть и продолжая разрушаться, а потом и вся фигура накренилась и медленно, тяжело осела, разваливаясь на крупные куски, которые дальше сухо рассыпались, всё мельче и мельче, в пыль. Марк закричал.
В этот момент мир взбесился, вздыбился и пошел вразнос. Разлетелся в разные стороны шкаф у стены, и стена брызнула осколками, разорвавшись; выгнулось и исчезло в ослепительной вспышке большое зеркало, лопнул шкаф с книгами и части китайской ширмы, бешено вертясь, унеслись вверх; комнаты летели одна сквозь другую, всё переворачивалось, закручивалось; летели и с чудовищной силой хлопали друг о друга куски стен, части мебели, двери; ковры рвались, как бумага, и скоро смерч захватил то, что было за стенами – деревья и дорожные знаки, дома и набережные, дворцы и статуи, реки и холмы, влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо, вверх, вверх, вверх; Марк опустился на корточки и обхватил руками колени; мир рвало, трясло и крутило, и так продолжалось, пока земля не грохнула о небо, и тогда стало наконец пусто и тихо.
Разогнувшись, Марк увидел лес. Было темно, но не слишком, как будто вот-вот должно было вынырнуть из-под пленки горизонта солнце. Деревья росли вперемешку, осины и орех или только на них похожие, и еще какие-то совсем незнакомые, они сплетались кронами, опирались друг на друга, капли воды скатывались с листа одного дерева на лист другого, падали внутрь кустов, и потревоженная листва вновь замирала. Земля была укрыта пружинистым, как губка, мхом, и островками росла – тонкими гнутыми стрелками и разлапистыми зонтиками – трава. В тишине в случайном движении ветра плескалась налитая листва, но и только – ни щелкотания птиц, ни треска насекомых. Невдалеке лежала туша огромного волка. Марк дернулся, когда увидел ее, но морда была повернута к нему, было хорошо видно: волк мертв, и подушка мха под ним пропитана кровью.
Марк долго лежал, привыкая спиной к мягкой ненадежности мха, вслушиваясь в глухой перестук капель по листьям, считая время от одного порыва ветра до другого. Иногда ему казалось, что он слышит издалека поющие стволы, но, может быть, это была только фантазия, то вдруг появлялся отдельный треск, вроде коротко ломалась сухая ветка, но этот звук появлялся всё чаще и отчетливее, как будто кто-то сюда, к Марку, шел. Это была Полина – она выступила из складки зелени и остановилась около мертвого волка. Постояв немного, она опустила руку к земле, потрогала мох и растерла на пальцах каплю крови. Потом подошла к Марку и сказала ему: пойдем. Во взгляде ее не было прежнего отчуждения, и она была упоительно красива, как будто Полина, бывшая раньше, была лишь отражением настоящей в мутном оцарапанном зеркале. На среднем пальце правой руки у нее был большой бронзовый перстень с головой дракона.
Марк шел за ней по чуть заметной вихляющей тропе, всё в той же тишине, только ломались иногда тонкие сухие ветки под ногами; чаща редела, становилось суше, тонкие бугристые стволы оставались позади, и скоро они уже шли по сосновому бору, полный воды мох сменился сухим игольчатым ковром, сосны раздвигались, становились выше и прямее, поднимающееся солнце просвечивало их сбоку; в мелькании световых коридоров Полина, идущая впереди, то пропадала, то появлялась и как-то неуловимо менялась, вырастала, вообще переставала быть Полиной и даже не была человеком. Шагая вслед за ней сквозь янтарный, пропитанный сосновым запахом воздух, Марк увидел, что впереди него, едва помещаясь между неохватными стволами, высокий, до половины соснового роста, переносит с лапы на лапу свое могучее и грациозное тело сверкающий малахитовым светом зверь с чуть приподнятыми в основании перепончатыми крыльями и длинным, волной шелестящим по упругому игольчатому насту хвостом. Когда они вышли из леса, солнце уже полыхало, забравшись на треть небесной сини.
Они прошли еще совсем немного и оказались на вершине высокого холма. Склон перед ними крутой волной уходил вниз, покрытый переливающейся на солнце светлой зеленью травы, в небе громоздились мраморы облаков, а внизу, под холмом, изгибалось русло широкой спокойной реки, она сверкала, играла, искрилась, за ней лежали просторные поля и в дымке тянулись леса, за которыми в невообразимой дали угадывались сплетающиеся с небом горы. Ветер слегка шевелил волосы, пахло росистым утром, и в тишине слышалось пение сосновых стволов. Марк сел рядом с Полиной на траву; она смотрела куда-то за реку. Она была Полиной, пока он смотрел прямо на нее, но когда он отводил взгляд, то на краю зрения он видел готового расправить крылья громадного дракона, гордо держащего на изящном сгибе мощной шеи красивую резную голову. Она была твоя сестра? – спросил он. Это была я. Но ее больше нет. Полина отвечала спокойно, заправленные за ухо волосы взлетали и падали, сквозь розовую раковину уха просвечивал солнечный луч, руки ее, нежные, как кварц, были сложены на коленях. Она повернула к нему лицо. Чернота ее глаз была чернотой звездного неба, она смотрела на Марка с ласковой упругостью, губы ее были сложены в озорную улыбку. Скоро мы полетим, – сказала она и повела головой в сторону реки. Она хотела еще что-то добавить, но не стала, как будто и так уже всё было понятно. Марк снова повернулся к зеленой дали. Я только немного волнуюсь, сказал он, из-за папы с мамой. Полина медленно покачала головой. Для них ты умрешь в бреду от болезни. И Марк понял, что – да, иначе и быть не может. Что сейчас он возьмет Полину за руки, обхватит громадную шею, прижмется к ней, и навстречу ветру и солнечному свету они взлетят к синему небу, к пенистым грудам облаков, в бесконечный во все стороны простор, оставляя вдали внизу искристый рукав реки, волнистые поля с их восхитительной игрой света и тени, пышные шапки лесов, холмы и даже высокие снежные вершины далеких гор.
И все-таки он услышал: Марк, чего это ты тут болеть без меня удумал, а? Марк!
Холм Яникул
Стариков успел уже обрадоваться, что поедет один, как в последний момент в лифт, прижав согнутые руки к бокам, мелко подпрыгивая, будто желая вознаградить Старикова за терпение зрелищем этой предположительно смешной пантомимы, забежал маленький пожилой японец и, скорчив извиняющееся лицо, стал протяжно кого-то, высунувшись из клацнувших и снова разъехавшихся дверей звать, размахивая руками, и через секунду лифт наполнился галдящими, как птичий базар, японцами, старушки прижимали сжатые кулачки к подбородкам, старички хохотали, наклоняя располовиненные улыбками лица друг к другу, а Стариков оказался прижат к стенке и приготовился к семиэтажному мучению, ибо не было сомнений, что прежде чем лифт спустится в холл, его будут останавливать и разочарованно заглядывать внутрь на каждом этаже гостиницы – она непременно хотела поселиться повыше, чтобы вид был, Андрюша – что толку ехать в Рим, если уткнешься носом в какие-нибудь балконы с бельем?
Вертушку удалось миновать без толкотни, но уже на улице – где Старикова прежде всего ослепило солнце – он оказался в толпе, тем более гнусной, что вся она гудела на вавилонском наречии, а шум голосов мешался с тошнотным запахом жареных каштанов. Стариков пошел налево по Никола Энрико, потому что так они пошли первый раз неделю назад, когда только заселились и отправились на поиски завтрака, – пошел, не думая об этом специально, просто в малознакомом городе, чтобы идти каким-то новым путем, нужно делать усилие. Он не первый раз был в Риме – несколько лет назад приезжал на климатологическую конференцию, которую организовывала Еврокомиссия, а в прошлом году читал лекцию студентам-экологам, но тогда времени осмотреться не было: самолет – гостиница – завтрак – работа – ужин, после которого у ночного Термини он находил себе рослую девицу в высоких сапогах, а выпроводив ее из номера, засыпал мертвым сном. Рима днем он, получается, почти и не видел.
А днем город оказался котлом, в котором бок о бок варились туристические группы и группы детей, нищие, бомжи и уличные торговцы, скользили двери магазинов и гудели нетерпеливые автомобилисты, старушки, задорно ворча, залезали в автобусы, всюду пахло кофе (два евро за плевочек на дне миниатюрной чашечки – Старикову было не жалко, но всё же), – воздух в каменном котле накалялся до тридцати с лишним градусов, – после завтрака на Пьяцца Навона, поближе к фонтану, Андрюшенька, прошу тебя, она стала жаловаться на усталость, и к Форуму они поехали уже на такси.
Она преувеличенно восторгалась городом – восторгалась бытом: мол, как уютно устроено кафе, как хорошо, что все ездят на мотоциклах (наши бы все посбивали друг друга), на газонах можно лежать, это же замечательно, – и Стариков отнес это на счет советского «западного» мифа, а может быть, ее всегдашней аффективности, но теперь думал, не пыталась ли она таким образом показать, что довольна, чтобы не расстроить его, и чтобы он не решил, что зря вообще организовал эту поездку, которая была для нее настоящим подарком – не только потому что на день рождения, но и потому что когда бы им еще побыть вместе, он то в разъездах, то в институте, то устраивает личную жизнь, а тут целых десять дней вместе – отпускные десять дней, которыми Стариков пожертвовал хоть и не без скрипа, но всё же с искренним желанием ее порадовать и с мерзкой мыслью, что надо спешить: ей в конце концов семьдесят пять, куда ж еще этот старый план откладывать.
Она, наверное, радовалась бы, отвези он ее хоть в санаторий в какой-нибудь Опочке – для нее, вероятно, было в этом что-то от исполнения детской мечты (когда доживаешь до моего возраста, понимаешь, что тридцатилетние – те же дети), должна же она была, когда кормила его грудью, учила держать ложку или спускать за собой в туалете, думать о том, как будет хорошо пройтись с ним, серьезным и большим, опершись на его крепкую руку, где-нибудь – всё равно где, но Старикову хотелось быть щедрым до конца: ехать, так уж в путешествие. И конечно, какой там санаторий, Рим ей действительно понравился, и она с одинаковой радостью советовалась с ним по поводу меню, передавала его пожелания официанту, с грехом пополам вспоминая свой школьный немецкий (пока он наконец не спасал положение своим international English), а потом щурилась вниз, на город, с высоты Витториано – а ведь они даже, наверное, не ценят своего счастья: каждый день смотреть на горы!
Стариков видел, но делал вид, что не замечает, чтобы не испортить ей удовольствие: ей нравилось, что она сидит в кафе над Форумом и Колизеем, нравилось, что рядом с ней – красивый и сильный мужчина, который к тому же ее сын, нравилось, что она может заказать и то, и другое, и третье, и даже покапризничать, нравилось, что он у нее такой деловой и занятой (ему несколько раз звонили по поводу статьи, которую он, отпуск не отпуск, должен был через две недели сдать), и она спросила, про что статья, несколько по-детски, вероятно, надеясь, что и тут найдется повод для материнской гордости, он начал рассказывать про коралловые рифы в Мексиканском заливе (они под угрозой? – ну да, но дело не совсем в этом…), впрочем, она быстро устала слушать и свернула разговор на свою подружку, у которой сын нырял с аквалангом, как, ты не помнишь Нину Игоревну? когда ты был маленький, она к нам часто приходила…
Ей правда было хорошо – несмотря на то, что она плоховато себя чувствовала, несмотря на то, что под рукой не было ничего привычного, и даже несмотря на то, что ей невольно приходилось приоткрывать перед ним тайну своей стыдной старухиной гигиены; он мог бы оплатить и два номера, но она настояла на одном: во-первых, слишком дорого (что правда, то правда), а во-вторых (это решило исход дела, хотя Стариков и понимал, что она, желая сэкономить его деньги, просто искала причину, от которой он не смог бы отмахнуться), мало ли что. Чтобы дать ей возможность спокойно переодеться и улечься спать, он оба раза, когда они возвращались вечером в номер, говорил, что спустится в бар выпить пива, и уходил на час, а то и на полтора к Пьяцца ди Спанья, выпивал там четыре стакана, даже жалея (немного, но с каждым стаканом всё больше), что не может гудеть полночи, пойти в клуб, пофлиртовать там с какой-нибудь вертлявой девицей, а то и затащить ее к себе, что нужно в гостиницу, потому что только после того, как он возвращался, она откладывала книгу и выключала свет: я-то спать не особо хочу, но ты спи, Андрюшенька. Да, она плохо спала, а он после пива спал крепко, да и пиво-то пил не в последнюю очередь для того, чтобы крепко спать, не отвлекаясь на ее верчение и поминутные походы в туалет, так что даже когда в четвертом часу Стариков проснулся от громкого и неестественно долгого, множественного стука (во сне это стучали какие-то молотки), он в первое мгновение, выпутываясь из сна, почувствовал досаду на нее за то, что не дает ему хорошенько поспать.
Стариков давно уже свернул с Национале, шел, стараясь выбирать улочки побезлюднее, в сторону от центра и иногда оказывался на знакомых перекрестках, лестницах и небольших площадях – за четыре дня он тут перемерил шагами ближайшие окрестности, каждый второй перекресток, должно быть, стал ему знаком. Днем он, сжимая в кармане телефон, ходил, чтобы хоть что-то делать, а по ночам, как и хотел, напивался в клубах и флиртовал с девицами, причем одну из них, позавчерашнюю, ему даже удалось трахнуть – впрочем, где-то в парке за Пьяцца дель Попполо, отвести ее в номер он не решился. Было что-то оскорбительное в том, что несмотря ни на что, ему смертельно хочется женщину: возвращаясь мыслями к статье – а он и о ней несмотря ни на что время от времени думал, причем когда ловил себя на том, что прикидывает, сможет ли ее через две недели сдать или всё же звонить объясняться, испытывал неловкость, – он вспоминал о чертовых кораллах, которые в буквальном смысле живут на трупах своих родителей, и по спине у Старикова шла брезгливая дрожь.
У Тибра он оказался рядом с пешеходным мостиком на Тиберина, перешел его и быстро сбежал с островка, на котором снова почувствовал себя в диснейленде: камеры, темные потные овалы на рубашках, стайки корейских девочек (как будто их так и производят – связками). На другой стороне реки было куда спокойнее, и Стариков, завидев зелень, стал забираться по улочкам вверх, рассчитывая там в безлюдье поваляться на траве и отдохнуть. Кроме того, уже ощутимо хотелось есть, и в булочной, выстояв очередь из домовитых римлянок, он купил кусок пиццы с паприкой, причем здесь, за рекой, international English был уже бесполезен, как в ста километрах от Москвы, так что объясняться с улыбчивой дородной продавщицей пришлось жестами. Ел он в последние дни много, больше, чем обычно, успевая в перерывах между кафе и рестораном перехватить то яблоко, то мороженое, и не находил этому разумной причины, или, точнее, их было слишком много – от неотступного беспокойства до звучащего внутри головы ее голоса: кушай, Андрюша, почему ты так плохо кушаешь?
Омерзительное безвременье, в которое он провалился в тот момент, когда, нервно тыкая пальцем в телефон, перевел с глупого итальянского листа диагноз (трех слов «ушиб головного мозга» было достаточно, он знал, что это такое и что это значит в ее возрасте – несколько дней), нечто вроде темпоральной невесомости, из которой он пытался выкарабкаться, требуя от строгого и вместе крайне доброжелательного доктора, чтобы тот сказал ему, что он может сделать (nothing; she already have everything she needs; and she will have; no, you’re not allowed to get to resuscitation unit[4]), нужно было чем-то заполнять, и он заполнял – ходил, ел, пил и даже, если это вообще возможно, обжимался с женщинами.
Пиццу Стариков съел на огромном, абсолютно пустом газоне, которого он один был на эти полчаса хозяином. Он сбросил ботинки и лежал минут десять, глядя в ровную голубую эмаль неба, всем телом ощущая, как нежно ветерок подсушивает его ступни, и чувствовал дурацкую неловкость от того, что его сытому отдыхающему телу так несказанно хорошо. Потом он стал забираться еще выше, шел по лестницам и по тропинкам, мимо целой галереи каких-то голов – безымянных для него, но и вообще они выглядели так, будто сами забыли, в память о ком поставлены, – мимо пиний и зарослей дрока, мимо длинного высокого забора, за которым ничего не было видно, где-то еще мелькнул маяк (что за моряки боятся здесь разбиться?), а потом Стариков вышел на площадь, посреди которой стоял памятник – как если бы Медный всадник решил поиграть в ковбоя, – а справа открывался вид вниз, на город.
Стариков удивился, когда это он успел забраться так высоко: Рим внизу тонул в легкой сизой дымке. Дальше всего, будто другой край берега, синел ряд гор, а город был тут как игрушечный; даже огромный Витториано казался отсюда чем-то вроде чернильницы. Робея, Стариков подошел к парапету площадки, оперся на него обеими руками и мгновенно остро пожалел, что не знал про это место раньше – больше всего, кажется, она любила виды.
Здесь, на холме Яникул, Старикову пришло в голову, что Рим, на который он смотрит, – город, где новый дом опирали на остов тысячелетней стены, где Собор сложили из камней полуразрушенного Цирка, где дети играют и молодежь пьет пиво поверх разровненных кладбищ, – и есть подобие его любимых кораллов, которые растут незаметно, на величину детской ладошки в десять лет, в которых каждый умерший организм становится домом для другого, и которые – уж это он знал лучше, чем кто-либо, – хищные и всегда голодные.
И хотя все эти четыре дня он ждал звонка, он вздрогнул, когда телефон завибрировал в кармане, будто набирая воздуха, чтобы запеть свою мелодию, – Стариков знал, что означает этот звонок: что послезавтра ли, в другой ли день (господи, сколько всего еще нужно узнать, сделать, нахлопотать), он сядет в самолет и полетит в Москву, но место у окна рядом с ним будет угрожающе пустым.
Устойчивое равновесие
В баре оказалось не темнее, чем на улице. Снаружи были огни, бликующие по мокрому асфальту, – фонарей и витрин, – и мелькали автомобильные фары, а здесь – такие же разноцветные лучи осветительных приборов, направленных на крохотную сцену, и неоновые лампы с алкогольными логотипами.
Что внутри было другое – Уля именно это почувствовала первым делом, когда вошла, пропустив вперед Оксану, после секундной толкотни: она пыталась открыть дверь, саму по себе тяжелую, да ее еще и присосало потоком воздуха к косяку, так что пришлось брату помогать, и когда он дернул дверь, она открылась с низким чмоканьем, – внутри была другая плотность звука, шума музыки здесь оказалось не меньше, чем там – шуршания шин, подошв, телефонного гомона и прочего, но само помещение бара было маленьким, едва ли больше гостиной в средней квартире. Они сегодня одевались – Оксана одевалась, но Улю в конце концов тоже закрутила с собой, заставив сменить джинсы с топиком на зеленое (нет, не идет) – длинное черное (ну его, всю улицу будешь им подметать) – нет, вот, синее с голой спиной (хочешь, забирай себе, будет на память – да ну тебя), шикарное платье, а потом еще расчесывались и красились – у Оксаны дома в такой же гостиной, может, чуть поменьше.
Оксана хотела гульнуть – не «напоследок», конечно, потому что она выходила за редактора глянца, парня, который в компаниях развлекал всех карточными фокусами, а главным своим делом считал, кажется, устройство городских развлечений вроде Дня воздушных шариков или КППКП – Коктейльного приключения по креативным пространствам, так что понятно было, что тусоваться меньше она не станет, как бы не наоборот, – скорее дело было в следовании традиции, коль скоро традиция предписывала веселиться – надо гульнуть. Ты пойми – она трясла Улины пальцы – я не хочу этой тягомотины: собрать девчонок, заказать столик, выслушивать советы, давать советы, а-а-а, давайте выпьем за нас, за баб, пусть сдохнут те, кто нас не захотел, вот эта вся хрень; только мы с тобой – и будем ходить по клубам, пьяные и ма-аксимально загадочные, а? Оксана подмигивала, улыбалась, корчила рожицы – этот задор Улю очаровывал и завораживал, она размякала от него и соглашалась на всё что угодно, хоть на воздушные шарики и КППКП, что уж говорить о секретном девичнике. Думая о нем, она накануне мастурбировала, хотя, само собой, никаких таких планов на него не строила – и все-таки, когда они, уже накрашенные, причесанные, одетые, собрались выходить из дома, и появился Оксанин брат – с работы, в костюме, – а Оксана решила, что им обязательно нужно взять его с собой (ты только подумай, как это клево будет выглядеть – как будто мы бляди, а он наш сутенер! давай!), Уле стоило усилия столь же беззаботно, без паузы выпалить: вау, офигеть, давай с нами, Колян! – и улыбнуться.
Коля спросил, куда это они так разоделись, и Оксана сказала: мы решили сделать вид, что сбежали со светской вечеринки, – хотя в ее случае это было не более чем риторической фигурой, ясно же, что это объяснение она придумала прямо сейчас, Оксана вообще, кажется, никогда не принимала никаких решений, а только пробиралась через джунгли событий, ориентируясь на чутье, будто она вовсе была свободна от первородного греха рефлексии, вынуждающего человека строить предположения, просчитывать варианты, выбирать из них один-единственный и нести ответственность за свой выбор. Платья не были исключением – сначала Оксана надела свадебное (чтобы показать Уле, но и, конечно, чтобы самой еще раз в нем на себя полюбоваться), и Уля, застегивая молнию на ее спине, не могла отказать себе в тихой радости провести пальцами по коже, прикрывавшей и вместе с тем подчеркивавшей игру позвонков, потом решено было, что Уля наденет какое-нибуь из Оксаниных платьев, чтобы сфотографироваться вместе, потом Оксана скинула с себя белый колокольчик и, прыгая в трусах и в лифчике, не менее ослепительно белых, кричала: подожди, не снимай, я тоже сейчас! – и только после того, как она встала у зеркала рядом с Улей, тоже в вечернем платье, ее осенило, что надо так и идти сейчас, ты что, это же мегакруто! Только зеленое тебе не идет, нужно покороче, сейчас поищем.
Оксана снимала одно платье и надевала другое, в интермедиях Уля смотрела на ее раскачивающееся звериное тело, передавала Уле снятые платья, доставала из шкафа новые, хохотала, теребила Улю за плечи, Уля помогала застегивать и расстегивать – молнии, пуговицы, завязки, – и на пике этого веселья Уля со спины, дотянув язычок молнии до финального изгиба шеи, туда, где зарождались прозрачные волосяные колечки, обняла Оксану и поцеловала ее за ухом. Оксана обернулась с широкой улыбкой и, слегка поджав подбородок, заговорщически протянула: ээй, ты чего? – как чего? (Уля скопировала Оксанину гримаску) просто я тебя люблю, моя вишенка! Оксана ткнула Улю в живот острыми указательными пальцами: ого-го, вишенка, и я от тебя без ума!
Коля тоже не мог сопротивляться напору сестры – пожалуй, сопротивлялся дольше, но и только. Глядя на то, как технично Оксана его уговаривает – как если бы она выполняла простую, но требующую всё же сноровки и навыка работу, лепила бы, допустим, пельмени (о, Оксана была повариха!), – от Коля, ну пожалуйста через я обижусь навсегда-навсегда, на целых три дня до ты же самый лучший братик на свете, – Уля подумала, что этот механизм наверняка работал каждый раз совершенно одинаково и со временем только лучше, – и еще подумала о восторге, который должна была, впервые убедившись в безотказности работы этого механизма, испытать двух– или трехлетняя Оксана – Коля был старше ее почти на десять лет.
Он сказал, что только побреется, – Оксана с Улей сложились пополам, хохоча, – Коля, наверное, уже готов был обидеться, но Оксана умела выключать звонкий рожок своего смеха так же мгновенно и наглухо, как словно по щелчку в любой момент его включать: мы не над тобой, мы над собой смеемся, это мы тут собирались полтора часа, – и, ткнув Улю локтем, она будто сняла свой хохот с паузы.
Причесывались и в самом деле не меньше часа – нельзя же было идти в вечерних платьях и с соломой на голове. Сначала Оксана укладывала Улины прямые, гладкие пряди, чтобы они ливнем стекали на открытые плечи, потом Уля поднимала непослушные Оксанины кудряшки, собирая их в пучок, – в ход шли антистатики, гели и лаки, щетки и расчески, заколки и резинки. Они хохотали и визжали, по спине Ули проносились разряды, когда Оксана касалась кожи ее головы за ушами, и когда она наклонялась, чтобы строго взглянуть в зеркало, Уля чувствовала тепло ее дыхания на своей шее и замирала. Когда они закончили – уже перепробовав все тени, подводки, румяна, тональники и помады, нарисовав брови, перекрасив ногти, сделав дежурный селфи в зеркале, – Оксана взяла Улю за талию и повернула к себе: ну теперь, вишенка, все мужчины мира твои! Уля, вымотанная этим марафоном, сказала только, что неплохо бы глотнуть немного вискаря для разгона.
Вискарь Оксана стащила из отцовских запасов – в бутылке было чуть больше половины. К моменту прихода Коли осталось едва ли больше трети, так что встречали они его полными сил. Сначала поехали ужинать – Коля настаивал, а Оксана, хотя в первый момент эта идея не привела ее в восторг (собирались сто лет, теперь есть сто лет, так мы к утру до клуба доберемся!), через две секунды, во время которых она наклонила голову, как будто целиком уйдя в себя, вынырнула и с таким же воодушевлением, с каким две секунды назад была против ужина, горячо его поддержала. По-настоящему ужинал только Коля, Оксана с Улей съели по салату, и то – свой Оксана оставила недоеденным, зато пока Коля разбирался с лазаньей (вкусно, Колян? – нормально), успели выпить четыре разных коктейля – пробовали друг у друга, передавая соломки, тронутые помадным инеем. Когда вставали из-за столика, Оксана покачнулась, ухватилась за Улю, они прыснули, и Коля, бросив в папочку чаевые, сказал, что, пожалуй, такими темпами они до утра не дотянут. Коленька, – Оксана уже восстановила равновесие и повисла на брате, – с тобой нам ничего не страшно, все будут думать, что ты наш охранник, тебя, кстати, на работе никто за охранника не принимает? а то ты похож, – она ловко увернулась от его подзатыльника (шуточного, конечно) и, хохоча, потащила Улю к выходу. После этого поехали в клуб.
Оксана не была упряма, не шла против течения, скорее двигалась галсами – так было, когда она согласилась поехать в ресторан, раз уж Коля настаивал, и так же в клубе – когда оказалось, что там совсем не так уж весело, как планировалось, прежде всего потому что чувствую себя, как на выставке достижений народного хозяйства (Оксана сказала это, окидывая взглядом публику – сплошь мужчин в белых рубашках и девушек с буквально голодными глазами, – но было неясно, может быть, не в меньшей степени она имеет в виду и себя тоже). Впрочем, это не помешало им и здесь выпить по коктейлю и еще по шоту на ход ноги. Уля могла бы поручиться, что Оксана и не вспомнит теперь, почему ей казалось, будто именно сюда смешнее всего будет поехать, – но, похоже, самом главным в конечном счете тут было то, что Оксана вовсе не собиралась ничего такого вспоминать, и уж тем более в ее планы не входило самобичевание или что-то в этом роде, у нее была только одна задача – придумать, куда двинуть теперь.
Колян, когда они вывалились из клуба на изнывающий субботним вечером Литейный, спросил, есть ли у них запасной план, – Уля подумала, что с равным успехом он мог бы задать этот вопрос температуре воздуха, – но Оксана сказала, что, конечно, запасной план есть. Она поймала машину – крохотную, но чем теснее, тем веселее, можно было сидеть сзади, обниматься и кулаком пихать Коляна в плечо, Уля моментами ловила Оксанино дыхание, когда та, складываясь пополам, проносила мимо свое смеющееся лицо, – смеяться Оксана прекратила только на миг – чтобы отправить водителя на Рубинштейна. А что там, на Рубинштейна? – спросил, повернув шею, Колян. Да всё что угодно, – Оксана махнула рукой. И однако уже посреди Владимирского она вдруг хлопнула ладонью по Улиному бедру и сказала, что нафиг Рубинштейна, она вспомнила прекрасное место на Белинского – ну пожалуйста-пожалуйста, – и водитель, чертыхнувшись, развернулся. Если бы кто-то захотел упрекнуть Оксану: поехали туда, потом обратно, не проще ли было подумать с самого начала, – он оказался бы занудой, не более того.
На Белинского выбрали коктейльный бар – чем он был лучше всех остальных, бог знает, но здесь во всяком случае сидели за столами, музыка играла не слишком громко, и они выпили по высокому разноцветному стакану, рассказывая Коляну истории (мы однажды с Улей поехали на день рождения…), формат девичника предполагал такие рассказы, перемежающиеся протяжными теперь уж всё будет не так… – правильно, будет еще веселее! – пока наконец Оксана и здесь не соскучилась: нужно идти куда-то, где танцуют! Сказав это, она мгновенно дотянула остатки коктейля, показательно протрубив соломинкой, и решительно поднялась со стула – Колян едва успел расплатиться.
На улице было темно и тепло, Оксана поворачивала голову влево-вправо и походила больше на лесного жителя, принюхивающегося к ветру, несущему запах самых свежих и самых сочных трав. Сухожилия под кожей ее шеи натягивались косыми линиями. Через секунду она махнула рукой, мелькнули самоцветные ногти, и она двинулась через улицу, уже не глядя по сторонам, как будто автомобили здесь сроду не ездили, – ее самоуверенность росла не из самовлюбленности, а из уверенности в себе.
На улице было темно настолько, что в баре оказалось не темнее, чем на улице. Коля открыл дверь (Оксана попыталась, но та была слишком тяжелая, а потоки воздуха еще и тянули ее обратно в бар), они вошли и очутились в тесноватой, сумрачной, но добродушной кутерьме – играл джаз-бэнд, над клавишами горой нависал упругий толстяк, дергал струны, в такт покачивая головой, контрабасист, порхали палочки в руках ударника, саксофонист разворачивал и сворачивал синкопические рулады. Никто не танцевал, но Оксану это смутило меньше всего, она повернулась к Уле с братом и расплылась в улыбке: здесь офигенно, правда?
Им пришлось долго ждать, пока бармен наговорится с девушкой на другом конце стойки, да еще нальет три виски с содовой сидящей на балконе троице – видны были только головы, две мужских и одна женская, – дольше, пожалуй, чем можно было бы простить в любом другом баре, но здесь, чувствовалось, был собственный ритм и собственный устав – никто никуда не торопился. Оксана схватила Улю за руку и жарко нашептывала ей в ухо – от чего у Ули кружилась голова, – что им непременно нужно танцевать, и что здесь полно хорошеньких мальчиков, вон, посмотри на того, рубашечка с расстегнутым воротом, шея – прямо сейчас впилась бы, при этом она крутила во все стороны головой, от чего ее волосы поглаживали Улино плечо, – подумаешь, никто не танцует! нужно только начать!
В большей или меньшей степени Оксанин задор действовал на всех, на случайных людей вокруг тоже – она все-таки вытянула того мальчика под сцену (хочешь, оставлю его тебе? точно?) – танцевать она не то чтобы умела, но это и не было важно – достаточно было ее полного растворения в окружающем, чтобы все, кто сидел рядом, отставили стаканы и танцевали. Оркестр разошелся не на шутку – видно было, что музыкантам нравится внезапный дансинг, – и Уля вдруг подумала: не в том ли дело, что Оксана принюхалась, угадала, что именно здесь, именно сейчас то, что она искала, прорывается наружу, и достаточно одного движения вглубь, одного удара по почве, чтобы забил источник, – ну, или по меньшей мере Оксане просто всегда на такие вещи везло.
Сначала Уля пила коктейль (рядом потягивал бурбон Колян), а потом обнаружила себя в танце – между другими парами, обнимающейся и качающейся бог весть с кем, с юношей, от которого сильно пахло свежим пивом, и раскачиваясь, поглядывая иногда по сторонам, Уля видела, как Оксана взасос целуется со своим расстегнутым воротничком, но, в попытках удержать потолок бара в равновесии, Уля не понимала, почему ей от этого нехорошо, и осуждает ли она Оксану, а дальше больше, то ли они с Улей поменялись мальчиками, то ли мальчики – ими, Уля танцевала с воротничком сама, и с саморазрушительным удовольствием сама впивалась ему в губы.
Вступили барабаны, и в этот момент Уля поняла, что если она не остановится, то испортит не только костюм мальчику, но и вечер – всем, главное было не дать мальчику это понять. Она остановилась, поднялась на цыпочки и, разделяя слова, но стараясь говорить тише музыки, сказала ему в ухо: а рубашка у тебя говно. Мальчик удивленно наклонил голову – Уля ожидала, что он, пожалуй, расстроится, но он вместо этого улыбнулся и отпустил ее.
Она вернулась за стойку, Коля подвинул ей коктейль, и она ухватилась за холодный стакан, хотя одна лишь мысль о глотке спиртного казалась ей сейчас опасной. Она уперла подбородок в ладони и смотрела в танцующую полутемную толпу, в которой Оксана уже перестала танцевать с кем-то, а танцевала, казалось, со всеми мужчинами сразу, со всей толпой, и в этом не только не было ничего постыдного, но, напротив, это было естественно и красиво, Оксаной и толпой любовались, и Уля любовалась, впиваясь взглядом в Оксанины руки, спину, шею, следя за движениями ее бедер, задницы, за покачиваниями ее груди, за губами, не то подпевающими финальным аккордам заходящего на посадку оркестра, не то что-то всей толпе шепчущими, и оторваться от этого слежения Улю заставило только то, что она вдруг поняла: Колян давно уже сбоку за ней наблюдает, и мало того, он, следя за ее взглядом, уже всё понял, и – ей стоило только посмотреть на него, так быстро, что он не успел спрятать свое понимание, свое издевательское удивление (взгляд его говорил: что, серьезно?), – презирает ее. Уля не смогла придумать ничего лучше, кроме как махнуть залпом остатки коктейля и зарыдать, – потому что именно так делают смертельно пьяные женщины.
И чем больше она пила, тем глубже она погружалась в ощущение, которое тем менее внятно могла бы, даже если бы ей вдруг пришло такое в голову, сформулировать, – смешно, потому что рядом наверняка был кто-то, кто мог бы сделать это вместо нее: дело не в том, что она хотела бы быть с Оксаной, – она хотела бы быть ею, а вот как раз это было невозможно не в том смысле, когда говорят «да ладно, быть не может», – а невозможно вообще – ни больше, ни меньше.
Император в изгнании
Лето выдалось жарким, нечем было дышать, но он не покидал полутемных комнат – его душили ярость и стыд. Прятал изуродованное лицо от служанки, которая приносила еду. Не говорил. Иногда забывался, пытался что-то сказать, слышал собственное позорное шепелявенье и со злостью толкал глупую старуху.
Ему нужно было заново учиться говорить, дотягиваясь обрезанным языком до десен, и заново учиться смотреть на людей, пока они разглядывают обрубок носа и делают вид, будто не делают этого. Он пил, ел, ходил из одной комнаты в другую, читал, справлял нужду, вероятно, мастурбировал, плакал.
О чем он думал? О затмении. Пятого сентября прошлого года солнце почернело, и его город упал в полутьму. Народ набивался в храмы, он и сам молился, но – на террасе дворца, отводя глаза от страшного знамения. Он думал о том, что Господь предупредил его, подал ему знак, а он не смог разгадать знака. Кроме того, перед его глазами бесконечно крутилось кино, в котором его выволакивали из дворца и с улюлюканием тащили вниз, на ипподром. Когда в кадре появлялись щипцы, воспоминание становилось невыносимым, и он старался прогнать его криком, бил в стену кулаками и головой. Почему он не покончил с собой? Эта мысль не могла не приходить ему в голову, его должна была манить любая веревка, каждая высокая скала над морем. Впрочем, веревки, возможно, от него прятали, а чтобы добраться до скалы и моря, нужно было выйти на улицу. Когда его, уже здесь, вели по городу, прохожие останавливались, глазели, перешептывались, а дети бежали вслед и тянули в его сторону пальцы. А ведь не все знали. Объяви, кого поведут, заранее, и на улицу высыпал бы весь город.
От самоубийства его могло удерживать пророчество. А может быть, дело в том, что еще более сладкой, чем мысль о смерти, была для него мысль о мести. Он хотел отомстить всем – не только Леонтию, но и остальным, вплоть до самого последнего местного мальчишки, показывавшего на него пальцем. Он еще утопит этот город в крови. (Действительно, утопит, хотя мальчишки к тому времени вырастут.)
Я всё время думал о Юстиниане, хотя нельзя сказать, чтобы Нина мне им все уши прожужжала, нет. Мне приходилось спрашивать, чтобы услышать ее речь, и я спрашивал – хотя бы для того, чтобы посмотреть, как двигаются ее губы, – а она рассказывала с видом, будто просит прощения за свою невежливость. Что ей это нравится – она бы не призналась никогда в жизни: нельзя быть умнее собеседника, даже если собеседник лежит рядом голый и гладит твою сиську, – подобными вещами она была набита под завязку.
Пару раз я слышал, как ее друзья говорят со смешком: она же у нас без пяти минут кандидат наук — и хотя Нина была умнее своих друзей всех вместе взятых и, вероятно, знала это, не могла не знать, она протестующе поднимала руки и говорила, что думает бросить писать эту ерундистику, так она называла свою диссертацию. Не ерундой были клубы, наркотики, шмотки, отношения, вот это вот всё – и иногда у меня складывалось ощущение, будто только я знаю: каждое утро после ночных разъездов по клубам и бесконечных разговоров о том, кто гей, а кто нет, Нина садится в свою «тойоту» и катит в Публичку, чтобы несколько часов просидеть там с источниками – на секундочку, в основном греческими и арабскими. И однако же, если бы она услышала, как я это говорю, она убила бы меня.
Нет, Нина не была Штирлицем в стране дураков, засланным казачком на безумном чаепитии – она искренне была своей в своем кругу, хотя как раз в эту искренность поверить было сложнее всего. Нужно было, чтобы она кричала, выкидывая мои вещи на лестницу, найди себе в растянутом свитере с немытыми волосами – это то, что тебе нужно.
Думать о Юстиниане было способом не думать о ней, или, точнее, думать о ней другим способом – конечно, я понимал это и, наверное, с тем большим сладострастием думал. Мы попали в город с разных сторон – меня встретил в аэропорту в Симферополе стесняющийся дядечка, посадил в машину и полтора часа вез до гостиницы, изо всех сил выдумывая светские темы для разговора, а его, даже если не связанного, то всё равно под конвоем вели со стороны моря – но где-то на параллельных линиях (я сейчас ходил бы ему по голове) наши пути наверняка хоть раз да пересеклись. Где-то в одном из этих домов он жил – и рано или поздно он вышел на улицу, причем его скривило от убожества этого городка, после Константинополя-то. Узкие, как коридоры, улицы, запах рыбы, тесные храмы, бедно одетые люди.
Он стал выходить по вечерам, в сумерках. Отворачивался от прохожих, прятал лицо. Выходил за стену к берегу и сидел, смотрел на море. Солнце, от которого он днем прятался по перистилю, садилось в море далеко за его городом, освещало там – триклиний и террасы дворца, а здесь – правую половину его изуродованного лица, всё окрашивая в прозрачный гранатовый цвет. Мало-помалу он стал привыкать к себе – смотреть на себя в зеркало и слышать звуки собственной речи. Наконец, он стал выходить и днем – тем более что уже все в городе знали, кто он, и сами опускали глаза. Те, кто пялился, встречали его взгляд и не выдерживали его – было страшно.
В этом городе он рождался заново, нащупывая внутри себя саму возможность быть дальше, и возможность такая открывалась только одна – переродиться в новое существо, оно-то и царапало его изнутри деревенеющими когтями, толкало новым изогнутым скелетом, цокало хитиновыми конечностями. И хотя среди монет, которыми он расплачивался с проститутками, всё еще попадались деканумии с его изображением, сам он всё меньше был похож на себя прежнего. Пропасть в десять лет, разверзшаяся между его изгнанием сюда и его побегом отсюда, хранит две тайны: с одной стороны, почему так долго, а с другой – что дало ему силы так долго ждать.
Если только возможно перпендикулярно течению времени, лишь по смежности пространства чувствовать эмпатию к человеку, который родился, жил и умер за полторы тысячи лет до настоящего времени, я чувствовал такую эмпатию, хотя, конечно, не мог быть уверен ни в том, что Нина ничего не сочинила, рассказывая мне о нем, ни в том, что к ее сказанным по большей части в полусне словам не досочинил от себя ничего я сам, я тоже чувствовал себя изгнанником, пусть у меня и был билет на самолет через два дня, из столицы на край ойкумены, хоть моя – была столицей другой, северной империи, разве что – тут наши с ним позиции (если только, опять же, у времени бывает неевклидова геометрия) совпадали – обе наши империи исчезли с лица земли.
Дело не в формальном нарративном сходстве (нужно же сказать это вслух, чтобы исключить риск ошибочной диагностики: нет, я не отождествлял и не отождествляю себя с византийским императором Юстинианом II Безносым) – но я действительно думаю, что в пространстве есть, по всей видимости, дыры – и если в них и нельзя, как в кроличью нору, с уханьем провалиться, то по крайней мере при некоторой доле везучести можно приложиться к ним ухом и услышать стук колес совсем других поездов.
Конечно, в моем случае всё было иначе – я и оказался-то на улице не в последнюю очередь потому, что в кармане у меня лежали билеты в Крым и мне казалось, что Нина не устоит, не сможет отказаться от такого шанса – ни с того ни с сего, не в сезон махнуть в Севастополь, и что, как любая женщина, она найдет самый невинный, самый незначительный повод помириться – в худшем случае завтра, а в лучшем прямо сейчас (я еще выкурил несколько сигарет под окнами) – ночь оказалась неожиданно холодная, идти нужно было от Таврического (sic) в Коломну (на такси у меня как назло не было), а пакет был очень неудобный, хоть и не тяжелый – много ли вещей накопится за два месяца совместной жизни. Я всё не мог поверить, что она запросто легла спать и, выключив свет, не стоит, подглядывая на улицу из-за занавески, кусая губу, – насколько же мужчины могут быть глупыми.
Я не стал звонить ей на следующий день – почему-то думал, что она позвонит сама, и, кроме того, мучился похмельем, не из ряда вон выходящим, но все-таки забавно, что именно такие вещи направляют течение нашей жизни, – на другой день позвонил, телефон молчал (в библиотеке), и, опять же, думал, что, увидев пропущенный, перезвонит, потом целый день беготни и было не до чего, а на четвертый день звонить уже несколько странно. Возможно, она тоже так думала, но мне казалось, что если она за четыре дня не предприняла ни единой попытки поговорить, то, вероятно, такая попытка с моей стороны будет напрасной и обидной. Не то чтобы я не пережил, если бы Нина меня обидела, но с возрастом, вопреки заблуждению, такие раны зарастают всё дольше, хотя, быть может, и ощущаются не так остро.
Через две недели я сел в самолет и улетел в Симферополь. Меня довезли до гостиницы и оставили в покое – был ранний вечер. Я поел, дошел пешком до Херсонеса и обратно возвращался уже почти в темноте. Странно было видеть Крым зимним. Голые кроны, ржавые листья, застрявшие в сухой траве с прозеленью, кипарисы спящего оттенка, хмурое небо и рваный холодный ветер; только что не было снега.
На следующий день разъяснело. Я рано проснулся (намечалось что-то вроде лекции в университете), позавтракал и оделся. За мной должны были приехать, но я позвонил и сказал, что вчера разведал дорогу, так что дойду сам. Листья из ржавых железок стали травленой медью, желтая штукатурка стен отсверкивала травертином, и зелень в складках мостовых мерцала бронзовой патиной – зимой, в тишине и неспешности, без всей намывной дребедени, вдруг стало видно, что Севастополь – имперский город, черноморское отражение Петербурга, чем-то даже, хотя бы цветом неба и линией рельефа, ближе к римскому инварианту.
После «лекции» (беру это слово в кавычки, потому что на самом деле это была, конечно, «встреча» – вечная проблема жанра), так вот, после встречи ко мне подошла студентка и сказала:
– Здравствуйте, я Аня.
Аня была среднего роста тонкой брюнеткой, она тянулась от пола, как нервюра готического свода (я имею в виду напряжение и нежность изгиба и не упоминаю образцово выполненные мулюры лица); добродушная энергичная женщина, с которой я переписывался месяц и успел переброситься парой слов перед «лекцией», сказала мне: Аня вам покажет город, она со второго курса, толковая девчонка – теперь, само собой, появилась иллюзия, будто она говорила это с каким-то особенным озорством, хотя наверняка нет. В действительности, прошлое, в той мере, в которой оно вообще существует, всегда скорректировано своим будущим.
Тогда мне показалось, что Ане неловко от того, что мы, почти ровесники, говорим друг другу «вы», и к тому же наше положение, столичный гость и Ариадна по разнарядке, такое глупое и такое формальное, – сейчас я уверен в том, что неловко было мне, а Ане я лишь приписал собственную интерпретацию этого положения. Мы час или больше гуляли по городу, играя свои роли – мисс предупредительный экскурсовод и мистер заинтересованный болван, – пока мне не пришло в голову самому ей что-нибудь рассказать, и я стал рассказывать о том, что мне больше всего было интересно, о Юстиниане.
В своем роде это было, вероятно, предательство, но если и так, то вина моя смягчается тем, что рассказывал я историю, уже успевшую стать моей – не только по тому формальному признаку, что я успел, кажется, много к ней присочинить, но и потому, что она (я имею в виду, история) включилась в мой собственный обмен веществ, если только возможно включить в себя чужое событие и переварить его. Аня ничего о Ринотмете не знала (или делала вид, что не знала), так что я не рисковал быть пойманным за рук, а вместо этого сам поймал ее ладонь, пока мы спускались по Синопской лестнице. Потом отпустил, но минуты мне было достаточно – я ощутил ее легкий пульс под суставом безымянного пальца и в этот момент успокоился и почувствовал себя уверенно, как будто дальше я могу не рассказывать, а просто плести всё, что в голову взбредет.
Вечером, когда Аня села в автобус и уехала домой (мы прощались до завтра, и я не сомневался, что могу поцеловать ее, и мне, само собой, хотелось этого, но еще больше мне хотелось продлить колебание струны – не знаю, понятно ли я говорю), я вернулся на холм с бутылкой портвейна. Я следил за тем, как тени елей облизывают марши лестницы, глядел на море и в какой-то момент остро почувствовал, в чем его ужас – в том, что в море нет направления, ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Привычка думать о времени как о потоке воды сделала из моря устрашающую метафору времени вне человеческого измерения (в обоих смыслах) – времени, корпускулы которого перекатывались то ко мне, то от меня, и чем темнее становилось, тем явственнее я слышал их шуршание друг о друга.
Я искал объяснения десятилетней паузе в судьбе Юстиниана[5], но возможно, что никаких объяснений не только не нужно, а попросту нет. И что хронист, утрамбовывающий десятилетний срок в одно титло, делает так не от бессилия, а для точности, и эти десять лет не катились, не текли, не тянулись, а только шуршали друг о друга туда-сюда. (Туманность этой мысли я отношу насчет массандровского портвейна; прошу считать это продакт плейсментом.)






