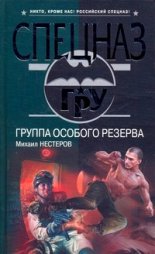Слепой секундант Плещеева Дарья
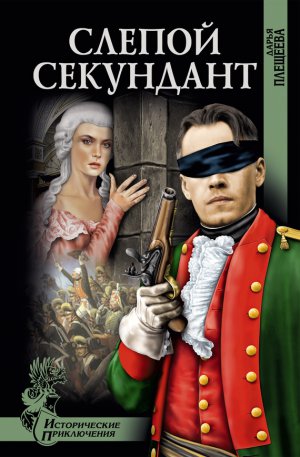
Маша рассмеялась.
— Ничего, с Божьей помощью все образуется, — беззаботно сказала она. — Как ты думаешь, могу я пока что жить с Петрушей в полку? Женатые солдаты — и то живут, неужто графу Венецкому не позволят?
— Сперва Венецкий должен тебя представить командиру своему, генерал-аншефу князю Долгорукому, и княгине. Княгине ваше тайное венчание должно понравиться — она сама ради своей любви к князю немало перенесла.
— А что такое?
— Два родных брата женились на двух родных сестрах, а по православной вере так не полагается, — объяснил Андрей. — Сперва князь Василий повенчался на Варваре Бутурлиной, потом князь Юрий — на Екатерине Бутурлиной. Поскольку с церковной точки зрения они жили в блуде, то детей Юрия записывали на имя Василия. Только потом, когда князь Василий с женой скончались, князь Юрий и супруга его воссоединились, и брак свой заставили признать, и детей также… Но ты, Маша, должна принарядиться. Давай я тебе денег на новое платье подарю.
— Тебе самому на лечение потребуются.
Андрей рад был этому простому разговору — миг, когда придется заняться пленником, оттягивался. Примчался Венецкий — его тоже втянули в хозяйственные рассуждения. И решено было наутро ехать всем вместе, о чем и сообщили Валеру с Гиацинтой.
В последний раз поужинав на даче, все разошлись по комнатам, и дача стихла до утра.
В неизвестном часу Андрей поднялся — печь остывала. Он прислушался — никто не разговаривал в комнатах, никто не галдел во дворе.
Пистолеты Еремей прятал в дорожный сундучок, там же находились пули и порох. Андрей надел свою черную повязку, натянул штаны, заправил в них рубаху. Уже освоившись в комнате, он почти без приключений отыскал сундучок и достал оружие. Зарядив пистолет, медленно двинулся к чулану, в котором ждал решения своей судьбы Куликов. Его даже не слишком караулили — вздумав бежать, тот первым делом слетел бы с крутой лестницы. Чулан был закрыт на задвижку — правда, основательную.
— Просыпайтесь, Куликов, — позвал Андрей.
— Уже утро? — спросил пленник.
— Понятия не имею. Я так же слеп, как и вы. Забавно, да?
— Что вы затеяли?
Андрей услышал в простом вопросе: «Я боюсь, я смертельно боюсь мести и мучений!»
— Кланялся вам господин Шешковский, — прямо сказал Андрей. — И господин Архаров-старший. Днем я побывал у них и все рассказал.
— Шешковскому?
— Да. Теперь уж он будет расследовать, какие деньги и откуда тайно получает «малый двор». Полагаю, господин Шешковский сделает все, чтобы не огорчать государыню необдуманными поступками великого князя, если только эти поступки обнаружит. И всех, кто в тысячный раз попытается вбить клин между матерью и сыном, будет карать так, как только он и умеет…
— Я тут ни при чем! — воскликнул Куликов.
Имя Шешковского было просто волшебным ключиком к петербуржским сердцам.
Андрей, опустившись на корточки, стал шарить по стенке чулана, рука опускалась все ниже — он хотел найти место, куда бы положить пистолет. Подвернулось мягкое, упругое — суконная покрышка шубы, не иначе. Он нажал, продавил вершка на полтора. Сюда уже можно было приспособить тяжесть.
И вдруг его руки коснулись чужие пальцы, стали быстро-быстро ощупывать, поползли вверх по рукаву. Андрей отдернул руку — соприкосновение было совершенно лишним.
— Это пистолет, — сказал он. — Господа Архаров и Шешковский посылают вам заряженный пистолет. Они милосердны…
— Милосердны? — переспросил Куликов.
— По отношению ко мне. Они не желают, чтобы я взял грех надушу.
— Да послушайте же! Я не виноват! Это все она! Ее привели ко мне, я спас ее, я ее лечил, вы ничего не знаете…
— И незачем знать. Если вы, Куликов, предпочитаете допросы Шешковского — дело ваше. Прощайте. — Андрей открыл дверь чулана.
Дверь выходила на пятачок перед лестницей. Видимо, его устроили тут, чтобы служил жителям второго этажа теплым нужником, и собирались установить чугунную трубу, ведущую вниз, к яме. Тому, кто выходил из чулана, следовало быть осторожным.
— Это все она! Вы ведь Соломин? Вы должны знать — это она! Вы ничего не поняли, клянусь! Она оплела меня своими замыслами, хотела, чтобы я на ней женился…
— Враки, — ответил Соломин. — Она и мужчин ненавидела, и женщин. Мужчин — за то, что сама не была мужчиной. Женщин — за то, что не могла быть женщиной.
— Она погубила меня!
— Она пыталась вас спасти. Ей казалось, что вы совершили для нее благодеяние. Так что перестаньте клеветать. Я знаю правду. Прощайте. — Ведя рукой по стене, Андрей пошел прочь.
Он знал трусов — повидал их под Очаковом. Куликов не схватил бы в отчаянии оружие и не приставил ствол к виску. Он не смог бы честно заплатить но своим кровавым счетам, но за несколько лет вымогательства немало крови чужими руками пролил. «Надо бы спросить у него, кто убил Катеньку и Акиньшина», — подумал Андрей и чуть было не вернулся к чулану; но откуда-то свыше слетела в голову мысль — зачем увеличивать число врагов и покойников? Вот главный виновник — а для исполнителей Страшный суд есть, они не отвертятся.
Вернувшись в свою комнату, Андрей сел на кровать и задумался. Сам он, если бы Архаров прислал ему заряженный пистолет, позаботился бы лишь о завещании. Хотя убивать себя — не по-христиански, и кара за самоубийство на том свете будет суровая, платить по своим счетам необходимо. Вряд ли Куликов беспокоится сейчас о загробном воздаянии, подумал Андрей. Когда губил судьбы и подсылал убийц — мало беспокоился, теперь-то с чего бы? Он ломает голову, как ему, слепому, выбраться из дома и уйти. Что будет потом — он пока знать не желает. А пистолет, статочно, прихватит с собой.
Куликов так же будет прислушиваться к тишине, поймет, что на дворе ночь. Он смог бы уйти. Сперва старик попытается открыть дверь чулана. А что там, в чулане, вообще хранится? Нет ли доски, которой можно отжать дверь и выдернуть задвижку вместе с гвоздями? Крикнуть, разбудить всех — пусть заглянут в чулан, пусть проверят? Но загнанная в угол крыса становится опаснее льва: Куликов выстрелит — и кому ж достанется пуля?
Андрей вздохнул. Надо было посоветоваться.
— Где ж ты, Катенька? — беззвучно спросил он. — Чего бы ты для убийцы своего пожелала?
Нет, не явилось спасительное сонное видение, без которого Соломин тосковал. И Гриша не послал весточки, и Акиньшин — также. Андрей, было мгновение, ощутил их присутствие, когда шел по куликовскому дому; они словно несли его, он даже не споткнулся ни разу.
— И что же, Господи? — задал он нелепый вопрос. — И что теперь? Я приказ выполнил — но что из сего воспоследует? Кабы стреляться с ним, чего я страстно желал! Кабы завершить дуэль, как положено честному секунданту, имеющему право заменить раненого бойца! А теперь-то что? Кто я в этом деле, Господи? Дай же хоть какой знак!
Ожидание знака Божия мучительно. Поди догадайся, как он себя явит, что удивит душу: картинка, явившаяся перед глазами, выскочившая из глубин памяти фраза или вовсе библейский «глас хлада тонка»… Андрей сидел, погружаясь в тяжкую дремоту, он пытался создать вокруг себя ту тишину без мыслей и почти без дыхания, в которой мог расслышать тот необъяснимый глас.
И расслышал! Грохот, крик и выстрел слились вместе.
Еремей кинулся к питомцу:
— Ты жив? Цел?
— Дяденька, беги, глянь, что там! Стой, я с тобой!
Положив руку на Еремеево плечо, он пошел туда, где уже гомонили охотники и распоряжался Венецкий.
— Как это могло быть? Кто недосмотрел?! — кричал граф. — Кто тут тварь продажная?! Лукашка, чья это работа?
Шум шел снизу.
— Сударик мой, Андрей Ильич, а дверь чулана-то отворена! — сказал Еремей. — И точно — кто-то выпустил подлюку. Задвижка — то целенькая.
— Венецкий, что там с Куликовым? — крикнул Андрей.
— Бог наказал! Он из чулана как-то выбрался, да с лестницы кубарем полетел. А в руке пистолет. Грохнулся подлюка на согнутую руку, пистолет возьми и выстрели. Соломин, кто-то дал ему заряженный пистолет и отворил чулан!
— Это был я, Венецкий.
— Ты? Умом повредился?
Ну разумеется, вдруг сообразил Андрей. Ведь никто не знал о приказании Архарова — незачем было. А теперь придется что-то растолковывать, и выйдет нелепица.
Венецкий быстро взбежал по ступеням, крича Маше, чтобы не выходила из спальни.
— Ты что затеял, Соломин?
— Я забыл закрыть задвижку. Понимаешь? Попросту забыл.
— А пистолет?.. — мудрено было угадать архаровское решение, и не Венецкому под силу такие загадки. — Ты что, выдумал с ним стреляться? По тебе плачет бешеный дом! И что прикажешь делать с покойником?
— С покойником-то проще всего. Я продиктую записку для господина Шешковского, он пришлет людей забрать тело.
— И как же ты собираешься все это объяснять?
— Никак. Впрочем… вот как — воля Божья. Венецкий, ты видишь — я совершенно спокоен и в своем уме. Вели людям отнести тело в сарай и отправляться спать.
Валер, тоже вышедший на шум, не вмешивался. Когда Венецкий снова спустился вниз, он подошел к Андрею.
— Вы понимаете, как это вышло, Соломин?
— Понимаю. Где Гиацинта?
— Была тут и побежала к госпоже Венецкой. Она покойников до смерти боится.
— Ну, хоть чего-то боится.
— Это как-то связано с вашим визитом к Шешковскому и Архарову?
— Да.
— Хотите водки? У охотников припрятан штоф, я знаю.
— Да.
Граве запретил пить, но предусмотреть такого случая он не мог.
Валер тихо подозвал Спирьку, посулил ему полтину и увел Андрея к себе. Пили они молча и выпили по две чайных чашки. Закусили двумя ломтями окорока.
— Благодарю, — это было единственное слово, произнесенное Андреем за полчаса.
— А я и не знаю, как благодарить.
— Пустое…
Точно, подумал Андрей, все — пустое, как будто из мундира колдовским способом вынули человека, а мундир, сохраняя очертания его фигуры, как-то держится в воздухе, опираясь на штаны, чулки, туфли. Нужно жить дальше. Придется жить дальше. Может, водка поможет крепко заснуть. Все выпито несуразно — однако правильно. Правильно — да с того не легче…
Утром Еремей собрал скромное имущество, а Андрей велел позвать к себе Валера, чтобы продиктовать записку Архарову: кто отдал приказ, тот и должен получить доклад об исполнении.
Доложил он весьма кратко: все исполнено, требуемый предмет оставлен там-то и там-то, странное состояние объясняется случайностью — повреждение вышло при падении с лестницы. И впрямь — хоть пуля и попала в сердце, но под невозможным для самоубийцы углом, да и убийце пришлось бы сильно исхитриться, чтобы сделать такой выстрел.
— Куда тебя доставить, Соломин? — недовольным голосом спросил, войдя, Венецкий. Ему сильно не нравилось, что нужно уезжать, оставляя в сарае мертвое тело.
— К доктору. Граф, как описать положение твоей дачи в Екатерингофе?
— Не доезжая царской усадьбы, напротив сада со знатными оранжереями, поворотя налево.
— Пишите, Валер: искомый предмет в сарае при даче его сиятельства графа Венецкого имеет место быть — не доезжая царской усадьбы…
Андрей поехал к доктору Граве.
— Принимай хворого, — сказал он ему. — Сдаюсь на твою милость. Лечи меня чем знаешь…
Поскольку рядом крутился Эрнест, разговоры велись на немецком языке и главным образом о делах медицинских. Голос доктора звучал неуверенно, однако Андрею был предписан постельный режим, и Граве, нарочно для таких случаев имевший особую комнату, хотя довольно мрачную, заставленную старой и бесполезной мебелью, сам убедился, что Андрей — в ночном колпаке, исподнем и под одеялом толщиной с почтенную перину.
Целую неделю Андрей пролежал пластом. Валер привез к нему Фофаню с охапкой книжек и журналов, но тот потребовал Божественное.
— Псалмы хорошо читать, — утверждал Фофаня. — И Евангелие.
— Какие псалмы? Я что тебе — покойник? — удивился Андрей и потребовал занятных стихотворных сказок, «Душеньку» Богдановича.
«Душеньку» принесли, но хитросплетенный стихотворный слог вверг Фофаню в нечто вроде паралича: язык его на каждом обороте спотыкался, терял подвижность и маялся.
— И впрямь, отчего бы Евангелие не почитать? — спросил Еремей.
Андрей был невеликим любителем Божественных книг, так что многое оказалось для него открытием.
— Как занятно, — сказал Андрей доктору. — Мне казалось, что Евангелие — это краткие пояснения к праздникам церковным, которые все знают назубок, так зачем и перечитывать? А там — исцеления, исцеления, исцеления… Причем, заметь, без всякой медицины! И без единого диагноза.
— Нет, диагноз нужен, — ответил Граве уныло. — Без него нельзя. И в Евангелии — чудеса, а у нас, эскулапов, — ремесло. Разумеешь разницу?
— Сдается, в моем случае требуется именно чудо. А просить о чуде — как-то стыдно…
Андрей впал в апатию. Он сам себе напоминал салазки, что скатились с крутой масленичной горки. Были визг, смех, радостное ощущение опасности и полета, но салазки не перевернулись, долго катились по ледяной дорожке и наконец встали. Дети, что сидели в них, разбежались в поисках иных забав, и салазки стоят недвижно, а чего ждут — неведомо. Может, так и будет выглядеть остаток жизни? Дело — сделано, другого дела нет. Двигаться незачем и некуда.
Приехали Валер, Гиацинта и Элиза, привезли гостинцев. Приехали Венецкий с Машей, привезли гостинцев. Приехали былые сослуживцы, узнавшие, где прячется Соломин, привезли гостинцев… Как ни были все к нему ласковы, а визиты угнетали Андрея и обременяли. В нем поселилось одно желание — выпроводить гостей и заснуть под Фофанино чтение. Во снах-то он видел!
Во снах к нему приходили Акиньшин и Гриша, оба в светлых мундирах совсем не измайловского вида, брали его с собой кататься, возили по какому-то несуществующему Санкт-Петербургу. Катенька пришла лишь однажды — и, пробудившись, Андрей не мог вспомнить ни единого слова, ею сказанного.
Валер первый сообразил, что происходит, и заметил Граве, что бороться надобно прежде всего с хандрой.
— Тут я бессилен, — ответил доктор. — Это болезнь души.
— А душа у него устала и крылышки сложила…
— И было отчего устать…
— Как думаете, доктор, а бывает так, чтобы душа надорвалась? Тянула, тянула тяжкий воз — вытянула, а сама надорвалась?
— В теории я это допускаю.
Валер подумал — и опять привез в гости к Андрею Гиацинту. Теперь он уже назвал настоящее имя дочери — Наталья. Гиацинта признала в Андрее старшего и главного, сама тоже ему явно нравилась, что же еще нужно для счастья? А возникнет жажда счастья — и здоровье пойдет на поправку, казалось Валеру. Элиза была от затеи не в восторге — какая же мать захочет отдать дочку за слепого? Но если выбирать между сценой и Андреем — она бы предпочла Андрея.
Андрей знал, что у его постели сидит красивая девушка, что Валер нарочно оставил их одних, но и Гиацинта никак не могла разговориться, а сам он не понимал, о чем спрашивать. Вновь вспомнилось то, что вдруг пришло однажды в голову: мундир, из которого изъяли человека. Пока шла погоня, пока возбуждала опасность, отношения с Гиацинтой были беззаботны и даже радостны. Теперь же, лишенные острых приправ, перца и горчицы, они потускнели, и мечта о тихом семейном счастье уж точно бы их не оживила.
— Я устал, простите, сударыня, — сказал Андрей.
Даже не спрашивая, как можно устать от долгого лежания в постели, Гиацинта сразу вскочила со стула:
— Господин Соломин… мне стыдно, честное слово, стыдно! Но я сама себя не понимаю! Никого лучше вас я в жизни не встречала… Но со мной что-то не так, я способна любить только театр… Это не вы, это я во всем виновата! — и она побежала к двери, вернулась, поцеловала Андрея в щеку и пропала — только шорох юбок и стук двери остались в памяти чуть ли не на пять минут.
— Вот и славно, — сам себя утешил Андрей.
Тихонько явился Фофаня.
— Прикажете читать? — уныло осведомился он.
— Почитай-ка Псалтирь.
Что-то в душе умерло, какая-то смутная надежда скончалась, отчего бы и не почитать по бедной покойнице? И воображение, некстати проснувшись, представило Андрею эту надежду в виде женщины, закутанной в темное тряпье, маленькой фигурки на белом поле. Что-то такое уже было однажды…
И раздался хрипловатый женский голос:
— Андрей! А у меня для тебя есть царь на коне. Возьми во славу Божью. А я за тебя молиться стану.
Тут-то Андрею и стало вдруг страшно. Он осознал: ведь за него никто не молится, кроме той юродивой, что пообещала, — и что, коли забыла обещание? Граве к молитве неспособен, он в книжках копается, Еремей чересчур занят хозяйством, вот Маша разве что… Но ведь у сестрицы богоданной сейчас хлопот полон рот, ей нужно заново подружиться со старшей графиней Венецкой и уладить отношения с родителями, помочь матери разъехаться с отцом, неисправимым картежником и мотом, решить судьбу Дуняшки. Маша молится, право, молится — и утром, и вечером, как следует, да только… да только Андрей в ее поминании — может, один из грех десятков человек. Идет ввысь мольба за все это честное собрание разномастного народу — Господи, разглядишь ли в толпе меня?
— Как так? — спросил Андрей. — Отчего это? Неужто я до такой степени никому не нужен? Тогда и впрямь остается только помереть.
Поди знай, какое твое слово улетит в небытие, а какое услышит Господь.
Ночью, в сонном видении, Андрей наконец-то обрел силы для молитвы. Он просил горячо, страстно — однако, как это бывает во сне, вдруг оказалось, что просит не он, а та женщина, стоящая на льду, которая велит звать себя Андреем Федоровичем, и молитва представилась вдруг растением, что прямо на глазах проклюнулось из семени и потянулось ввысь, неся свой цветок, будто высший дар небесам.
Андрей не успел удивиться, как это может что-то расти на льду, но рядом с той молитвой образовалась другая, тоже из семени наподобие фасолины, и два стебля переплелись, став вдвоем сильнее многократно. Но чего-то недоставало. «Должно быть три, — говорил себе Андрей. — Два — неправильная цифра, три — правильная, однако где же третье зернышко?»
Третье явилось под ледяной коркой, набухло, расширилось, проломило лед, росток вплелся между теми двумя — и тут-то родилось сияние. Андрей понял — недоставало именно сияния, слова должны стать светом, и тогда они вознесутся ввысь стремительно, потому что слова — тяжелы и неуклюжи, всего чувства передать не в состоянии, а свет легок и горяч, и он летит ввысь и возвращается обратно, летит и возвращается, и заполняет все тело изнутри, и выжигает дурное, и легкими волнами ополаскивает ожоги, и что-то, шевелясь и вздрагивая, пускается в рост, как те стебельки…
Андрей проснулся и… увидел. Увидел узор — желтый на черном поле, отчего-то турецкий, с завитками. Узор не уходил, только менялся, завитки вертелись, возникали круги и ромбы. Он сел.
— Ты что, сударик мой драгоценный? — спросил Еремей. — Выспался? В нужник пойдешь?
— Пойду. А что, дяденька, который час?
— Ты так разоспался — я тебя будить пожалел. А время — одиннадцатый час. Сейчас сведу тебя и крикну Эрнесту, чтобы кофей сварил. Вот отчего у русского человека кофе выходит не таков, как у немца?
— И позови господина доктора. Что-то у меня перед глазами мельтешит.
— Господи Иисусе! — Еремей выбежал.
Но вместо Граве, который был занят с посетителем, вошел Венецкий.
— Что стряслось? — спросил он. — Дядька Еремей козлом скачет!
Андрей сквозь повязку потрогал глаза.
— Я не знаю, — ответил он, — кликни старика. Обещался мне услужить, а сам сбежал. Как там у вас?
— Ведем военные действия, — отвечал граф. — Затеяли правильную осаду, подсылаем лазутчиков. Я возил Машу к госпоже Поздняковой, она берется угомонить мою матушку, когда та вернется из Новодевичьей обители. Ее духовник туда отправил дня на три пожить, там две инокини уж такие праведные — с ними велел вместе молиться. Но я матушку знаю — ее благочестия ненадолго хватит.
— Как Маша?
— Мы с ней уговорились тут встретиться. Маша… — Венецкий засмущался. — Машенька… Она во Второй Мещанской сейчас… К госпоже Ольберг поехала…
— Что за госпожа?
— Ох, Соломин… Ну, тебе-то можно сказать!.. Ученая повивальная бабка. Да, да, кто бы мог подумать? Так, сразу? Я не поверил!
— Поздравляю… — еле выговорил Андрей. — Ты, видно, полагал, что младенцев в капусте находят?
Ворвался Еремей.
— Сейчас, сейчас он идет!
— Да сведешь ли ты меня?.. — начал было Андрей.
Вошел Граве.
— В закрытых глазах, говоришь, мельтешение? Не может того быть.
— Еще как может. Прямо какой-то персидский ковер.
— Хорошо. Сейчас ты сядешь, но очень медленно, — сказал доктор. — И я сниму повязку. Открывай глаза понемногу, сперва — узкой щелочкой.
— Не бойся, — подбодрил Венецкий. — Только не бойся!
— А я и не боюсь.
Андрей сел, повязка исчезла с лица, он чуть приподнял веки. Перед глазами был серый туман — не беспросветный, а серый, даже коричневатый, и светлая полоса на нем — лишь немногим светлее прочего. Чем шире делалась узкая щелочка — тем толще эта полоса. Наконец она в высоту стала больше, чем в ширину.
— Что видишь? — спросил Граве.
Андрей рассказал.
— А теперь?
— По светлому прямоугольнику темная полоса легла поперек.
— Это моя рука, Соломин.
— Это его рука! — закричал Венецкий. — Ты видишь ее! Ты ее видишь!
— Погоди орать, твое сиятельство… Что с моей рукой? Я поднял ее или опустил?
— Опустил, — сказал Андрей. — А теперь поднял… А теперь убрал.
— Есть. Получилось. Ей-богу, получилось. Как — не ведаю! — воскликнул Граве. — Не должно было! Не должно, понимаете?! И вот!.. Соломин, коли ты хочешь, чтобы зрение восстановилось, ты должен еще долго пролежать. Твоей дурной голове необходим полный покой. Понимаешь? — Граве снова обвязал Андрееву голову свернутой косынкой черного шелка.
— Понимаю. Но только я дал слово.
— Что за слово?
— Я обещан — когда смогу видеть, то найду одну женщину. А теперь я уже вижу, и потому…
— Царь небесный! — воскликнул Венецкий. — Ты видел только полосу!
— Лежи и не пытайся вставать, — велел Граве.
— Но я дал слово!
— Граф, ты видишь, что творится? — спросил доктор. — За ним не досмотришь — так он убежит и ощупью станет на Невском искать свою прелестницу, пока его не повяжут десятские и не сволокут к частному приставу. Послушай, Соломин, ты можешь найти ее, и не покидая постели. Расскажи, кто такова, и Венецкий привезет ее прямо сюда. С его деньгами и дворней это плевое дело. Даже коли приняла постриг — выкрадет из обители. В Париж укатила — из Парижа доставит.
— Да, да, я твой должник и ради тебя не только в Париж — в Гишпанию ехать готов, — подтвердил Венецкий. — Кто такова?
— Я не знаю ни имени, ни роду-племени, и хороша ли собой — тоже не знаю.
Граф и доктор переглянулись.
— Но она хоть молода? — неуверенно спросил граф.
— Голос молодой. Возможно, и не очень хороша собой — сказывала, что у нее кривой нос, зубы, как у бабы-яги, черней арапа, и плешь во всю голову. Книжки философские читает, но бывает добродушна и весела… Из смольнянок. Да это — та особа, которая увезла Машу из монастыря и спрятала в Гатчине!
— Так надобно спросить жену! — с гордостью новоявленного супруга сказал Венецкий. — Она сейчас тут будет! Она все расскажет, что надобно! Я ей велю!
Андрей невольно улыбнулся: граф осваивался в новом качестве — главы семейства, и его забавный восторг был трогателен, как игра дитяти с имуществом батюшки.
— И это все, что ты о ней знаешь? — спросил Граве. — Плешь во всю голову и кривые зубы?
— Она соврала. Я бы почувствовал… А что чернее арапа…
— Чернее арапа? И философские книги читает?.. Еще что? — явно уже догадываясь, о ком речь, спросил Венецкий. — Все говори!
— Письма странные пишет. Она Машу навещала в Екатерингофе, потеряла черновики… Там все просто смехотворно: как она в парке боялась напороться на медведя, как от поста у нее голова ослабла… — старательно вспоминал Андрей.
— Слушай, Соломин, это знаешь кто может быть?! — завопил Венецкий. — Я понял, понял! Черномазая Демушка! Ты должен ее знать! Выпущена из смольнянок три года назад… или четыре? Она с самой государыней в переписке! Государыня и прозвала ее черномазой Демушкой, когда в гости к смольнянкам наезжала. Так-то она, Аннета. А письма она такие пишет, что государыня, читая, смеется. Дивный, сказывали, слог, причудливый и веселый! Государыне не то два, не то три раза в неделю эти письма подают.
— Дивный слог, — повторил Андрей.
Догадка Венецкого с каждым мгновением обретала все более плоти.
— Государыня любит ее, часто к себе зовет и сама ей жениха сыскала! — продолжал граф. — Ох, там целая интрига! Она с государыней рассорилась, когда та ее в первый раз отдать замуж пожелала. Не хочу, говорит, да и только. А потом Лафонша, директриса, вызвала ее к себе и вразумила — что, в самом деле, за блажь царице перечить? Царица-то одного добра желает! Тогда Демушка написала покаянное письмо — и поклялась, что коли государыня вдругорядь о ней что-то решит, то она противиться не станет и всецело в вопросе супружества на волю государыни отдается!
— «Слово дадено»… — произнес Андрей. — Она. И что, точно ли так уж черна?
— Не арапка, нет, но больно смугла. И из-за того придворные кавалеры над ней потешались. А в Гишпании такой цвет кожи, сказывали, обычное дело.
— Я начинаю припоминать… Аннета Дементьева? — тут Андрей вспомнил, что в первую их встречу незнакомка представилась Александром Дементьевым.
— Она самая! Но скоро станет госпожой Левшиной. Ее государыня за полковника Левшина сговорила и приказала в придворной церкви повенчать, сама обещалась из своих покоев к венцу снарядить…
— Когда?
— Когда? Позволь… я у матушки пригласительный билет видал, что ж там было? Но матушка не пойдет — ее опять спасение души озаботило.
— А нельзя ли послать к ней человека? — спросил Граве. — Я чай, в доме хоть кто-то рассудок сохранил, может вынести пригласительный билет?
— Гаврюшка-лакей разве что… Он малый дельный. И грамоте обучен. Доктор, где у тебя бумага и перья? Сейчас напишу ему.
— Незачем, — вдруг ответил Андрей.
Венецкий и Граве переглянулись.
— Ты дал слово ее найти, ну так и не перечь! — прикрикнул на друга Граве.
Андрей насупился. Теперь многое в речах незнакомки стало ясным. Но, когда она связана словом, и не простым, а данным самой государыне, что тут предпримешь? Да и нужно ли?
Пока писали и отправляли записку, приехала Маша.
— Ну как? — кинулся к ней Венецкий.
— Все потом, все потом расскажу! Андрей Ильич, ты мне не рад?
— Рад, — буркнул Андрей. Ощущение страшной утраты было все сильнее, все острее. Казалось бы, все потерял — ан нет, еще и это… еще и Аннета Дементьева… черномазая Демушка… И ведь знал же, что больше не увидятся! Знал! Но в горячке погони не придал значения. И вот как оно обернулось…
— А теперь говори, жена, что у тебя за дружба с Аннетой Дементьевой, — приказал Венецкий. — И можешь ли ты сделать так, чтобы Соломин с ней увиделся?
— Сейчас, пожалуй, не смогу… Кабы в Екатерингофе! Там она у опекуна своего, у дядюшки живала, потому и ко мне приходила.
— А я не знал! — воскликнул Венецкий.
— А на что тебе? — удивилась Маша.
— Должен же муж знать, с кем проводит время жена!
— Уж не хочешь ли ты сказать, что Аннета Дементьева, для которой двери личных покоев государыни всегда открыты, для меня недостойная компания? С кем же мне, Петруша, по-твоему, водиться? Да кабы не Аннета!.. — тут Маша поняла, что может сболтнуть лишнее, и замолчала.
— Кабы не она, ты не оказалась бы в Гатчине, — сказал Андрей. — Но ты, сдается, другое имела в виду.