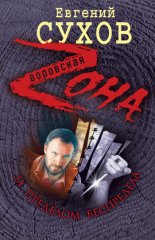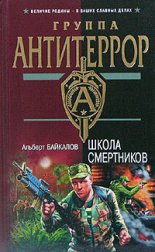Полет орлицы Агалаков Дмитрий

Жан Люксембургский был сер лицом – давно он не терпел такого краха. Разве что удар секиры Потона Ксентрая, разрубивший его лицо, лишивший глаза, был сравним с этим поражением. Но тогда был сражен только он сам, а теперь за ним стояли тысячи солдат, вся Бургундия, силы коалиции. Как он жаждал отмщения! И какой тщетной была его жажда…
Ночью англо-бургундцы покинули и подожгли крепость моста и спешно двинулись в Пон-Левек.
Но французы не стали дожидаться, пока противник отойдет, собрав свои пожитки. Без большого труда они развивали преимущество, отвоевывая крепость за крепостью, мост за мостом.
И вскоре бургундцы и англичане побежали, оставляя в своих лагерях крупные бомбарды, кулеврины и другую артиллерию, которую увезти с собой уже не было никакой возможности.
Все досталось наступающим французам.
Военные успехи бургундцев и англичан под Компьеном улетучивались, как улетучивается утренний туман над озером с восходом солнца…
Если бы Жанна, которую везли по северным дорогам Франции, знала об этом, счастье коснулось бы ее, даже пленной, связанной по рукам и ногам. Видеть освобожденный Компьен – было ее заветной мечтой!
Ее везли осторожно – через северные города Франции, куда бы не смог пробиться быстрый отряд одного из ее капитанов.
Боревуар – Камбре – Аррас – Дуллан – Сен-Ринье – Абвиль – Ле-Кротуа. В последнем из названных городов 20 декабря англичане выплатили бургундской партии сумму в 10 000 турнейских ливров. В тот же день, во время прилива, Жанна покинула Ле-Кротуа. Ее перевезли в лодке через эстуарий, в который впадала Сомма. Далее был городок Сен-Валери и долгий путь вдоль побережья. Ее везли по дороге, недосягаемой для самого бойкого и летучего отряда французов. Не отрываясь, Жанна смотрела в сторону Ла-Манша – за проливом была Англия, вотчина ее врагов, сотни лет подряд посягавших на ее любимую Францию. Первый раз она была так близка к этой земле…
Следуя побережьем, они достигли Дьеппа, а затем резко повернули на юг.
В субботу 23 декабря 1430 года, накануне Рождества, Жанну привезли в Руан, столицу Нормандии, в неприступный замок Буврёй, когда-то построенный французским королем Филиппом Августом, а нынче ставший резиденцией графа Уорвика, правой руки лорда Джона Бедфорда.
…Когда она подъезжала к Буврёю, семь башен на фоне зимнего нормандского неба показались ей преддверием ада. Как она думала, так и случилось. Сырые каменные лестницы, хмурая стража. Злорадство на лицах победителей.
Ее ввели в камеру, состоявшую из двух комнат, соединенных коридором. В дальней в середине стояла клетка. Клетка! В углу ее – кровать. И все же – клетка! Точно она была зверем!
Она – Дева Франции.
Офицер открыл дверцу, и ее втолкнули внутрь, но она бросилась назад, вцепилась связанными руками в горло солдату и едва не придушила его, но ее оторвали от тюремщика, сломали, повалили на пол. «Мерзавцы! Мерзавцы! – повторяла она. – Подлые трусы, вы не имеете права!» Несколько пар мужских рук подняли ее и поставили у прутьев, как она ни пыталась вырваться, и кто-то сзади стал стягивать ее руки и ноги, приковывая ее к прутьям.
Жанна оказалась распятой.
– Так оно будет спокойнее, – сказал офицер.
– Долго вы ждали, чтобы так поступить со мной! – бросила Жанна офицеру, когда он и солдаты собрались уходить.
– Мы ждали терпеливо, – усмехнулся офицер. – И мы победили. Когда ты одумаешься и дашь слово вести себя спокойно, мы смягчим наказание.
– Будьте вы прокляты! – вырвалось у нее.
Дверь в камеру захлопнулась. Англичане ушли. «Проклятые годоны! – остервенело кричала она. – Свиньи! Чертово отродье!» Она бранилась долго – ругательства рвались из нее наружу. Долгие дни молчания вырывались из нее, наполненные страхом, яростью и отчаянием. Но, кроме стен, слушателей не было.
В который раз Жанна рванулась – но двигаться она не могла. Это было истязанием – грубым и утонченным одновременно. С ней поступали не так, как поступают с пленным командиром, с ней обошлись как с непокорной рабыней.
Затихнув, она вновь вспомнила долгую дорогу сюда – в Руан. Она дала себе слово вынести ее с той же твердостью духа, с какой она собиралась на битву. Кричать бесполезно. Так она заставит только ликовать своих врагов. И праздновать победу.
Теперь она уже не сомневалась – семь башен Буврёйского замка были преддверием ада…
Близким огнем уже обожгло ее лицо.
20
Собаки, лежавшие неподалеку друг от друга, мрачно взирали на Пьера Кошона. Священник сидел, сложив руки на животе, и ожидал, когда лорд Бедфорд, его повелитель, заговорит. Вспышки негодования, которые последнее время так часто терзали лицо лорда Бедфорда, сменились на мрачное веселье. Да, Компьен был отбит французами, но Жанна – еретичка и колдунья Дева Жанна! – теперь принадлежит им. А она стоила не только десяти своих капитанов, но двух Компьенов! Ее доставили в целости и сохранности, поместили в одной из комнат Буврёйского замка, обезопасили от самой себя, привязав к клетке, и теперь… Да, а что же теперь? А теперь в силу вступают законы церкви!
Бедфорд, стоявший у окна, повернулся к епископу Бове.
– Университет добивался суда над Жанной лично, – его зычный голос заставил трех псов немедленно повернуть головы к хозяину, – но она была взята в плен на территории епископата Бове – и потому судить ее вам[8]. Тем более, что в Руане кафедра архиепископа временно пустует. Я знаю, что ваши поместья заняты войсками Карла Седьмого. Ваш епископат Бове тоже в руках французов. Трудно лишиться одновременно и дома, и прихода. Зато самое время подумать о новой серьезной должности. Скажите, Кошон, вы хотели бы стать архиепископом Руанским?
Кошон трепетал, но не подавал вида. На его лице было смирение. Руан – заветная мечта! Руан – сказочная пристань. Всемилостивый Господи, помоги!
– Вы же знаете, главная цель моей жизни – служить Богу и английской короне, – смиренно ответил он.
– Считайте, что митра архиепископа Руана ваша, – Бедфорд взглянул на трех присмиревших собак. – Все, что мне нужно, это убедительное решение суда, что Жанна – ведьма, еретичка и колдунья. А все ее завоевания – не заслуга Бога, как она уверяла весь христианский мир, а происки дьявола. – Взгляд Бедфорда был холодным и требовательным. – Она должна быть проклята – церковью и людьми. Проклята во веки веков. Я полагаюсь на вас, потому что вы умнее других законников. Процесс будет открытым, Жанне позволят говорить во всеуслышание. Она – особа королевской крови, об этом знают почти все влиятельные аристократы, и мы не можем калеными щипцами выдавить из нее признание. Конечно, мы попытаемся сломить ее дух – найдем для этого средства… Ваша задача, Кошон, заставить ее признать свои грехи, какие – сформулировать вам, заставить раскаяться при всех, просить, умолять о пощаде! – Глядя на собеседника, регент зло усмехнулся. – А когда процесс закончится, мы бросим ее в тюрьму и заставим ждать окончания войны – полной победы Англии над Францией. Вернее, короля Генриха над самозванцем Карлом Валуа. И если эта ведьма не отправится в ад из тюремной камеры, мы отпустим ее – отпустим вместе с Карлом Орлеанским, ее братцем. Но я уверен, что о них забудут раньше, чем придет конец войне. – Бедфорд ткнул пальцем в епископа. – Главное, Кошон, Жанна должна превратиться из героини – в прокаженную!
Пьер Кошон возвращался в свой дом – иначе говоря, в архиепископский дом, который еще нужно было заслужить. Он ехал в карете по улицам Руана, под прицельным взглядом слуги и секретаря Гильома, размышляя над тем, что слишком много грезил об удаче. Одно дело – выкупить Жанну, и другое – судить ее. Многого требовал такой процесс от судьи! Очень многого! Весь мир будет смотреть на того, кто станет требовать приговора для Девы Жанны.
– Вы чем-то обеспокоены, монсеньор? – заботливо спросил Гильом.
– Ты приготовил форель, как я просил? – вяло поинтересовался у слуги Пьер Кошон. – Хорошо обжарил ее?
Карету тряхнуло, и зубы Гильома, уже хотевшего ответить, звонко прищелкнули. Кошон слабо улыбнулся. Как он устал за эти месяцы! Как измучился…
– Я обжарил ее так, монсеньор, что солнышко Прованса сможет позавидовать этой форели!
Кошон улыбнулся вновь – мастак на словечки его Гильом!
– А тех куропаток, что купил утром, ты замочил в винном соусе?
– Они сейчас наполняются им, монсеньор, как кубок – из бочонка бургундского! Ужин будет на славу!
– Хоть это радует, – кивнул Пьер Кошон.
И все-таки на лице его радости не было. Даже несмотря на обещание лорда Бедфорда сделать его архиепископом Руана. Ноша была тяжела. Молва о Жанне, спасительнице Франции, давно околдовала Европу. Ее имя прославляли колокола всех французских церквей и повторяли с надеждой уста всех французов, ее имя с трепетом и страхом произносили англичане. До него доходили слухи о характере Жанны – властной, дерзкой, не умеющей лукавить, но зато умевшей говорить правду своему королю в лицо.
Сила, воля и страсть – против зрелости, опыта, глубоких теологических познаний.
«Кто победит?» – спрашивал себя Пьер Кошон, когда, опираясь на руку Гильома, выходил из кареты у дома архиепископа – временного своего пристанища. Жанна не боялась смерти – всегда была впереди войска. Она не страшилась ни английских стрел, ни крепостных стен. И вряд ли можно было надеяться, что она испугается своих судей. По дороге из Боревуара в Руан он так и не познакомился с ней. Почему? Видел только издалека. Не хотел торопить события. Точно думал, а вдруг миунет чаша сия – и судить ее будут другие?
21
Жанна свернулась калачиком на своем топчане, в углу клетки. Она думала, что сейчас, в глазах ее стражников, похожа на зверя, загнанного в угол. Она может укусить зеваку, которому вздумается дотянуться пальцем до клетки, но разорвать – нет.
Отомстить за себя она была не в силах.
Несколько дней назад к ней пожаловала красивая молодая дама и представилась Анной Бургундской. Жена Бедфорда, сестра Филиппа! Жанна не знала, что ожидать от этого визита. Но дама, на лице которой девушка прочитала сострадание, попросила довериться ей. Анна сказала, что ей необходимо убедиться в том, что пленница ее мужа и впрямь девственница. От этого будет зависеть будущее Жанны. И все случилось сызнова – как год назад в Шиноне. Ее заставили раздеться. Вновь ее ощупывали чужие руки, но на этот раз грубее и бесцеремоннее. И вновь повитуха изрекла: «Девственна!» Анна облегченно вздохнула. «Запрещаю вам прикасаться до нее, – сразу после осмотра сказала она офицерам своего мужа. – Запрещаю издеваться над ней, привязывать ее к клетке. Обращайтесь с ней, господа, как с благородной дамой!»
С этого дня английская солдатня не смела трогать ее, ломать, как прежде. Только злобно поглядывала с той стороны клетки, отпуская грязные шутки. Пленница была благодарна и этому заступничеству. Как-никак, а герцогиня Анна Бедфордская приходилась Жанне своячкой…
Сжавшись на топчане, Жанна закрывала глаза и видела юную девушку в сияющих доспехах, что, обнажив меч, неслась по зеленым лугам. Где рядом блестела на солнце прекрасная река – милая сердцу Луара, свидетельница ее великих побед; в руках девушки было белое знамя, усыпанное золотыми лилиями, стяг, с которого смотрели на целый мир – ее мир! – Господь, Богоматерь и Ангел. Все было подвластно этой девушке, все было в ее руках. И где-то, за ней, шло воинство, готовое погибнуть за нее и за их страну. Отважные рыцари и смелые солдаты, на конях и в пешем строю, двигались по лугам, – по ее следу, – и не было им преград. Великая дорога открывалась перед ними. Дорога побед…
За дверями камеры нарастал шум – брань тюремщиков и чьи-то стоны. Видение стало рваться, развеялось. Жанна подняла голову.
– Получай, скотина! – ударив кого-то, у самых ее дверей крикнул один из солдат.
Кто-то тяжело охнул.
– Встань! – зарычал солдат. – А ну встань!
Лязгнул засов, открылись двери и в камеру к Жанне втолкнули человека в рясе. От тычка в спину он не удержался на ногах и упал. Его пару раз пнули, и скоро он оказался у самой клети.
– Арманьякский выродок, тут тебе самое место! – рявкнул солдат. – И соседка под стать! Будешь гнить вместе с ней, пока дьявол не приберет вас обоих!
Второй солдат рассмеялся:
– Или раньше не поджарят пятки отцы-инквизиторы!
Дверь закрылась, вновь громыхнул засов. В свете факела девушка попыталась рассмотреть человека, но он уткнулся лицом в каменный пол. Несколько минут мужчина не двигался, но затем пошевелился, со стоном попытался сесть: он зацепился руками за прутья клетки, желая немного подтянуться, но сил у него не было даже для этого.
– Кто вы? – садясь на корточки, спросила Жанна. – Эй!..
Человек поднял голову – его худое лицо казалось изможденным, в глазах читалось страдание. Он был уже немолодым…
– Кто вы, добрый человек? – переспросила Жанна.
– Я – священник, отец Гримо… – Слабый, срывающийся голос выдавал его: человека несомненно истязали. – А кто ты, милая девушка?
– Я – Жанна, – разглядывая его лицо, не сразу ответила она.
– Жанна, – растерянно проговорил он. – Какая Жанна?..
– Жанна Девственница, – просто ответила та.
Обрывки света падали на истерзанное лицо человека в рясе.
– Ты?! – ожил священник. – Ты – Жанна Девственница, спасительница Франции?
– Благодарю за эти слова, добрый человек. Как бы мне хотелось, чтобы они были хоть наполовину правдой.
Но человек, представившийся отцом Гримо, неожиданно отпрянул от клетки.
– Я не верю тебе. Зачем моим палачам сажать простого священника рядом с героиней, о которой говорит все королевство? Я не верю тебе…
Жанна улыбнулась:
– Это я, святой отец. Ведь я могу вас так называть?
– Можешь, конечно… – В его голосе звучало недоверие. – Но чем ты докажешь, что ты – Жанна?
– Посмотрите внимательно: мои тюремщики боятся меня так сильно, что посадили не только в тюремную камеру, но и в клетку. И этого им показалось мало: они одели на меня кандалы и приковали цепями к прутьям.
Ослабевшей рукой священник рискнул потрясти один из стальных прутьев, но только обреченно вздохнул:
– Крепкая клетка…
– Еще бы! – горько усмехнулась Жанна.
– Для меня им понадобилось средств куда меньше. Десять ударов по ребрам, еще столько же, – голос его дрогнул, – и еще; и каменный пол…
– Мне жаль, что с вами приключилось такое несчастье, святой отец. Откуда вы родом?
– Из Лотарингии.
– Неужели?! – ухватившись за прутья, обрадованно воскликнула Жанна.
– Да, Жанна…
– Да мы с вами земляки, святой отец! Какое счастье… Из какого же города или деревни?
– Из окрестностей Нефшато.
– Да я была там, и не раз. Мы прятались с моей семьей от бургундцев…
– О, проклятые бургундцы! – покачал головой священник. – Гореть им в аду! Они алчны и беспощадны, как дикие звери. Только англичане могут поспорить с ними во всех грехах!
– Как вы правы, святой отец…
– Значит, ты – Жанна, – все еще плохо веря в это, пробормотал священник. – Это большая честь для меня… Но как ты оказалась тут, в Руане?
– Меня взяли в плен у Компьена. – Жанна покачала головой. – Долгая история, святой отец. Вряд ли вы захотите ее слушать…
Священник все-таки сел на пол, у самой клетки.
– Долгими будут наши дни в этой тюрьме… Я слышал, что тебя взяли в плен еще весной. Слышал от людей, которые даже тебя не знали, – он взглянул печальными глазами на узницу, товарища по несчастью, – но и тогда я не пропустил о тебе ни единого слова. Но услышать твою историю из твоих же уст, Жанна, я даже не мог и мечтать. Если бы мне дано было выйти из этой темницы, клянусь Богом, я бы каждый день рассказывал о тебе людям. Как же ты попалась им в руки? Ведь ты… почти святая! Так говорят. Или… нет?
– Странно, что вы говорите обо мне так. Вы же священник…
– Но ведь ты не такая, как все… Разве нет?
– Я не святая, отец Гримо, – усмехнулась Жанна. – Просто я очень верила в свою победу. – Она вздохнула. – Уже под Мелёном я знала, что буду взята в плен. Об этом мне сказали мои голоса – святой Екатерины и Маргариты…
Ее рассказ был подробным и полным: Орлеан, Луара, Реймс. Вот она под Парижем, но с горсткой людей ей не дано взять столицу; затем – под Компьеном, но перед ней закрывают ворота; ее берут в плен, в цепях она кочует из замка в замок; потом ее продают англичанам, как рабыню на венецианском торге. А не так давно привозят в Нормандию – на ту землю, куда было не дотянуться ее верным капитанам. И где теперь она ждет суда и возможной расправы.
– А ведь мне известно, что твои люди пытались вызволить тебя…
– Кто?!
– Я не знаю их имен. Я – простой священник, Жанна. В мирских делах я смыслю мало. Кто-то из твоих полководцев.
– Это Орлеанский Бастард! – вырвалось у Жанны. – Я верю в него. А с ним Ла Ир и Ксентрай. И Алансон…
– Говорят, тебя окружали принцы крови?
– Да, было…
– Я слышал, твои полководцы били англичан на окраинах Руана, да и сейчас все еще надеются спасти тебя. Об этом говорят многие, хотя за такие разговоры можно поплатиться языком, если не жизнью…
– Я очень надеялась на них вначале. Но теперь надежды остается все меньше…
– Не смей отказываться от надежды, Жанна!
Девушка печально улыбнулась.
– А за что взяли вас, святой отец?
– Вместе со словом Божьим я проповедовал свободу французов от англичан, – держась за стальной прут, улыбнулся он. – Проповедовал в тех землях, где это карается законом. Но разве не среди язычников проповедуют истинные миссионеры христианство?
Жанна горячо кивнула:
– Вы правы, святой отец: слово Божье необходимо там, где о нем мало слышали!
– Именно так, дочь моя. Мы понимаем друг друга. Меня взяли тут, в Нормандии, где проклятые англичане вот уже полтора десятка лет разоряют французские земли. Каждый день в Руане, на главной площади, кого-то сжигают или вешают. Тебя ждет долгий суд, меня – скорый. Кто я такой? Один из малых мира сего, кто борется в меру своих сил, отпущенных ему Богом, за правду…
Жанна положила руки, закованные в цепи, на руки священника.
– Святой отец, простите, что я начинаю так сразу, ведь мы едва знакомы… – она медлила.
– Да, Жанна?
– Вы могли бы меня исповедовать? В Руанской крепости мне отказали в этой милости, сославшись, что на мне – мужской костюм. Но мне не во что переодеться.
– Конечно, я тебя исповедую, Жанна, – отец Гримо протянул руку через клетку и дотронулся головы девушки. – Конечно…
– Спасибо вам. Я давно хотела этого, и вдруг – такая удача. Я только соберусь с мыслями.
– Не торопись, Жанна. Сдается мне, у нас еще будет время, чтобы поговорить о многом. – Неожиданно он точно о чем-то вспомнил. – А что тебе говорят твои голоса, будешь ли ты освобождена?
– Я давно не слышала их, – вздохнула Жанна. – Я так умоляла, чтобы они пришли ко мне, но все тщетно. Может быть, я не заслужила больше того, чтобы они были со мной?
– Я так не думаю, Жанна. Если к кому и приходить святым, так это к тебе. Ты еще услышишь их, обязательно услышишь!
Они проговорили весь вечер, затем поспали, Жанна – на соломенном топчане, отец Гримо – просто на ворохе соломы. А едва проснувшись, на голодный желудок опять увлеклись беседой и проговорили до тех пор, пока им, как собакам, не поставили на пол по деревянной тарелке с кашей. Но от еды отцу Гримо, с отбитыми внутренностями, стало плохо, и он сказал, что вряд ли когда уже сможет принять пищу, даже самую простую. А к началу следующего вечера дверь в их камеру открылась, и один из солдат крикнул:
– Эй, священник, выходи!
Отец Гримо перекрестился.
– Не слышишь? – спросил тот же солдат.
– Меня казнят? – дрогнувшим голосом спросил отец Гримо.
– С тобой будет говорить граф Уорвик и два палача, – рассмеялся солдат. – Давно ты не пробовал каленого железа?
– Что они хотят от вас? – вцепившись к прутья клетки, спросила Жанна. – Что?
– То, чего я не знаю: имена моих сообщников. – Отец Гримо пожал плечами. – Им и невдомек, что я один брожу по этому свету и говорю людям правду. Со мной только Господь Бог.
Едва он успел договорить это, как его вытолкали из камеры.
– А как же исповедь, святой отец?! – почти с отчаянием вслед ему закричала Жанна. – Как же исповедь?
«Буду жив, я тебя исповедую! Крепись, дочь моя! Крепись!..» – услышала она из-за дверей, которые захлопнулись в ту же минуту.
Перед отцом Гримо открыли двери. За большим столом трапезничал Пьер Кошон. Перед ним, на огромном серебряном подносе, стояла жареная утка, на другом блюде с ней соседствовало много вареных яиц, блюдо с горячим хлебом и другое – с пирогами, соленые овощи и сушеные фрукты, красное и белое вино в кувшинах. Пьеру Кошону прислуживал Гильом, его секретарь, спальничий, камергер и стольничий в одном лице. Дверь за отцом Гримо закрылась. Заключенный прошел к столу, переглянувшись с Кошоном, обгладывающим утиную ножку, отодвинул стул и бросил его слуге:
– Воду и полотенце, Гильом! – И только потом, усевшись, прихватив кусок пирога, тяжело вздохнул: – Тюремная камера – это пытка, монсеньор!
Кошон продолжал обгладывать ножку и не произносил ни слова. Тем временем отец Гримо сунул руки в тазик с водой, принесенный слугой, ополоснул лицо и вытерся полотенцем.
– Уфф! Эта Жанна и впрямь – крепкий орешек! – он выпил кубок вина, налитого ему расторопным Гильомом. – Вам с ней помучиться, монсеньор!
– Нам! – поправил его Кошон.
– Хорошо, пусть будет «нам», – ломая утку, согласился отец Гримо. – И как она, бедняжка, терпит свою долю в этой клетке, не представляю! Да еще под страхом смерти! – Едва сдерживая улыбку, он мельком взглянул на Кошона. – Англичане немилосердны, ваше преосвященство, как духовному лицу, вам стоит обратить на это внимание.
Он поглощал все, что было на столе, под терпеливым взглядом Кошона.
– Я целые сутки не ел, монсеньор, – уплетая за обе щеки епископские яства, оправдался он. – Кстати, я попробовал ту кашу, которой англичане кормят Жанну, и, представьте, меня стошнило. Я ей сказал, что проклятые англичане отбили мне кишки. Ха!
– Вот что, мой милый Луазелёр, заканчивайте вашу трапезу и говорите по делу, – оборвал его Кошон. – Я в нетерпении.
– Потому что в нетерпении лорд Бедфорд? – улыбнулся полным ртом его гость.
– Вы очень проницательны, Никола. Не было бы причины, я бы не торопил вас!
Когда его агент Луазелёр спросил, как ему назваться перед Жанной, Кошон раздумывал недолго. «Назовитесь отцом Гримо», – сказал он. «Почему именно так?» – спросил агент. «Я так хочу», – без объяснений ответил Кошон. Он хорошо помнил, что именно под этим псевдонимом покидал однажды Париж в сопровождении Жака де Ба и его людей, когда повсюду сновали арманьяки. Псевдоним принес ему в ту ночь удачу…
Запивая ужин вином, Никола Луазелёр облегченно вздохнул и весело посмотрел на Кошона:
– Хотелось бы еще переодеться! Как вы на это смотрите?
– Нечего делать, Луазелёр! Скоро вам отправляться обратно.
– Это меня и пугает! Кстати! – Луазелёр поднял указательный палец. – По просьбе Жанны я должен исповедовать ее. Сегодня же. Как смотрит на это церковь?
– Господь простит вас.
– Нас, монсеньор, ведь это была ваша идея.
– Не испытывайте мое терпение, любезный Никола.
– Хорошо, монсеньор, хорошо. Жанна – добрая девушка, она выложила священнику, тем паче – «земляку» все, что было у нее на сердце. Ну так вот, с юности она обуреваема голосами. Все, что она делает, с их соизволения. По ее утверждению, с ней говорят святые Екатерина и Маргарита, а также святой Михаил. Я уже не говорю о том, что подчас она слышит голос самого Создателя!
Они проговорили добрых полтора часа, и Кошон остался доволен добытой Никола Луазелёром информацией. Голоса Жанны должны будут стать тем камнем, что окажется привязанным к ее ногам, когда Жанну бросят в пучину судебных разбирательств.
– Вы сделали, как я говорил вам? – в заключение спросил Кошон. – Посоветовали ей держаться со священниками, что служат англичанам, как с врагами? Ни в чем не слушать их, не поддаваться никаким их уговорам?
– Разумеется, монсеньор.
Кошон вытащил из тайников епископской одежды записную книжку, нахмурившись, произнес:
– Вот это мне понравилось. Никола Луазелёр: «Но разве не среди язычников проповедуют истинные миссионеры христианство?» Жанна: «Вы правы, святой отец: слово Божье необходимо там, где о нем мало слышали». Просто разговор двух богословов! – Не глядя на опешившего агента, Кошон усмехнулся. – А вот это не очень-то пришлось по вкусу лорду Уорвику. Где же эти строчки? А, вот! Никола Луазелёр: «Меня взяли тут, в Нормандии, где проклятые англичане вот уже полтора десятка лет разоряют французские земли. Каждый день в Руане, на главной площади, эти изверги кого-то сжигают или вешают…» Кошон в упор посмотрел на своего агента. – Граф рассердился не на шутку. – На лице епископа Бове играла улыбка. – Просто он ненавидит, когда его называют «проклятым англичанином» или «извергом».
– Не понимаю, монсеньор… – Провокатор был бледен. – Но… как?
– Что тут непонятного, мэтр Луазелёр? В соседней камере есть слуховое окно. А у Маншона и Буагильома, между прочим, прекрасный дар быстрого письма. Если их дар кому и уступает, так это только вам. У вас пропал аппетит? Вы перестали есть, Луазелёр…
– Я уже сыт, ваше преосвященство.
– Наконец-то. А не то я думал, что вашему приступу голода не будет конца. Так вот, Луазелёр, я хочу, чтобы ее исповедь была долгой и красочной, как ясный летний день. И чтобы Жанна говорила громко. Я ничего не хочу упустить. А теперь отправляйтесь обратно, Никола, вам давно уже пора к нашей подопечной. И далеко не испускайте винный дух. Жанна проницательнее, чем вы думаете!
Интерлюдия
Женщина была так полна и неповоротлива, что ее, в ночной рубашке, укрытую меховой накидкой, вели от роскошной кровати с балдахином к столу две служанки. Черные волосы женщины были густо побиты сединой, и сейчас, распущенные, ложились на плечи. Ее пальцы вздулись, и дорогие кольца, казалось, впились в них мертвой хваткой раз и навсегда. На распухших ногах были одеты парчовые тапочки, расшитые золотом, с загнутыми носами.
В углу просторной спальни, по всему – когда-то богатой убранством, а теперь – обедневшей, с ночи горел камин. Почти все дрова превратились в угли. Языки пламени слабели. Кое-где уже остывала зола.
Пока одна служанка поддерживала госпожу под локоть, вторая отодвинула перед ней стул. Женщина с трудом села. Служанки ждали распоряжений. Но женщина не спешила. За окном королевской спальни дворца Сен-Поль было непогожее зимнее утро.
– Зажгите свечи и принесите перо и бумагу, – сказала она служанкам. – И поторопитесь…
Одна из служанок зажигала одну за другой свечи в тяжелом медном подсвечнике, вторая расторопно принесла письменный прибор, аккуратно разложила перед госпожой предметы – бумагу, перо, чернила.
– Теперь обе подите, – сказала тучная женщина, – нет, стойте… Виолетта…
– Да, Ваше Величество?
– Разыщи Шарля. Если спит, разбуди его. Пусть немедленно придет…
Она вновь посмотрела в окно. Сырой зимний день. Безрадостный. Тяжелый. Как и все остальное. Особенно ее тело, которое она не узнавала. Распухшее, отечное, уродливое. Оно, точно мешок, в который ее затолкали насилу и выбраться из которого уже было нельзя. Затолкали и бросили в Сену. Каждый день был новой волной, который захлестывал ее. Особенно вот такой – серый, зимний. Вначале она ненавидела свое тело. Но потом устала. Устала даже презирать. Она просто стала равнодушна к нему.
Женщина обмакнула гусиное перо в чернила, но не сразу коснулась им бумаги. Перо мелко дрожало над ней, и уже через несколько секунд черная клякса расплылась по листу.
Но это мало тронуло женщину…
Вновь обмакнув перо, она коснулась им бумаги.
«Уважаемый мэтр Кошон! – написала она. – Надеюсь, что мое письмо застанет Вас в добром здравии…»
Она вновь посмотрела на небо за арочным проемом окна. Надо было собрать воедино все потоки слов, которые последние дни беспощадно размывали ее сон. Эту ночь она не спала совсем. И оттого голова и все тело было тяжелым. Мысли терзали ее, не давали покоя. День сегодняшний и день вчерашний спорили друг с другом. Она то и дело оглядывалась – возвращалась на много лет назад, когда была могущественной государыней, желанной любовницей – великих мира сего и простых рыцарей, бойкой наездницей, матерью принцев и принцесс. Сейчас она думала о том, что дала жизнь многим детям, но злой рок, точно в насмешку над ней, отнимал их у нее. А она старалась не замечать этого. Точно это были и не дети вовсе, а облака, подхваченные ветром и навсегда уплывающие куда-то. Единственный оставшийся сын ненавидел и презирал ее.
А дочери…
«Мы не всегда ладили, договор в Труа был тому виной, но я не забыла и другого, – продолжала писать она. – Вы готовы были оказать помощь, когда мне понадобилось много сил, чтобы стать одной из тех, кто вершит судьбы народов. С тех пор прошло много времени, мэтр Кошон. Простите меня, если я порой была несправедлива к вам. Это – гордыня опальной королевы. Нынче ни друзья, ни враги не вспомнят, жива я или нет…» – Страстный голос пробивался через отяжелевшую вместе с телом душу – голос, о котором она хотела бы позабыть. – «Отныне другая женщина занимает умы французов, англичан и бургундцев. Для одних она – героиня, для других – проклятие. Одни готовы назвать ее святой, другие – растерзать, как ведьму. И теперь Вы – ее судья. Не скрою, мэтр Кошон, я боюсь за ее жизнь. Мне известно, что уже давно Жанна знает о своем происхождении. Уверена, что я причинила ей боль и что сердце ее не раз наполнялось ненавистью к родной матери. Но, тем не менее, мэтр Кошон, прошу Вас, расскажите ей о том, что я сделала для нее. И тогда мой грех не покажется Жанне столь тяжелым. Расскажите ей, что мне пришлось пережить с моим супругом. Сколько горечи, обид и унижений я испытала в этом браке! Не объяви я тогда ребенка мертвым, оставь Жанну у себя, то каждый день боялась бы за нее. Бог свидетель, была бы моя воля, никогда бы я не бросила свою дочь, не отправила бы на границы королевства, подальше от двора и материнской ласки. Только так я могла спасти ей жизнь. Нынче я горда за Жанну – она в полной мере унаследовала рыцарский дух своего отца и является лучшей памятью о нем. Памятью для меня, уже старухи, которой казна платит всего лишь семь денье в день. Мне приходится продавать мебель и платья, чтобы не стать нищей. Это не жалоба, это осознание того, что отчеканено на оборотной стороне монеты, называемой “суета сует”. Мой дворец уже давно как пустая могила. Только призраки. Среди них мне осталось доживать свою жизнь. Но зачем я говорю о себе? Уверена, Вы уже догадались, зачем я пишу вам. Если что у меня и есть, так это мои дети, те немногие, что остались в живых. Я знаю, что вряд ли заслужила их любовь, и все-таки… они часть меня. И никуда им от этого не деться, даже если бы они захотели. Будьте же милостивым судьей, мэтр Кошон! В память о нашем знакомстве. На коленях прошу Вас за нее. Не дайте погубить Жанну, умоляю Вас! Спасите ее. Я говорю не о ее чести – о ее жизни. Да благословит Вас Господь!»
Порыв, вихрь, неожиданно взорвавшийся в душе этой грузной, старой, малоподвижной женщины, расплывшееся лицо которой было покрыто слезами, сходил на нет. Когда-то в ней бушевали страсти, великие страсти, и теперь их отголосок тронул ее душу. Она позволила ему ранить сердце и теперь гнала его прочь.
Женщина вновь занесла перо над бумагой и написала:
«Сожгите мое письмо, как только прочтете. – И только после этого поставила две буквы. – И. Б.» Так она расписывалась только в личных письмах, полностью доверяя адресату.
Когда-то красавица, имевшая в руках целое королевство, Изабелла Баварская давно превратилась в жалкую тень самое себя. И даже эта тень была слишком уродлива и нелепа. Она растрачивала себя так, точно была птицей Феникс, которой еще много раз предстояло возродиться из пепла. Но она оказалась простым человек, хоть все и называли ее богиней. Она пленяла первых мужчин королевства, властвуя над их сердцами; изгоняла неугодных ей женщин; распоряжалась несметными богатствами; наконец, носила первую корону Европы. Но была всего лишь простой смертной.
Единственная ее вина в том, что она не знала этого…
До королевы донесся приглушенный смех одной из служанок – звонкий, какой бывает только у юности. Смеху вторил мужской басок. За дверями ее спальни ворковали…
Старая королева огляделась. Шнурок, что будил колокольчик, звоном которого она вызывала прислугу, остался у кровати. До него было не добраться.
– Виолетта! – хрипловатым после сна и слез голосом крикнула она. – Виолетта!
– Да, Ваше Величество? – приоткрыв дверь, негромко отозвалась служанка.
– Шарль пришел? – перебила ее королева. – Я слышала его голос…
– Он уже четверть часа, как у ваших дверей, – скромно ответила служанка.
– Чего же он ждет? Позови его…
Одетый чуть наспех, представ перед очами своей королевы, секретарь низко поклонился.
– Тебя ждет дальний путь, Шарль, – сказала королева. – Ты отправишься в Руан. – Говоря это, она утвердительно кивала головой, точно слов ее было недостаточно. – У тебя будет возможность увидеть своего учителя, мэтра Кошона. – Секретарь, изумленный таким поворотом дела, хотел было открыть рот, но она не дала ему сказать. – К полудню ты должен выехать из Парижа. Поторапливайся, Шарль, дело срочное.
Часть четвертая. Звери рыкающие
«Я пришла во Францию лишь потому, что того хотел Бог. Я бы предпочла быть разорванной четырьмя лошадьми, нежели прийти во Францию без Его позволения. Нет ничего, чтобы я сделала в мире не по заповеди Божьей…»
Из протокола публичных допросов
1
Его преосвященство Пьер Кошон де Соммьевр, епископ-граф Бове вошел в наполненную зимним светом залу, где лорд Бедфорд, в наброшенной на плечи шубе, отдавал распоряжения двум своим секретарям. Слуга Бедфорда тем временем подбрасывал дрова в огромный камин.
– А, Кошон! – воскликнул регент королевства, и три его пса немедленно подняли головы. – Проходите, я с нетерпением ждал вас. Этот документ должен быть готов через полчаса, – сурово бросил Бедфорд секретарям, – идите. Садитесь, Кошон. Жакмен, – обратился он к слуге, – поди прочь. – И когда тот поспешно вышел, добавил: – Все мы в преддверии великих событий, не так ли?
– О, да, милорд…
– К чему пришло предварительное следствие, Кошон? – усаживаясь в свое кресло с высокой, устремленной вверх резной спинкой, почти что трон, кутаясь в шубу, спросил лорд Бедфорд. – Было видно, что он готов целиком и полностью отдаться столь волнующему его делу. – Ваши люди уже вернулись из Лотарингии?
Епископ Бове заметно нервничал. Грозный дядя малолетнего короля Англии Генриха Шестого строго-настрого наказал ему собрать уничтожающий компромат против Жанны Девственницы, послать людей в Домреми, проследить каждый ее шаг, выяснив, когда же она, юная ведьма, порочное создание, сговорилась-таки с дьяволом, чтобы начать свое богопротивное дело – воевать против англичан и помогать самозванцу Карлу, именующему себя королем Франции Карлом Седьмым. Но результаты поисков оказались так ничтожны, что Пьер Кошон не просто загрустил, а едва не впал в отчаяние.
Провести расследование на родине Жанны было поручено Жерару Пети, прево округа Андело в Шампани. И что же он привез из этой дальней поездки, на которую столько надежды возлагал лорд Бедфорд? Устрашающие легенды о том, как деревенские жители были свидетелями взросления колдуньи, насылающей порчу на их скот, готовящей приворотные зелья, замышляющей недоброе против всех и вся? Вовсе нет. Этот болван Жерар Пети привез почти библейский рассказ о послушной христианке, девочке Жаннете; как она любила Францию и как часто ходила в церковь и не пропускала ни одной исповеди. Пришлось выставить незадачливого следователя, не заплатив ему ни ливра за его никчемную работу. Ничтожный прево из Шампани точно предлагал ему, Пьеру Кошону, самому выдумывать о Жанне всяческие небылицы!
Как можно мягче об этом и поведал Пьер Кошон могущественному регенту.
– Что до истории с «деревом фей», – заканчивая рассказ, вздохнул епископ, – что тут скажешь! Кто не водил хороводы вокруг костров, не давал клятвы вековым дубам и не разговаривал с ветром, когда был молод?
– Да вы у нас поэт, Кошон! – грозно сказал регент, и три его пса не менее грозно взглянули на епископа. Этот рассказ разозлил лорда Бедфорда. – Сделайте милость, поделитесь вашими соображениями. Если я не ошибаюсь, осталось меньше месяца до начала процесса.
– У обвинения достаточно фактов и без юности Жанны, – поняв свою оплошность, церемонно поклонился Пьер Кошон. – Граф Уорвик, наверное, говорил вам, что мой агент Никола Луазелер, «брошенный» в ее камеру, как священник из лагеря арманьяков, собрал достаточно сведений о Жанне? У нас есть что предложить трибуналу. Это и голоса «святых», которые «вели» ее, и мужская одежда, в которую она нарядилась, что противно Писанию, и ее безграничная власть над околдованным королем и его приближенными, и грозное оружие в руках девушки, я говорю о боевом оружии, и ее вызывающая кровожадность. Вот где начинается настоящее раздолье для богословов, которых в зале руанской капеллы соберется более сотни. Ей не отвертеться, милорд.