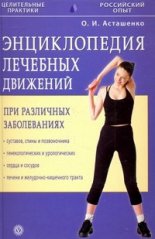Книги нашего детства Лурье Самуил

В конце того же 1920 года Чуковский, один из руководителей Дома Искусств, пригласил Маяковского приехать в Петроград и выступить с чтением своей поэмы «150 000 000». Под 7 декабря в дневнике Чуковского записано: «У Маяк(овского) я сидел весь день — между своей утренней лекцией в Красн(оармейском) У(ниверситете) — и вечерней… Он говорит, что мой Крокодил известен каждому московскому ребенку»[76]. «Крокодил» был известен, как мы видели, и взрослым москвичам, в том числе — самому Маяковскому. В его детской книжке «Что ни страница — то слон, то львица» (1926) иронически сообщается, что лев «теперь не царь зверья, просто председатель». Это сообщение перекликается и, возможно, связано с шуточным примечанием к «Крокодилу» (в журнальной публикации): «Многие и до сих пор не знают, что лев уже давно не царь зверей. Звери свергли его с престола…» Исторически достоверный конец российской монархии переносился в звериное царство, переводился на язык детской сказки.
Сказка Чуковского с рисунками Ре-Ми была переиздана Государственным издательством в 1923 и 1924 годах, издательством «Круг» в 1926 и 1927 годах, издательством «Эпоха» в 1922 году и в том же году — Сибирским областным Госиздатом (два последних издания не учтены в известном библиографическом указателе по детской литературе И. И. Старцева). Была сделана попытка вывести сказку на экран: «К. И. Чуковский готовит инсценировку популярного „Крокодила“ для кино юных зрителей»[77], — сообщала хроника культурной жизни. Чуковский писал И. Е. Репину: «Мои детские книги неожиданно стали пользоваться огромным успехом… „Мойдодыр“, „Крокодил“, „Мухина свадьба“, „Тараканище“ — самые ходкие книги в России. Их ставят в кинематографе…»[78]
Прогулка Крокодила по Невскому превратилась в триумфальное шествие по городам и весям огромной страны и вышла за ее пределы: начали появляться переводы на иностранные языки. «Я получил письмо от издательской фирмы „Lippincott“, что она издает моего „Крокодила“ в переводе Бэббет Дэтч — одной из лучших американских поэтесс, — извещал автор сказок Г. С. Шатуновскую. — Она ждет от меня письма, потому что хочет знать, хочу ли я, чтобы она печатала свой перевод…»[79]
Американская критика высоко оценила сказку, сочиненную «рифмачем, который превзошел даже Гилберта чудесной неожиданностью рифмовки»[80], сказку, в которой «русский язык так привлекателен; Чичерин (!) и тысячи других русских знают ее наизусть»[81]. Высокую оценку получила и работа переводчицы: хотя стиховое мастерство перевода уступает оригиналу, «но это, безусловно, великолепные английские стихи»[82].
В рисунках Ре-Ми особенно привлекательными для американского критика оказались образы животных — двойственные, сочетающие осмеяние и прославление: «Эти рисунки балансируют между морализаторством и юмором… Крокодил — …добрый приятель и страшное чудовище одновременно. Он вызывает нашу симпатию, наш страх и, самое главное, — наше уважение… медведи, слоны, львы, даже обезьяны вышли на рисунках много лучше, чем люди»[83]. К сожалению, ироничность образа главного героя американский критик не заметил: «Ваня, храбрый мальчик, прекрасно подошел бы для статуи, символизирующей гражданскую добродетель где-нибудь в городском парке…»[84]
В письме к Константину Федину, только что ставшему соредактором журнала «Книга и революция», Чуковский обращал внимание адресата на немецкий перевод «Двенадцати» Блока, замечательно выполненный Грегором. «Сейчас, — добавлял Чуковский, — Грегор переводит моего „Крокодила“»[85]. Таким образом, пути «Крокодила» и «Двенадцати» вновь пересеклись — в работе немецкого переводчика[86].
На контртитуле «Приключений Крокодила Крокодиловича», изданных Петросоветом в 1919 году, приютилась надпись: «Посвящаю эту книгу своим глубокоуважаемым детям — Бобе, Лиде, Коле» (в позднейших изданиях было добавлено: «и Муре»). Эта надпись — почти незаметная — должна быть замечена и оценена, так как она тоже своего рода событие в детской литературе: «глубокоуважаемым детям»…
Детей всегда любили и ласкали, заботились о них, как могли, иногда баловали, слегка или изрядно бранили за шалости, учили, воспитывали и так далее, но разве их когда-нибудь уважали? Кажется, даже вопроса об уважении не возникало — ведь они дети! Как писал польский педагог Януш Корчак, человечество в своем развитии открывало одно несправедливое неравенство за другим — и стремилось их преодолеть: социальное неравенство классов, неравенство господствующих и угнетенных наций, неравенство мужчины и женщины в обществе и семье. Пришла пора, полагал Корчак, осознать и преодолеть неравенство взрослых и детей, научиться чтить в ребенке — человека.
Посвятительная надпись Чуковского на «Крокодиле» — неопознанный первый манифест новой литературы для детей, декларация права ребенка на уважение.
Тут, казалось бы, можно остановить рассказ о «Крокодиле»: состоялась издательская судьба сказки, да и читателями он не был обижен, чего же еще? Но шло первое десятилетие советской власти, двадцатые годы, будто бы замечательно либеральные — по бытовавшей долгое время советской же легенде, и коммунистическая полицейщина, одну за другой захватывая все сферы и все этажи общественной жизни, добралась довольно скоро и до детской литературы, такой, казалось бы, невинно-периферийной. Зарубежная исследовательница советской детской литературы 1920-х-1930-х годов назвала свою книгу «Крокодилы и комиссары» — это название как нельзя лучше подошло бы для следующего раздела повествования о первой сказке Чуковского.
Тяготы гражданской войны, ужасающее положение петроградской интеллигенции, задавленной голодом и арестами, нарастающий идеологический и физический террор, по-видимому, отразились в новом замысле сказочника. Летом 1920 года Чуковский «придумал сюжет продолжения своего „Крокодила“. Такой: звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго. И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди — в Зоологическом саду — а звери ходят и щекочут их тросточками. Ваня Васильчиков спасает их»[87]. Этот замысел не был осуществлен, спасение на этот раз не состоялось.
Не случайно в первоначальных набросках к тираноборческому «Тараканищу» («Красному Таракану» — согласно одному из ранних названий сказки[88]), то есть почти сразу вслед за «Крокодилом», появились такие строчки:
- И сказал ягуар:
- Я теперь комиссар
- Комиссар, комиссар, комиссарище
- И прошу подчиняться, товарищи,
- Становитесь, товарищи, в очередь![89]
Разумеется, не могло быть и речи о включении этих строк в опубликованный текст сказки, они так и остались в рабочей тетради Чуковского. С середины 1920-х годов нападки на «крокодилиады» — и прежде всего на «Крокодила», их родоначальника, — вместе с громогласными требованиями запретить все сказки Чуковского приобрели шквальный характер. Никто из хулителей и запретителей не подвергал сомнению талантливость этих произведений, но и самая их талантливость рассматривалась как негативное качество: чем талантливей, тем хуже, тем опасней и вреднее. Мол, талантливость сказок Чуковского — что-то вроде привлекательной для читателей облатки, скрывающей ядовитую пилюлю буржуазности. Для обозначения всех тех ужасов, которые несут в себе эти сказки, было придумано и введено в оборот пугающее словцо «чуковщина» (созданное по образцу названий самых мрачных явлений отечественной истории: «бироновщины», «пугачевщины» или «распутинщины»). Борьба с «чуковщиной» стала знаменем леворадикальной критики и педагогики.
К. Свердлова писала о «чуковщине» как об антисоветском сговоре «части писательской интеллигенции»[90]. Некоторые из ее инвектив уместней было бы предъявить не Чуковскому, а его предшественникам, традицию которых сказочник оспаривал «Крокодилом», — например, «культ хилого, рафинированного ребенка, мещански-интеллигентской детской»[91]. Другие обвинения — очень опасные по тем временам — способны озадачить нынешнего читателя: Чуковскому ставились в вину «боязнь разорвать с корнями „национально-народного“ (в кавычках! — М. П.) (…) культ и возведение в философию „мелочей“, нелепиц (…) неорганизованных ритмов „национальной поэзии“ (снова в кавычках! — М. П.) (…) культ отмирающей семьи и мещанского детства…»[92]
На борьбу с «чуковщиной» был мобилизован «голос народа»: общее собрание родителей Кремлевского детсада постановило «не читать детям этих книг, протестовать в печати против издания книг авторов этого направления»[93].
Они добились своего: в 1926 году ленинградский Гублит (т. е. орган политической цензуры) бессрочно запретил «Крокодила» к переизданию. Литератор 1920-х годов, еще не вполне освоившись в наступившей новой бравой эпохе, простодушно полагал, что с цензурой можно объясниться, как это делали в своем девятнадцатом веке Некрасов и его современники. Чуковский вступил в объяснения с цензурой: 26 октября 1926 года написал заявление заведующему ленинградским Гублитом.
I.Я могу гордиться тем, что я положил основание новой детской литературе. Будущий историк этой литературы отметит, что именно с моего «Крокодила» началось полное обновление ее ритмов, ее образов, ее словаря.
Дворянская и чиновничья среда, где культивировалось «Задушевное слово», была разрушена до основания. Революция создала новое поколение детей, которое потребовало от своей литературы нового языка, нового стиля, новых ритмов, — и моя поэма в каждой своей запятой шла навстречу этим новым требованиям. Оттого-то вся новая малолетняя Русь заучила эту поэму наизусть (…)
II.Поэтому был весьма изумлен, когда узнал, что Гублит не нашел возможным разрешить четвертое издание этой книги, сочтя ее опасной и вредной.
Я был уверен, что если ее сюжет в кое-каких местах и не отвечает тем (вполне основательным) требованиям, которые теперь предъявляются к детским стихам, то ее стиль, ее форма, ее стиховая структура, ее общее направление вполне гармонируют с тем новым ребенком, которого создала революция. Так до сих пор смотрели на дело многие большие коммунисты. Ленинградский совет рабочих и крестьянских депутатов не побоялся в самые бурные годы издать эту книгу в огромном числе экземпляров, а впоследствии ее дважды перепечатывали в Госиздате.
Никак не могу понять, почему советская власть на девятом году революции внезапно сочла эту книгу столь вредной.
III.Впрочем, теперь мне обещают разрешить мою книгу, если я в ней переделаю кое-какие страницы.
— Каких же вы требуете от меня переделок?
— Выбросите прочь городового и замените его милиционером.
Это крайне удивило меня.
— Неужели вы хотите, чтобы крокодил глотал не царского городового, а советского милиционера, — и глотал наравне с собакой?!
— Нет, — говорили мне. — Это и вправду неловко. Пусть городовой остается, но замените Петроград — Ленинградом.
— Как! Вы хотите, чтобы в городе Ленина оставались старики городовые, которых глотают кровожадные гадины!
— Нет, но мы вообще хотим, чтобы вы придали «Крокодилу» советскую идеологию.
— Но в нем и так ничего антисоветского нет.
— Помилуйте, в нем есть елка, — предмет религиозного культа для буржуазных детей.
С этим я, конечно, не спорю: елка в моем «Крокодиле» имеется, но служит она, конечно, не религиозному культу, а беззаботному веселью детей. Не религия в елке, а поэзия, и каким нужно быть Угрюм-Бурчеевым, чтобы эту поэзию отнять у ребенка.
Горячо протестую против всей этой угрюм-бурчеевской практики[94].
Нужно ли говорить, что обращение в Гублит ничего не дало, а преследование сказки, уже запрещенной, — в печати продолжалось. Эстетические и идеологические смыслы этой травли перекрывались пафосом запрета — запретительство становилось самым выразительным знаком советской лояльности. Особую силу запретительным призывам придавало то немаловажное обстоятельство, что исходили они от людей, занимавших видные посты в советской иерархии, связанных с высокопоставленными советскими деятелями служебными, дружескими или родственными отношениями. Чуковский набросал (в 1929 г.) хронологию мытарств своего «Крокодила», далеко, впрочем, не полную:
Задержан в Москве Гублитом и передан в ГУС (Государственный ученый совет при Наркомпросе. — М. П.) — в августе 1926 года.
Разрешен к печати Ленинградским Гублитом 30 октября 1927 г., после 4-месячной волокиты.
Но разрешение не подействовало, и до 15 декабря 1927 г. книгу рассматривал ГУС.
Я был у Кр(упской). Она сказала, что я вел себя нагло. 15 декабря разрешили, но «в последний раз» — и только 5000 экземпляров.
21 декабря Главлит, невзирая на ГУС, окончательно запретил «Крокодила». 23 декабря оказалось, что не запретил окончательно, но запретил «КРУГУ». Отказано. Тогда же-в «Молодую гвардию», не купит ли она. (А. Н.) Тихонов сообщил о В<оровском?>.
Сегодня, 28-го, от «КРУГА» идет в Главлит депутация — просить, чтобы «Крокодила» оставили «КРУГУ». Вчера Луначарский послал письмо в ГУС, чтобы разрешили «Крокодила» 10 тыс. О том же телеграфировал вчера Покровский — Менжинской. О. Ю. Шмидт обещал вчера присутствовать на заседании.
27. XII. в шесть час. вечера на комиссии ГУСа разрешено 10 000 экз. «Крокодила».
21.1.1928 г. получил 2 экз. «Крокодила» по 1 р. 50[95].
Для Чуковского не прошла даром «наглость», заключавшаяся в попытке разъяснить Крупской, «что педагоги не могут быть судьями лит(ературных) произведений, что волокита с „Крок(одилом)“ показывает, что у педагогов нет твердо установленного мнения, нет устойчивых твердых критериев, и вот на основании только одних предположений и субъективных вкусов они режут книгу…»[96]
1 февраля 1928 годапоявилась разгромная статья Н. К. Крупской о «Крокодиле»: в сказке Чуковского она видела издевательскую пародию на Н. А. Некрасова и политически опасную чепуху. «Что вся эта чепуха обозначает? Какой политический смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато. Или это простой набор слов? Однако набор слов не столь уж невинный (…) Такая болтовня — неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником — веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, „Крокодил“ ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть»[97]. Исходящая от председателя научно-педагогической секции ГУСа, председателя Главполитпросвета, члена ЦК ВКП(б) и вдовы В. И. Ленина, помещенная в центральном органе правящей партии, эта статья поставила Чуковского на грань литературной и гражданской катастрофы. Он снова попытался объясниться — обширным письмом (здесь приводится в сокращении):
В ЗАЩИТУ КРОКОДИЛА1.Н. К. Крупская утверждает, что в моем «Крокодиле» есть какие-то антисоветские тенденции.
Между тем «Крокодил» написан задолго до возникновения Советской республики. Еще в октябре 1915 года я читал его вслух на Бестужевских курсах, а в 1916 году давал его читать Максиму Горькому.
В то время «Крокодила» считали не Деникиным, но кайзером Вильгельмом II.
При таком критическом подходе к детским сказкам можно неопровержимо доказать, что моя Муха-Цокотуха есть Вырубова, Бармалей — Милюков, а «Чудо-дерево» — сатира на кооперацию.
Ведь утверждал же один журналист по поводу моего «Мойдодыра», что я там прикровенно оплакиваю горькую участь буржуев, пострадавших от советского строя. «Читайте сами», — говорил журналист:
- Одеяло убежало,
- Улетела простыня,
- И подушка, как лягушка,
- Ускакала от меня.
Что это как не жалоба буржуя на экспроприацию его имущества!
У меня нет никаких гарантий, что любая моя сказка — при желании критика — не будет истолкована именно так.
Но к счастью, когда мой «Крокодил» появился в печати (в январе 1917 года), миллионы детей сразу поняли, что «Крокодил» есть просто крокодил, что Ваня есть просто Ваня, что я сказочник, детский поэт, а не кропатель политических памфлетов. (…)
Понял это и Петроградский Совет Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов, издавший эту книгу в 1918 году и распространивший ее в несметном количестве экземпляров.
II.Второй недостаток «Крокодила», по мнению Н. К. Крупской, заключается в том, что здесь я пародирую Некрасова. Приводя такие строки:
- Узнайте, милые друзья,
- Потрясена душа моя, —
Н. К. Крупская пишет:
— «Эта пародия на Некрасова не случайна: Чуковский ненавидит Некрасова». Между тем это пародия не на Некрасова, а на «Мцыри» Лермонтова:
- Ты слушать исповедь мою
- Сюда пришел. Благодарю!
Хотя, признаться, я не совсем понимаю, почему нельзя пародировать того или другого поэта. Разве пародия на поэта свидетельствует о ненависти к нему? Ведь тот же Некрасов много раз пародировал Лермонтова — неужели из ненависти? Разве из ненависти пародировал Лонгфелло «Калевалу» в своем «Гайавате»? Стоит прочитать любую научную работу по истории и теории пародии, чтобы эти упреки отпали сами собой.
III.Н. К. Крупская упрекает крокодила за то, что он мещанин. Но почему нужно, чтобы он был пролетарием? Вообще же я думаю, что советская власть вовсе не требует, чтобы все детские книги, все до одной, непременно были агитками. Иначе Госиздат не печатал бы в нынешнем году таких явно буржуазных шедевров, как «Приключения Тома Сойера», «Приключения Геккельбери Финна», сказки Киплинга и много других.
Может быть, мой «Крокодил» — и бездарная книга, но никакого черносотенства в ней нет. (…) Я не выдаю этой идеологии за стопроцентный марксизм, но точно так же не вижу причин, чтобы топтать эту книжку ногами.
IV.H. К. Крупская обвиняет меня, кроме того, в неуважении к народу: «народ трус, — дрожит и визжит от страха» и проч. Но неужели мы вернулись к семидесятым годам, когда под словом народ всегда подразумевалось крестьянство? Стоит только всмотреться в картинки к моему «Крокодилу», чтобы понять, о каком народе я здесь говорю: гимназисты в форменных фуражках, лавочники, франты в котелках, — неужели Н. К. Крупская заступается за этот народ?
V.Таким образом приговор Н. К. Крупской основан на ошибочных данных:
1. В «Крокодиле» нет и не может быть антисоветских тенденций, так как он написан до революции.
2. Некрасова я не пародировал, а пародировал Лермонтова.
3. Народа я не оскорблял, а оскорблял только франтов и лавочников.
Не сомневаюсь, что после этих фактических справок Н. К. Крупская возьмет свое обвинение назад.
Я пишу эти строки не для того, чтобы полемизировать с Н. К. Крупской, а для того, чтобы показать, как беззащитна у нас детская книга и в каком унижении находится у нас детский писатель, если он имеет несчастье быть сказочником. Его трактуют как фальшивомонетчика, и в каждой его сказке выискивают тайный политический смысл[98] и т. д.
О своей беде Чуковский оповестил коллег, и на свет появилось ходатайство, адресованное народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому и подписанное сорока пятью видными писателями и учеными. Лидия Чуковская, не известив отца, обратилась с письмом к М. Горькому (в Сорренто), прямо называя инцидент с «Крокодилом» — травлей. Она поставила М. Горького в известность о том, что рецензия Крупской лишает Чуковского возможности работать в тех двух областях, которые только и остались ему в пореволюционной России — в области детской литературы и некрасоведения. «Рецензия Крупской (на „Крокодила“. — М. П.) равносильна декрету о запрещении книг К. И. Половина его книг уже запрещена ГУСом; ходят слухи, что редактура нового издания (сочинений Некрасова. — М. П.) будет поручена не ему…»[99]
14 марта 1928 г. в «Правде» появилось «Письмо в редакцию» М. Горького (по некоторым сведениям, переданное в редакцию по телефону). Указав целый ряд несообразностей в статье Н. К. Крупской и отводя ее нелепые нападки, Горький заключал: «Все это совершенно не является материалом для обвинения Чуковского „в ненависти“ к Некрасову и идейной вражде к нему. Неверным кажется мне и указание на то, что Чуковский „вложил в уста Крокодила пафосную пародию на Некрасова“. Во-первых, почему это — „пафосная пародия“? А уж если пародия, то скорее на „Мцыри“ или на какие-то другие стихи Лермонтова. Очень странная и очень несправедливая рецензия. Помню, что В. И. Ленин, просмотрев первое издание Некрасова под редакцией Чуковского, нашел, что это „хорошая, толковая работа“. А ведь Владимиру Ильичу нельзя отказать в уменье ценить работу»[100].
М. Горький весьма кстати сослался на Ленина: в зловещей игре, затеянной вокруг Чуковского и его «Крокодила», Крупская была, несомненно, козырной дамой, и отбиться от нее можно было разве что козырным тузом. Об отзыве Ленина Чуковский знал и прежде — скорее всего, через В. Воровского (возможно, именно так следует расшифровывать приведенную выше запись Чуковского: «Тихонов сообщил о В.»).
Вмешательство М. Горького спасло гражданскую репутацию Чуковского, но не помогло «Крокодилу». Свое краткое описание крокодиловых хождений по мукам Чуковский закончил так: «Август (1928). Повторная моя просьба в ГУС о разрешении „Крокодила“ отвергнута. В апреле 1929 г. Главсоцвос вновь запретил „Крокодила“»[101]. Отдельное издание сказки состоялось лишь десять лет спустя после описанных событий. А затем последовал новый четвертьвековой запрет — до 1964 года.
В 1962 году, присваивая восьмидесятилетнему писателю звание почетного доктора литературы, Оксфордский университет среди прочих его заслуг назвал и то, что он является автором всемирно известного «Крокодила».
Владимир Маяковский
«Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий»
Cказка — митинг, сказка — плакат
Маяковский В. Сказка о Пете, толстом ребенке и о Симе, который тонкий. М., Московский рабочий. 1925. Обложка. Художник Н. Купреянов.
Иллюстрация воспроизводится без масштабирования, в размере оригинала.
В. Маяковский. Москва, 1923. Фото А. Штеренберга.
Н. Н. Купреянов. 1920-е годы.
В. Маяковский. Рис. Кукрыниксов.
В. Маяковский.
Маяковский В. Сказка о Пете, толстом ребенке и о Симе, который тонкий. М., Московский рабочий. 1925. Художник Н. Купреянов.
Последняя иллюстрация воспроизводится без масштабирования, в размере оригинала.
Это рассказ о том, как Владимир Маяковский в 1923 году задумал, в 1925 году написал и тогда же опубликовал отдельной книжкой с рисунками художника Н. Купреянова свое первое произведение для детей — «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий». Рассказ о смысле этой сказки в ряду других стихов Маяковского для детей и в соотнесении со всем его творчеством. О том, как толковали сказку прежде и теперь, как принимали ее читатели — дети и взрослые — тогда, в двадцатые, и в последующие годы.
Когда назойливые репортеры осаждали Маяковского вопросом — «над чем работаете?», поэт добродушно отшучивался: ну, чего пристали, как-никак — сам писатель, нужно будет — напишу…
Когда стало нужно, он написал — в предисловии к сборнику «Вещи этого года»:
АФИШИРУЮ!
Сейчас пишу:
Роман (20–40 листов), проза.
Пьеса (16 картин от Адама и Евы).
Образцовая повесть.
Эпопея Красной Армии.
Стихи о Нордене.
Стихи о Нордернее.
О Сене и Пете (детское).
Названия есть, совершенствуются и будутопубликованы.
25/VII-23. Берлин[102].
«О Сене и Пете (детское)» — так выглядит первое известие о замысле детской сказки. Из этого сообщения можно сделать, кажется, только один вывод: количество персонажей будущего произведения было определено сразу. Этот более чем скромный вывод на самом деле связан со всем замыслом сказки: она была задумана как резкое противопоставление двух персонажей, на манер плакатных «Окон РОСТА», где в одной половине листа (по вертикали) развивалась тема «пролетария» — в красных тонах, в другой — тема «буржуя», на которую шла одна лишь черная краска. От такого противопоставления хорошее, надо полагать, становилось еще лучше, дурное — еще гаже.
Крайности романтической поэтики Маяковский совместил с крайностями политического размежевания мира — это и дало «плакатный», бескомпромиссно-двучленный, без нюансов и полутонов эффект его поэзии.
Первоначально задуманные Петя и Сеня стали потом Петей и Симой, и об этой пустячной замене имени не стоило бы и говорить, если бы в ней не выразился — с парадоксальностью, уже невнятной современному читателю, — все тот же принцип контрастной противоположности персонажей. Для чего понадобилось менять имя пролетарского мальчика? Сеня — уменьшительное от Семен, Сима — уменьшительное от Симон: не такое уж распространенное и не очень «пролетарское» имя. Между тем после замены имени Сеня на имя Сима главные персонажи сказки сделались тезками.
Некогда в русском языке бытовало ходкое выражение «превратиться из Савла в Павла». Оно возникло из легенды о яростном гонителе христиан иудее Савле, который, перейдя в христианскую веру, стал ее ревностным проповедником, одним из основателей христианской церкви — апостолом Павлом. Выражение «превратиться из Савла в Павла» имеет смысл: «резко изменив свои убеждения, из гонителя чего-нибудь превратиться в проповедника этого ранее гонимого»[103].
Игра на старом и новом — на языческом и христианском имени одного и того же лица — послужила Маяковскому моделью для наименования своих персонажей Петей и Симой, ибо Симон — это дохристианское имя апостола Петра: «…увидал… Симона, который звался Петром» (Матф. 4: 18); «имена апостолов такие: первый Симон, что Петром называется…» (Матф. 10: 2) Арамейское «Симон» и греческое «Петр» одинаково значат «камень». На этом «камне», согласно Евангелию, Христос намеревался воздвигнуть свою Церковь. Маяковский, как видим, вызывающе воздвиг на нем свою атеистическую сказку. Такой перевертень вполне в духе романтически-богоборческой поэзии Маяковского: бросая вызов Богу во имя земного человеческого счастья, поэт использовал библейскую и евангельскую образность, придавая ей иной смысл.
Маяковский расколол одно лицо с двумя именами на двойников вроде стивенсоновских доктора Джекила и мистера Хайда, на двух противопоставленных персонажей с соотнесенными именами, и все свои симпатии подарил герою с «языческим», нехристианским именем. Симе (Симону) он отдал полный набор позитивов, а Пете (Петру) — все негативное. Тонкий и толстый, бедный и богатый, щедрый и жадный, добрый и злой, трудолюбивый и ленивый, производитель и эксплуататор — эти противоположные друг другу качества проходят и через имена персонажей. Более того — начинаются с имен, заданы именами в первой же строчке сказки: «Жили были Сима с Петей…» Имена вводят в эту систему еще одну оппозицию: безбожник (язычник) — верующий (христианин).
Затем, сообщив о возрасте каждого, Маяковский почему-то начинает складывать года одного персонажа, с годами другого. Дело как будто заведомо бессмысленное: о чем может говорить сумма возрастов героев-антагонистов? Но в результате этого загадочного манипулирования получается число двенадцать — «и 12 вместе всем», — снова отсылающее нас к тому ряду образов, из которого взяты имена персонажей. К тому своему «источнику», где персонажей двенадцать вместе всех…
- Жили были
- Сима с Петей.
- Сима с Петей
- были дети.
- Пете 5,
- а Симе 7 —
- и 12 вместе всем.
Ритм и счет превращают зачин сказки в «считалку необыкновенной силы и выразительности, приближающуюся по своим метрическим особенностям к традиционным считалкам-числовкам»[104]. Принимая это меткое наблюдение М. Китайника, нужно добавить, что кроме цифровой игры зачин содержит еще незамеченную игру между цифрами и именами. Маяковский сделал неявным евангельское происхождение имен, взяв их в уменьшительных формах, а игру между цифрами и именами прикрыл графикой — числовым, а не словесным начертанием цифр. Игра открывается в произношении, в звучании стиха: «Пете — пять, а Симе — семь». С точки зрения «поэтической этимологии» имя и возраст персонажа становятся не просто созвучными, но как бы однокоренными словами. Возраст словно бы задан именем. Строфа зачина завязывает в тугой узел имя, возраст и характер персонажей. Петя и Сима противостоят друг другу и нерасторжимо соединены этим противопоставлением.
Но в сообщении, где Маяковский «афишировал» замысел стихов о Пете и Сене, ни слова не говорилось о том, что это будет — сказка. Возможно, жанр был определен позже. Сказка о Пете и Симе — единственная вещь Маяковского для детей, которая названа (и действительно в какой-то мере является) сказкой. Это слово — как и все слова у Маяковского — значительно.
Названия своих стихов поэт считал важной, неустранимой и неизменяемой частью произведения. Неустранимой и неизменяемой, подобно каждой другой строке поэтической вещи, и более важной, нежели любая из них. От исполнителей своих стихов — артистов-чтецов (слово «декламатор» он не любил, находя его безнадежно опошленным) — поэт требовал неукоснительно точного воспроизведения названий. От издателей своих книг — графической культуры заголовочного рисунка или набора. Многие названия его произведений (в том числе название сказки о Пете и Симе) — стихи, ритмически организованные и скрепленные рифмой. Жанровое определение — ключ к тексту, и если вещь поэта названа сказкой, то она и должна читаться как сказка, даже если в тексте нет ничего привычно сказочного…
А в сказке о Пете и Симе к тому же есть несомненно сказочно-фантастическое мотивы и эпизоды. Сказочно Петино обжорство и Симино трудолюбие, сказочны разговоры между детьми и зверями, пересылка живого мальчика, пусть даже и буржуя, по почте и взрыв, который разметал всю поглощенную Петей пищу в первозданной свежести. Сказочность многое определила в судьбе книжки о Пете и Симе и неожиданным образом повлияла на дальнейшую работу поэта: больше сказок для детей он не писал.
Странное дело: никто не обратил внимания на почти полное и тем более удивительное отсутствие в детских стихах Маяковского фантастических, сказочных мотивов (если же исключить сказку о Пете и Симе, то и без «почти» — просто полное). И это у Маяковского — прирожденного романтика и фантаста! У Маяковского, «взрослые» стихи которого ломятся от изобилия невероятных вымыслов! У Маяковского, который не мог сочинить и строчки без гипербол, без одушевления неодушевленных предметов, без всяческих «невероятных приключений» и гротеска!
Вспомним: в стихах Маяковского Медный всадник может спешиться и направиться в ближайший ресторан, на заседании могут присутствовать половинки людей (вторая половинка — на другом заседании), а Смольный снимается с места и, словно корабль по морю, плывет по суше. Портрет Маркса со стены произносит антимещанские тирады, к поэту в гости по-добрососедски заходит Солнце. А какие чудесные метаморфозы, возможные только в волшебных сказках, случались с ним самим! Он превращалася в собаку («Вот так я сделался собакой»), в быка и лося («Анафема»), в «заморского страуса» («России»), в «людогуся» — получеловека, полуптицу («Пятый Интернационал»), в «человеко-медведя» («Про это»)[105].
Ему ничего не стоило, например, извлечь из правого глаза целую цветущую рощу. Поэт запросто разговаривал с Пушкиным, Верленом, Лермонтовым, с лермонтовским Демоном, с пароходами, мостами и Эйфелевой башней. В детских же стихах никаких «красивых безумств» Маяковский себе не позволял. Даже в сказке о Пете и Симе не так уж много сказочного. Об остальных стихотворениях и говорить нечего. Там безраздельно господствует рационализм, особенно заметный при сравнении с бурной экспрессивностью поэтического мышления «взрослых» стихов Маяковского.
Когда Маяковский выпустил «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий», он был уже автором не менее десяти произведений, жанр которых определил как сказку и включил слово «сказка» в названия этих вещей: «Сказка о…», «Сказка для…», «Сказка про…». Некоторые его вещи не названы сказками, но их принадлежность к этому жанру несомненна: «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума» — не столько рассказ, сколько сказка. Один из ее сказочных эпизодов варьируется в сказке о Пете и Симе.
Эти сказки — по названию или по существу — Маяковский рассказывал кому угодно: мужикам, шахтерам, красноармейцам, сартам и киргизам тоже — но почему-то только не детям! На десяток «взрослых» произведений, которые поэт считал сказками, — одно сказочное произведение для детей, — не правда ли, странное соотношение? Было бы естественней, если бы — наоборот. В самом деле, кому же и рассказывать сказки, как не детям? Тем более что Маяковский объявил однажды это занятие нетрудным: «Рассказывать сказки совсем не хитро» («Баллада о бюрократе и о рабкоре»).
Летом 1917 года, когда Маяковский, еще не написавший ни одного детского стихотворения, задумал издать книжку для детей, он отобрал для нее из своих готовых вещей — сказку. Это была «Сказка о Красной Шапочке». Маяковский, как мы видели, был прекрасно вооружен для создания сказок. Были у него и веселые сказочные замыслы: «Как вы думаете, — спрашивал он своего знакомого, — может выйти детская сказка из таких строчек:
- Жил царевич Помидор
- И царевна Помидура..?»[106]
Эти строчки, за которыми нетрудно представить замысел веселой, иронической и, конечно же, игровой сказки, были сымпровизированы Маяковским (насколько можно понять из текста мемуарного очерка) в 1926 году — сразу после издания сказки о Пете и Симе. Однако за четыре оставшихся Маяковскому года жизни он так и не воплотил этот замысел.
В те годы, когда Маяковский сочинял свои стихи «для детков» (1923–1930), советская детская литература уже имела несомненные достижения, но многое еще было неясно. Далеко не ясно было, что делать с литературным наследием прошлого, которое, с одной стороны, конечно, классическое, но с другой — несомненно буржуазное. Сказка казалась средоточием пережитков старого режима, так как имела сомнительное буржуазное (или даже феодальное) происхождение и всеми своими чудесами, превращениями, вымыслами давала повод к идеалистическим истолкованиям. Не следует ли похерить это старорежимное порождение, подобно тому как Октябрьская революция покончила со старым режимом? Шел спор о том, допустимы ли в произведении для детей одушевление неодушевленных предметов и очеловечивание животных, антиматериалистическое волшебство, монархический культ царей и принцев. Детская болезнь левизны кружила головы многим администрирующим деятелям детской литературы. Болезнь протекала в условиях все более возрастающей роли литературно-политической администрации.
И вот влюбленный в коммунистическое будущее, проклинающий буржуазное прошлое Маяковский решил, что если для коммунизма не нужны сказки, то обойдемся без сказок, лишь бы это великолепное будущее поскорее пришло, — и стал вытравливать из своих детских стихов сказочность, волшебство, фантастику. Он стал перевоспитываться, чтобы принести больше пользы. Маяковский, по словам Маршака, беседовал с детьми «осторожно, сдерживая свой громовый голос»[107]. Он сдерживал не только голос, но и душевные порывы — страсть к игре и фантастике, жажду сказочности. Он получил несколько резких уроков. Уроки исходили от лиц и учреждений, авторитет которых Маяковский несколько преувеличивал. Прислушаться к этим урокам он считал своим гражданским долгом.
Один из них был дан поэту на заседании комиссии по новой детской книге при отделе детской литературы Госиздата. Никакой обязанности отчитываться перед комиссией у Маяковского не было — он сам, по собственному почину потребовал обсуждения своей первой вещи для детей. Возможно, здесь следует усмотреть неуверенность поэта, вступившего в новую для него область литературы. Он, социалистический поэт, чувствовал себя «советским заводом, вырабатывающим счастье», а не какой-нибудь частной поэтической лавочкой, и требовал внимания государственных учреждений к своему — тоже государственному — производству. Маяковский подвергал готовую вещь последней, решительной проверке.
Главный редактор журнала «Огонек» Михаил Кольцов, узнав про намеренье Маяковского, послал на заседание комиссии фотографа С. Тулеса[108]. Снимок фотокорреспондента был опубликован в «Огоньке»[109] с обширной подписью, перечислявшей всех присутствовавших на обсуждении. На снимке мы видим Маяковского как бы зажатым в клещи, взятым в кольцо членами комиссии и знаем поименно всех его тогдашних оппонентов.
Обсуждение проходило в конце марта 1925 года — уже после того, как рукопись сказки была сдана в издательство. Маяковский прочел собравшимся сказку по рукописи в тетрадке. В этой же тетрадке — сразу за текстом — он отрывочно записал реплики выступавших вперемежку со своими возражениями. Заметки Маяковского (по ним, конечно, строилось ответное выступление поэта) трудно поддаются расшифровке[110], но кое-что угадывается без большого труда. Ход обсуждения отчасти может быть реконструирован.
Маяковского корили тем, что его сказка местами похожа на сказки Чуковского (тоже разруганные): «Крокодилы, котор(ые) живут в Ниле», «Что Чуковский. „Примитивность“[111]»: с этим же обвинением, по-видимому, связано отдельно записанное слово — «Горилла». Одновременно обвиняли и в том, что его сказка местами не похожа на разруганные сказки Чуковского: «Лишена движения. Чуковский». Его попрекали «нелепостями», которые встречаются и у Маршака, на что Маяковский возразил резкой записью: «Фрикасе — надо». Он имел в виду строчки из нравившегося ему маршаковского «Цирка»: «Мадам Фрикасе На одном колесе». Каскад обвинений в стилистической сложности, грубости, непонятности сказки и ее непригодности для детей отразился в записях: «Гиперболизм — не детское дело. Груб. Юмор может устроить взрослого», «Стиль сложный. Антипедагогичность»[112]. «Вещь для школьного или дошкольного?»[113]
Несуразица замечаний членов комиссии то и дело вызывала насмешливые записи Маяковского: «Ни для кого не секрет», «Бедные преподаватели», «Ничего не поняли». Итог обсуждения он выразил так: «Выводы — Я свою книгу храню, а у брата коклюш». Последнее слово записано неразборчиво, может быть, там стоит что-то другое, но мысль Маяковского понятна. Он хотел сказать нечто вроде: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Не о том говорили уполномоченные дяди и тети. Не о том, что он хотел от них услышать. Не то и не так.
Все же некоторые замечания комиссии он принял. Смирил свое раздражение и, как говорится, учел критику. Поубавил гипербол, которые «не детское дело», снял избыточно-натуралистическое описание лопнувшего Пети и явно «Чуковского» бегемота «из протухших Нильских вод», убрал несколько грубовато-просторечных выражений. Внес кое-какие мелкие поправки. Все сокращения и замены, сделанные Маяковским по замечаниям комиссии, относятся к периферии сказки. Главное в ней они не задевают. Он отбрасывал мелочи, защищая сущность своей работы, как ящерица, спасаясь от преследования, отбрасывает хвост.
«Должник вселенной», пропустивший через свое сердце все катаклизмы богатого потрясениями века, Маяковский, «шагая левой», пришел в поэзию для маленьких детей и, по известному афоризму С. Маршака, написал четырнадцать стихотворений, решив ими столько же сложнейших задач детской литературы.
Маяковскому принадлежит не постановка этих задач — она-то как раз вменялась советской литературе для детей в целом, — а чрезвычайно своеобразное, глубоко личностное, «маяковское» их решение. Разногласия между Маяковским и его коллегами по поэтическому цеху — советскими поэтами, писавшими для детей, — лежали не только в области свободных и классических размеров, «лесенок», «столбиков», мужских, женских, составных и каламбурных рифм, аллитераций, ассонансов и других, впрочем, весьма серьезных вещей, но и в отношении к самой литературной проблеме детства. Прежде всего — к идее детства, обладающего самостоятельной ценностью, самодовлеющего.
Эту проблему Маяковский решил неожиданным, но чрезвычайно характерным образом: каждой буковкой своих стихов Маяковский уговаривал детей поскорее покинуть «страну детства» и перейти в подданство великой «страны взрослых». Детство в качестве особого, условно замкнутого и самодостаточного мира как будто не интересовало Маяковского, и он не уставал призывать своих маленьких читателей поскорее пробежать этот возраст, как пробегают второпях опасный или скучный участок пути. Главное время в его стихах для детей — будущее взрослое:
- Мы сомкнутым строем
- в коммуну идем —
- И старые,
- и взрослые,
- и дети.
- Товарищ подросток,
- не будь дитём,
- А будь —
- борец и деятель.
Более четкой и недвусмысленной формулы «антидетства» и представить себе нельзя. Маяковский просит, Маяковский уговаривает, Маяковский заклинает: не будь дитём! Ну да ладно, в этих строчках он обращается все-таки к подростку, но в обращениях к самым малым детям — именно к «дитяти» — то же самое. Даже историю картонной лошадки Маяковский рассказывает не просто так, а потому, что «сын отцу твердил раз триста, за конем его гоня: „Я расту кавалеристом…“» Даже на прогулке, где чем бы, казалось, и заниматься, как не гулять, поэт показывает малышу (а герой стихотворения «Гуляем» — совсем еще крошечный ребенок) на комсомольца и говорит: вырастешь — будь таким; показывает на рабочего и говорит: вырастешь — будешь таким. Одно из наиболее популярных детских стихотворений Маяковского так и названо: «Кем быть?» — то есть кем быть не сейчас, а потом, когда вырастем и станем взрослыми.
- У меня растут года,
- будет и семнадцать.
- Где работать мне тогда,
- чем заниматься?
А. Ивич по поводу этих строк точно заметил: «„Будет и семнадцать“ — не значит, что уже приближается этот рубеж между учением и работой. Нет, стихотворение написано для детей, еще увлеченных игрой в трамвай и кондуктора, в доктора и больного»[114]. Но ведь то и замечательно в этих строчках, что написаны они от имени шести-, восьми- или десятилетнего ребенка, а речь ведется так, словно выбор профессии — уже сегодняшняя неотложная необходимость, словно семнадцать исполняется если не на будущей неделе, то уж, во всяком случае, не больше чем через год-два! Этот «перенос» во взрослое будущее, которое мыслится более конкретным, нежели нынешняя детская реальность, — черта чрезвычайно характерная для стихотворений Маяковского, адресованных детям.
И когда мы читаем в другом его стихотворении: «Должны уметь мы целиться, уметь стрелять», «Мы будем санитарами во всех боях», «За камнем и за веткою найдем врага», — то не нужно понимать эти строки так, будто дети прямо из стен детского сада или пионерского форпоста отправятся на театр военных действий, — нет, здесь речь идет об относительно отдаленном будущем, о времени, когда нынешние дети станут взрослыми бойцами, но это отдаленное будущее — единственная реальность стихотворения. Сегодняшний ребенок охарактеризован одной чертой, и эта его черта — кем и каким он должен стать, когда перестанет быть ребенком.
Если Маяковский похвалит за что-нибудь малыша, то похвала соизмеряется с пользой, которую одобренный поступок принесет потом, со временем:
- Храбрый мальчик,
- хорошо,
- в жизни пригодится.
То есть пригодится в будущей, взрослой жизни, потому и хорошо. Если же отмечается «хорошесть» малыша именно как малыша, а не будущего взрослого, то делается это иронически:
- Он
- хотя и маленький,
- но вполне хороший.
В названии сказки о Пете и Симе ребенком именуется только буржуйское дитя: «о Пете, толстом ребенке…» К Симе, сыну пролетария, это слово ни в коей мере не относится — Сима не «тонкий ребенок», а просто — «тонкий». На мгновение они объединены словом «дети» — «Сима с Петей были дети», но возраст героев, названный в первой же строфе сказки, снова разводит их: «Пете 5, а Симе 7», — странно подумать, но сравнительно малый возраст заявлен как социальная характеристика, компрометирующая «толстого ребенка». Если опираться не на эти «анкетные данные», а на резкие характеристики самой сказки, то Петю и Симу разделяют не два года (два года разницы — это пустяки!) — их разделяют десятилетия, их разделяют века, целая социальная эпоха. В образе Пети уродливо выпячены почти идиотические, бессмысленно-младенческие черты, трактуемые как «буржуазные». В образе Симы — любовно выделены сознательно-взрослые, «социалистические» черты. В результате «толстый» выглядит намного меньше своих пяти лет, этаким карикатурно не растущим Питером Пеном, прожорливым «малюткой Гаргантюа»; «тонкий» же кажется гораздо старше своего возраста — миниатюрным подростком, юношей с ухватками взрослого человека.
Кажется, располагай Маяковский машиной времени — такой, например, какую изобретает Чудаков в «Бане», — он немедленно отправил бы всех детей в их взрослое будущее. А поскольку такой машины у него нет, он поэтическим словом подстегивает события, торопит рост этих детей — давайте, растите скорей, не задерживайтесь на пустяках! «Расти», «вырастать» — самые актуальные слова в детских стихах Маяковского. Смысл сказки о Пете и Симе выражен так:
- Вот и вырастете —
- истыми
- силачами-коммунистами.
В черновике сказки было еще место, не вошедшее в окончательный текст:
- Подрасти б чуть-чуть для меры
- и годится
- в пионеры.
В других вещах для детей — то же самое:
- Вырастет
- из сына
- свин,
- если сын —
- свиненок.
(«Что такое хорошо и что такое плохо?»)
- Когда подрастете,
- станете с усами,
- на бога не надейтесь,
- работайте сами.
(«Гуляем»)
- Рабочий — тот,
- кто работать охочий
- …Подрастешь —
- будь таким.
(«Гуляем»)
- Словом,
- вырос этот Влас —
- настоящий лоботряс.
(«История Власа — лентяя и лоботряса»)
- — Я расту кавалеристом!
(«Конь-огонь»)
- У меня растут года…
(«Кем быть?»)
- Растем от года к году мы…
(«Песня-молния»)
- Из вас растет комсомол…
(Сценарий «Дети», заключительные реплики)
Будущее время — самая важная глагольная форма в этих стихах: «Буду делать хорошо», «Дети, будьте как маяк!», «Дети, не будьте такими, как Влас!», «Возьмем винтовки новые», «Мы будем санитарами», «Будет и семнадцать», «Заживут ребята в нем», «Я приеду к Пете, я приеду к Оле», «Открою полюс Южный» и так далее, и тому подобное. Вот именно — подобное, потому что какие бы глагольные формы ни использовал Маяковский, составляя моральные заповеди для детей, в его глаголах всегда ощутима бурная экспрессия будущего времени.
Стихи Маяковского для детей — непрерывный и страстный разговор о будущем. Вне стиха, в жизни, в быту он разговаривал с детьми о том же — никакого противоречия между «жизнью» и «искусством» в этом пункте у поэта не было. Журналист М. К. Розенфельд вспоминает, как однажды встретил в редакции «Комсомольской правды» Маяковского, который «беседовал с пионерами… и советовал им, кем лучше быть, когда станут взрослыми»[115]. Таких свидетельств, наверно, можно собрать сотни — о чем еще было беседовать с детьми поэту, автору сказки о Пете и Симе?
Может, у поэта не было памяти детства? Дикое и нелепое предположение! Он обладал памятью, приводившей в изумление многих его знакомых, людей тоже далеко не беспамятных. В автобиографии «Я сам» он рассказывал о своем раннем детстве, начиная чуть не с младенчества. Биографы проверили — все правильно, ошибок нет. Недаром вторую микроглаву этой автобиографии он посвятил собственной памяти (первая посвящена определению темы). И в стихах его есть несколько мелких, но точных воспоминаний о детстве. В одном — как он ребенком играл в индейцев. В другом — что только в детстве и было у него несколько счастливых дней. А в третьем он дает такую характеристику разносторонности и полноценности детской жизни и детской души, что нельзя не спросить: почему этого нет в его детских стихах? Почему из всего детского мироощущения он настойчиво выделяет только жажду роста, стремление вырасти? На него, на маленького, играющего камушками у реки,
- Дивилось солнце:
- «Чуть виден весь-то!
- А тоже —
- с сердечком.
- Старается малым!
- Откуда
- в этом
- аршине
- место —
- и мне,
- и реке,
- и стоверстым скалам!»
Этого удивления перед вместительностью детской души нет и следа в детских стихах Маяковского. Он, друг Солнца, заключивший с ним договор о сотрудничестве, чтобы совместно «светить всегда, светить везде», почему-то не включил в это соглашение свойство другой высокой договаривающейся стороны дивиться обширности «малого» детского «сердечка». В его стихах детское сердце знает лишь одну страсть: вырасти, стать взрослым.
Однажды случилось невероятное: Маяковский позавидовал детям.
- Я
- еще
- не лыс
- и не шамкаю,
- все же
- дядя
- рослый с виду я.
- В первый раз
- за жизнь
- малышам-ка я
- барабанящим
- позавидую…
Дети завидуют взрослым — это стремление к большим возможностям. Взрослые завидуют детям — это сожаление о невозвратимом. В стихах Маяковского для детей связи ребенка со взрослым изображены так, словно на свете существует только зависть первого рода. Чем же вызвана единственная за всю жизнь зависть «рослого с виду дяди» Маяковского к малышам? Она вызвана тем, какая прекрасная будет жизнь, когда дети станут взрослыми («Красная зависть»), то есть когда они перестанут быть детьми…
Не странно ли, что поэт, сочиняющий стихи для детей, видит в детях только растущего человека, только чудесных людей будущего, так сказать, человека-футурум, а человека в настоящем времени, ребенка как такового, ребенка-презенс — не видит и не признает (или почти не видит)? Как хотите, а, по-моему, это странно. Но странность эта теряет свое качество и становится естественной для Маяковского, как только мы начнем рассматривать его стихи для детей не обособленно, а в контексте всего творчества поэта. Тогда немедленно окажется, что страстная тяга в будущую взрослость — это своеобразно преломленная (с оглядкой на читателя), но в общем та же самая мечта поэта о прекрасном будущем, которая пронизывает все его произведения. Мечта, явственно слышимая во всех лирических, эпических и драматических вещах Маяковского — от ранних стихотворений до последних, посмертно опубликованных строк. Мечта, подвигнувшая поэта на создание огромных утопических поэм (таких как «Летающий пролетарий», «Пятый Интернационал» и др.) и пьес («Клоп», «Баня»)[116].
Ребенок — утопист по самой природе своего мышления: маленький человек непрерывно видит себя жителем страны своего будущего, страны взрослых, страны огромных возможностей. Маяковский — тоже утопист по природе своего поэтического мышления: он непрерывно представляет себя, своих героев и читателей в счастливом будущем, имя которому — коммунизм. Будущее — пусть даже неизбежное, но заранее представленное в художественных образах уже воплощенным, состоявшимся, осуществленным, — в жанровом смысле должно быть охарактеризовано как утопия.
Мнимо антидетское по строгим законам диалектики оборачивается самым детским. Между поэтом, мечтающим о коммунистическом будущем, и его маленьким читателем, мечтающим поскорее вырасти, устанавливается неожиданное соответствие. Сюжет сказки о Пете и Симе движется не просто к наказанию порока и торжеству добродетели, но от нынешней пошлой нэповской действительности — к сияющей действительности будущей, социалистической и коммунистической.
У поэта Маяковского было три времени — настоящее, прошлое и будущее, и каждое из них получало в его творчестве резкую и устойчивую характеристику, занимало место на определенной ценностной шкале. Прошлое всегда и неизменно получало категорически отрицательную оценку, будущее — столь же категорически положительную (в этом смысле он и впрямь был футуристом). Оставался непростой вопрос о времени настоящем. В дореволюционный период творчества Маяковского настоящее почиталось частью проклятого прошлого, присоединялось к нему. В послереволюционную — настоящее присоединялось к будущему, получало статус его начала, его истока. Буржуазные элементы НЭПа, по Маяковскому, грязнили и замутняли этот исток. Анафема прошлому и осанна будущему — доминанта творчества Маяковского.
Тем самым открывается вот что: несомненная лирическая основа сказки о Пете и Симе и всех вообще стихов Маяковского для детей.
Стремление к всеохватности (вместе с порывом в будущее) — другое несомненно лирическое свойство всех произведений Маяковского. Небо и земля, рай и ад — вот обычная сценическая площадка, где поэт разворачивает действие. От маленькой квартирки в двенадцать квадратных аршин до Вселенной — вот его диапазон. У него если война — то непременно глобальная, революция — мировая, социализм — во вселенском масштабе. Временная и пространственная ограниченность человеческого существования — не помеха для поэта: его сердце вмещает всю Вселенную и одновременно заполняет всю Вселенную. Все охватить, все отразить, все воплотить в поэтическом слове — его бессонная страсть. Неописанные вишни в далекой Японии воспринимаются им как невыплаченный долг (поэт, правда, запамятовал, что вишни Японии он все-таки описал — в стихотворении для детей).
Эта особенность поэтического мышления Маяковского своеобразно преломилась в его детских стихах: поэт хотел рассказать детям обо всем самом важном. Он брал крупномасштабные темы и стремился осветить их полностью, до конца, «до донца».
Каждый художник стремится раскрыть свой предмет с наибольшей полнотой, но делают они это по-разному, каждый по-своему. Глядя на мир как бы с огромной высоты, Маяковский видел его широко и обобщенно. Он пренебрегал подробностями, которые показались бы его предшественникам и современникам Маршаку и Чуковскому (тоже весьма несхожим поэтам) самостоятельной, требующей развития темой. То, что Маршаку и Чуковскому представлялось отдельной темой, для Маяковского было лишь частным мотивом, эпизодом в ряду других эпизодов, подчиненных общей задаче. Маяковский ставил себе целью вовлечь в стихотворение максимальное количество фактов, относящихся к его теме, вобрать стихом все факты этого рода, исчерпать их.
У Маяковского в «Кем быть?» есть сценка: ребенок представляет себя взрослым врачом, идет игра «в доктора». Кроме этой профессии Маяковский предлагает на выбор другие: столяра и плотника, инженера, рабочего, трамвайного кондуктора, шофера, летчика, матроса, — и оказывается, что все они — хороши. О докторе есть стихотворная сказка у Чуковского. Есть у него и прозаическая сказка о том же докторе, которая имеет продолжения. Образ доброго Айболита переходит и в другие стихотворные сказки. Здесь тоже есть стремление к исчерпанности, хотя иного рода: Чуковский хочет сказать все об одном, Маяковский — одно обо всех. В первом случае преобладает индивидуализация, во втором — систематизация. Кто жаждет всеохватности, тому от систематизации не уйти.
Этим задана архитектоника большинства произведений Маяковского для детей: эпизоды, случаи, примеры, словно зерна четок, нанизаны на шнурок темы. Сюжет (в новеллистическом смысле) изредка появляется, но чаще отсутствует. Есть тема-задание, и есть эпизоды, приводимые в доказательство. Выбор того или иного эпизода — достаточно произволен, поэт мог бы заменить его другими деталями того же рода, важно только, чтобы тема убедительно показала решимость исчерпать себя. Протяженность стихотворения определяется психологическим эффектом доказанности: ни один опытный агитатор, каким бы он ни был «горланом», не станет продолжать речь, если почувствует, что достиг цели — убедил своих слушателей.
Количество эпизодов в стихотворении Маяковского должно быть таким, чтобы маленький читатель воспринимал его как множество, равноценное всем предметам или явлениям определенного класса.
«Что такое хорошо и что такое плохо?» — вся мораль. Нравственная проблема доказывается шестью парами доводов, двенадцатью эпизодами. Их может быть столько, сколько в стихотворении, может быть больше или меньше, они в известном смысле вообще могут быть другими. Главное вот что: в совокупности они должны засвидетельствовать волю стихотворения включить в себя все доводы — примеры хорошего и дурного.
«Кем быть?» — все профессии. То есть, конечно, не все, — здесь их всего восемь, а все не перечесть в детском стихотворении, да и те, что названы, — не единственно возможные с точки зрения замысла, который оставляет автору свободу замены. Но автор не волен назвать их в количестве меньшем, чем то, которое убедит читателя, что «все работы хороши».
«Прочти и катай в Париж и Китай» — вся география: физическая, экономическая, политическая. Земля представлена целиком — «вроде мячика в руке у мальчика» — с помощью двенадцати эпизодов-главок.
«Гуляем» — весь город. Улицы. Площади. Дома. Животные. Население — все социальные пласты. Тоже двенадцать эпизодов.
«Что ни страница — то слон, то львица» — все звери. Понятие «все звери» представлено девятью обитателями зоопарка.
«Конь-огонь» — все производственные процессы. Всего восемь эпизодов.
От шести до двенадцати эпизодов (то есть — до шести пар) — вот число, на которое интуитивно ориентировался Маяковский, подбирая доводы, достаточные для того, чтобы убедить читателя. Конечно, никаких подсчетов поэт не вел, количество их набиралось не по счету, а по ощущению достаточности, доказанности, исчерпанности. Тем не менее ясно видимая «кучность», определенная стабильность числового результата весьма выразительна, особенно если вернуться к «Сказке о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» с ее шестью главами-эпизодами, стремящимися исчерпать тему всемирного противостояния голодных и сытых, пролетариата и буржуазии.
Всеохватность, всемерность, всемирность — вот как следовало бы назвать эту особенность детских стихов Маяковского. Или, сближая ее с очень похожим свойством детского мышления, — энциклопедичность. По поводу «Прочти и катай в Париж и Китай» С. Городецкий бросил фразу: «В одном стихотворении, увлекательном по темпу, усваиваются идеи Коперника и Маркса»[117]. Заметьте: Коперник и Маркс сразу — в одном небольшом стихотворении!
У нас есть многотомные энциклопедии — наиболее полный свод сведений по всем отраслям знания, есть энциклопедии специализированные — историческая, медицинская, литературная, географическая, есть справочники узкого профиля. Когда-то за создание обширного свода знаний — большой художественной энциклопедии для детей — взялся Борис Житков. Стихи Маяковского сравнимы в этом смысле со специализированными энциклопедиями и справочниками. «Кем быть?» — справочник типа «Куда пойти учиться»; «Что такое хорошо и что такое плохо?» — краткий словарь по этике; «Прочти и катай в Париж и Китай» — бедекер для дошкольников; «Что ни страница — то слон, то львица» — путеводитель по зоопарку (это стихотворение так и было написано: на обороте путеводителя по нью-йоркскому зверинцу); «Гуляем» — тоже путеводитель: по Москве для самых маленьких. «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» выглядит в этом ряду как политический справочник, путеводитель по НЭПу.
Композиция этих стихотворений — как бы словарная: ряд справочных статей, объединенных темой. Кто такой Петя? «Этот Петя был буржуй». А кто Сима? «Сима — пролетарий». Такие справки в стихах Маяковского для детей — везде: «Этот зверь зовется лама. Лама дочь и лама мама». Поменьше красок, подробностей — как положено справочной статье, и — дальше: «Маленький пеликан и пеликан-великан». Нет никакой возможности расписывать каждого зверя, потому что нужно рассадить по клеткам стихотворения всех зверей.
Безоглядная щедрость, с которой Маяковский удовлетворяет детскую жажду познания, имеет свою теневую сторону. При такой установке на познавательную насыщенность мудрено избежать рационалистической опасности, и поэт вынужден платить ей дань. Романтизм, пуще смерти боящийся обвинения в рационализме, вообще очень легко дает основания для таких обвинений. Стихи Маяковского для детей тоже не чужды рационалистичности, и напряженная раскованность поэтической речи в сказке о Пете и Симе не может скрыть плакатную четкость противопоставлений, линейность характеристик, преобладание доказательности над изобразительностью.
Может показаться, будто стремление Маяковского накопить и исчерпать полный состав частей своей темы сродни кумулятивности народной сказки. Если это кумулятивность, то уж очень своеобразная, далекая от фольклорной. В фольклоре кумулятивность — один из двигателей сказочного сюжета: повторяемость идет с нарастанием, накопление однородных эпизодов приводит к очередному повороту в судьбе героя, количество эпизодов переходит в новое качество повествования. У Маяковского этого нет: эпизоды равноценны и вытянуты в линию. Накопление эпизодов переливается прямо в нравственный или иной вывод. Это кумулятивность публицистической, агитационной речи и желание всеохватно воспитать, энциклопедически обучить маленького человека, у которого «растут года».
В сказке о Пете и Симе противопоставление персонажей, разведенных по разным главкам, выражено столь резко, что подавляет сюжет, его повествовательно-приключенческие притязания. Нигде, ни в едином эпизоде сюжет не сталкивает Петю с Симой впрямую, лицом к лицу. Их столкновение определено не сюжетными, а идеологическими обстоятельствами, и каждый раз опосредованно. В качестве посредника выступают живые существа, предметы и понятия: щенок, которого Петя бьет и гонит, а Сима ласкает и кормит; пища, извергнутая одним и доставшаяся другому; нравственные категории, трактуемые Петей и Симой по-разному. Персонажи противопоставлены не столько движением сюжета, сколько статически — тем фактом, что Петя такой, а Сима — вот такой. Эпизоды жизни одного не пересекаются в пространстве сказки эпизодами жизни другого, но образуют соположенные ряды, как на плакатах «Окон РОСТА».
Переключения действия Маяковский передает фольклорным оборотом «сказка сказкою, а…», но художественная, жанровая суть этих переключений принадлежит скорее не сказке, а роману — наиболее всеохватной форме из всех, какими располагает современная литература. В сказке о Пете и Симе страсть поэта к всеохватности вылилась, помимо прочего, стремлением как можно полнее освоить опыт всей предшествующей детской литературы, переписать ее по-своему, переспорить ее.
Сказка о Пете и Симе насыщена реминисценциями, заимствованиями, «чужими голосами», и почти все, писавшие о ней, отмечали это обстоятельство, приводя более или менее убедительные примеры соответствий между отдельными фрагментами первого произведения Маяковского для детей и работами его предшественников. Эта особенность сказки была порождена, надо полагать, еще и тем, что Маяковский ощущал новизну неосвоенного жанра. Естественно, возникала задача: вобрать, освоить и перевоплотить традицию, установить связь своего художественного языка — по сходству или по контрасту — с языком предшествующей культуры.
В детскую литературу Маяковский пришел уже после переворота, произведенного в ней сказками Корнея Чуковского и поэмами Самуила Маршака. С творчеством этих поэтов Маяковский был хорошо знаком и опыт их активно осваивал. О восторженном отношении Маяковского к стихам Маршака есть интересные свидетельства Л. Брик и Л. Кассиля[118].
«В 1916 году я прочитал Маяковскому начальные строки моего „Крокодила“, — рассказывал К. Чуковский. — Мне показалось, что он слушал меня невнимательно, но — к моему удивлению — он в 1920 году повторил наизусть первые пять строк этой сказки… Как он относился к „Крокодилу“, я не знаю: он ни разу не сказал мне об этом…»[119] Об отношении Маяковского к творчеству предшественников есть и косвенные сведения: уже рассмотренная нами запись тезисов выступления поэта (на заседании комиссии при отделе детской литературы Госиздата) и вполне очевидные отзвуки их произведений в сказке о Пете и Симе, не без остроумия подмеченные и категорически неверно истолкованные Анной Гринберг[120].
В сказке — там, где ненасытного обжору постигает кара и «Петя лопнул пополам», — есть сцена всеобщего испуга: дрожащие люди «Это, — думают, — пожар!». Мнимый пожар изображается как настоящий:
- От велика до мала
- все звонят в колокола.
- Вся в сигналах каланча,
- все насосы волочат.
- Подымая тучи пыли,
- носятся автомобили.
- Кони десяти мастей.
- Сбор пожарных всех частей.
- Впереди
- на видном месте
- вскачь несется
- сам брандмейстер.
Первая редакция «Пожара» Маршака вышла в 1923 году (очевидно, в конце года, так как на обложке поставлено: 1924). «Пожар» появился как раз тогда, когда Маяковский обдумывал свою сказку о Пете и Симе, и, конечно, в его памяти крепко засели выразительные маршаковские строчки:
- На площади базарной,
- На каланче пожарной —
- Динь-дон, динь-дон —
- Раздается громкий звон.
- Начинается работа,
- Отпираются ворота,
- Собирается обоз,
- Тянут лестницу, насос.
- Из ворот без проволочки
- Выезжают с треском бочки.
- Вот уж первый верховой
- Проскакал по мостовой.
- А за ним отряд пожарных
- В медных касках лучезарных
- Пролетел через базар
- По дороге на пожар…
А тот эпизод сказки о Пете и Симе, где обиженный обжорой щенок призывает на помощь зверей, так похож на традиционные для сказок Чуковского «шествия животных», что подобрать пример для сравнения одновременно и очень легко, и очень трудно, ибо годятся все — и любой из них:
- Вдруг,
- откуда ни возьмись,
- сто ворон слетает вниз.
- Весь оскаленный, шакал
- из-за леса пришагал.
- За шакалом волочится
- разужасная волчица.
- А за ней,
- на три версты
- распустив свои хвосты,
- два огромных крокодила.
- Как их мама уродила?!
Это близко по образам, по композиции и по сюжетной функции к шествию животных в «Крокодиле» (1917) в «Тараканище» (1921), в «Мухе-Цокотухе» (1923), «Бармалее» (1924). Пожалуй, особенно выразительно сходство с «Путаницей» (тоже 1924) — там шествие животных вызвано пожаром (горит море — ни больше ни меньше), а ритм дает некоторое соответствие сказке Маяковского.
Не только опыт первоклассных мастеров использовал Маяковский в своей сказке. Прав был, по-видимому, М. Левин, утверждавший, что Маяковский, вступая впервые на путь детского поэта, мобилизовал и переплавил опыт многих предшественников, не пренебрегая опытом дореволюционной детской литературы, а также опытом второстепенных и даже третьестепенных современных литераторов[121]. Мне хотелось бы пополнить перечень предшественников, чей опыт был учтен Маяковским, напомнив забытую книжку А. Радакова «О злом Пете».
К работе А. Радакова — художника и литератора — Маяковский присматривался еще в период сотрудничества в «Сатириконе». «Анализ взаимодействия поэзии Маяковского и поэзии „сатириконцев“ был бы не полон, если бы мы не отметили стихов сатириконского карикатуриста А. Радакова, — указывают пристальные исследователи Н. Харджиев и В. Тренин. — Карикатуры Радакова, помещенные в журнале, часто сопровождались стихотворным текстом самого художника»[122]. Так и на обложке детской книжки Радаков упомянут только в качестве художника, но, по библиографической справке И. И. Старцева, ему же принадлежит и текст сказки «О злом Пете», есть об этом и свидетельство художника.
Сказка «О злом Пете» А. Радакова впервые была опубликована еще до революции, в журнальчике для детей «Галчонок». Впоследствии А. Радаков вспоминал: «В конце года я сделал (в „Галчонке“. — М. П.) анкету: какая тема вам больше всего понравилась? Оказалось, что больше всего понравилась тема, которую я взял из старинной немецкой книги XVII века. Тема эта заключалась в том, что люди поменялись ролями с животными. Я несколько изменил эту тему, введя в нее современность: злой мальчик Петя плохо относился к животным, и животные стали поступать с ним так же: собака сажает его на цепь, кошка его не кормит, лошадь бьет его кнутом и т. д. В общем, он испытывает на себе все то, что заставил терпеть животных. В дальнейшем на эту тему в издательстве „Радуга“ была издана отдельная книжка под названием „О злом Пете“…»[123]
У Маяковского в сказке о Пете и Симе есть главка, где маленький буржуй характеризуется как злобный ненавистник животных:
- Петя,
- посинев от злости,
- отшвырнул щенка за хвостик…
В этой же главке наступает расплата: звери заступаются за щенка и совместными усилиями расправляются с обидчиком:
- Мы
- тебя
- сию минутку,
- как поджаренную утку,
- так съедим —
- или иначе.
- Угнетатель ты зверячий! —
- И шакал,
- как только мог,
- хвать пузана за пупок!
- Тут
- на Петю
- понемногу
- крокодил нацелил ногу
- и брыкнул,
- как футболист…
- …Петя мчит,
- как мяч футбольный…
Тема этой главки, образ маленького негодяя и композиция рассказа («футбольное» перебрасывание злого Пети от одного зверя к другому) напоминают тему, главный образ и композиционное построение сказки А. Радакова:
- Он таскал кота за хвост,
- Яйца крал из птичьих гнезд,
- Колотил собаку палкой,
- Бегал по двору за галкой, —
- Словом, мучил всех зверей.
- Вот какой он был злодей!
Злой Петя А. Радакова такой же обжора, каким будет потом изображен маленький буржуй у Маяковского. В стихах «О злом Пете» галчонок призывает зверей расправиться с обидчиком точно так же, как будет призывать щенок в сказке о Пете и Симе. Злой Петя в радаковском «источнике» Маяковского попадает на правеж сначала к коту, потом к собаке, зайцу, лисе, лягушкам и так далее. Их угрозы — «Растерзай его, как мышку!», «Подстрелю тебя, как дичь!», «Бейте Петю, что есть сил!» — по исступленно жестокой интонации и почти текстуально совпадают с выкриками зверей в сказке Маяковского, а отдельные строчки А. Радакова вызывают удивление: неужели это не из «Сказки о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий»? «Вот какой он был злодей», «Петя крупный был ребенок», «Вдруг чихнул огромный пес — ветер мальчика унес» — это, оказывается, не о Пете Маяковского, а о Пете А. Радакова. Совпадения имен, стихотворного размера и ритма увеличивают сходство двух образов, сходство двух сказок.
Следует оговориться, что материал для подобных сближений с предшественниками обнаруживается только в этом, первом произведении Маяковского для детей. Кажется, будто поэт решил пройти в сказке о Пете и Симе полный курс детской литературы, исчерпать ее опыт и, достигнув своей цели, вышел в следующих своих вещах на собственную дорогу и пошел по ней самостоятельно и безоглядно. Маяковский хотел говорить с детьми обо всем, в том числе о таких материях, говорить с детьми о которых прежде было строжайше не принято. Раньше всего — о политике.
Политический характер произведений Маяковского для детей совершенно справедливо расценивается как черта новаторская, небывалая. Действительно, дореволюционная поэзия для детей старательно обходила тот круг тем и вопросов, которые мы называем политическими. В ту пору нельзя было и помыслить о том, чтобы в детском стихотворении коснуться политики. Считалось, будто это нарушит сразу два строгих закона: искусства и педагогики. Авторитетные и вполне либеральные педагоги стояли на том, что «с педагогической точки зрения является нежелательным вносить в детскую книгу и мотивы гражданской скорби или политической борьбы… Политические и социальные вопросы слишком сложны и велики, чтобы делать их предметом детской литературы»[124].
Но было бы наивностью думать, что жизнь в ее политическом аспекте отсутствовала в дореволюционной поэзии для детей: ведь замалчивание политики — это, знаете ли, такая политика. Содержание политики в поэзии для детей исчислялось, следовательно, не нулем, а отрицательным числом, абсолютная величина которого могла быть очень велика.
Революция, гражданская война, НЭП, борьба с оппозицией, международные конфликты, жесткая кристаллизация советской государственности, — все это приобщало к политической жизни решительно всех, и политика внедрялась в сознание масс в качестве главной, если вообще не единственно важной стороны жизни. В дореволюционные времена интерес «среднего человека» к политике толковался как нарушение норм лояльности. Слово «политик» значило: политический преступник. Теперь нелояльностью стало считаться отсутствие интереса к политике. Преступлением стала аполитичность.
Очень талантливые поэты — современники Маяковского — писали очень плохие стихи для детей о классовой борьбе и пролетарском интернационализме, потому что политическая тематика была чужда, а порой просто противопоказана их таланту. Она отвечала требованиям момента, а не склонностям таланта: нужно было засвидетельствовать свою политическую лояльность — мы, дескать, за нас. У Маяковского это получалось гораздо лучше — он был прирожденным политическим поэтом.
Между Февралем и Октябрем Маяковский пришел со стихами в газету, а затем предпринял первую попытку войти в детскую литературу с этими же стихами. Попытка не удалась, но в тот конверт с надписью «Для детков», с которого принято начинать рассказ о работе Маяковского для детей[125], поэт вложил (не считая шуточных «Тучкиных штучек») два самых явных политических стихотворения, какие имелись у него к тому моменту: «Сказку о Красной Шапочке» и «Интернациональную басню».
Эти два стихотворения были написаны для взрослых, и восемь лет отделяют их от сказки о Пете и Симе, но для нас они интересны тем, что поэт выразил ими свое представление о детской поэзии. Собираясь обратиться к читателю-ребенку, Маяковский остановил свой выбор на стихотворении, где слова «дети» и «политика» стояли в одну строчку: «Когда будете делать политику, дети…». Обращение, конечно, ироническое, но, как оказалось, не такое уж ироническое. Он и впоследствии неоднократно подтверждал серьезность своего выбора и оставался политическим поэтом не только в тех своих стихах для детей, политический характер которых виден невооруженным глазом.
Даже в зоопарке он видит животных разделенными на трудящихся и праздных и с насмешливым удовлетворением отмечает крах монархии в зверином царстве, которое отныне, очевидно, следует считать республикой: лев «теперь не царь зверья, просто председатель». Даже праздник прилета птиц («Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится») Маяковский превращает в повод для сатиры на издержки пионерского движения 1920-х годов: «Комментаторы Маяковского не подозревают, что имеют дело с сатирой на „болезни“ пионерского движения, отмеченные XVI съездом партии. Убийственная насмешка над „барабаноманией“ — „птичьими делами“ — пронизывает все стихотворение»[126]. «Эта книжечка моя про моря и про маяк» — не «познавательное» произведение, каким оно рекомендуется в бесчисленных комментариях[127]: «Дети, будьте как маяк!» — призывает поэт. Образ маяка был в 1920-е годы общим местом поэтического мышления, Маяковский справедливо упрекал коллег: «С чем в поэзии не сравнивали Коминтерна?.. И корабль, и дредноут, и паровоз, и маяк…». Сравнивал, однако, и Маяковский — в поэме «Владимир Ильич Ленин» и в других вещах. Образы детского стихотворения «Эта книжечка моя…» сочленены в последовательность: корабль, бурное море, маяк, который зажигают рабочие, порт, куда входит судно. Перед нами — развернутая метафора с очевидным политическим смыслом: революция, свет партийных идей, социализм. Маяковский превратил автоматизированные обороты газетной публицистики в зримые образы.
Но уходили из газетной речи эти обороты, и политический смысл произведений поэта, безусловный для читателя-современника, постепенно ускользал, истаивал, растворялся. Сейчас, спустя много лет, правильно понять замысел поэта возможно, лишь возвращая стихи в родную среду: в контекст всего творчества Маяковского — и в контекст той эпохи, когда они были написаны. И хотя политический смысл сказки о Пете и Симе едва ли требует специальных доказательств, но и он подвергся выветриванию временем: потускнела и не воспринимается едва ли не главная метафора сказки — образ лопнувшего Пети.
Об этой метафоре писал М. Левин в небольшой статье «Маяковский и дети». Скончавшийся на двадцать третьем году жизни, этот юный исследователь был из породы первооткрывателей. Именно он сформулировал впервые многие общепринятые очевидности сегодняшнего знания о Маяковском (в особенности — о «детском» Маяковском), и потому соглашаться и спорить нужно прежде всего с ним.
«…Система образов первой книги Маяковского еще связана со старой детской литературой, — писал Левин. — В ней Маяковский использовал окраинные зоны эксцентрической книги, не попадающей в сусальные объятия „золотой библиотеки“.
…Была… старинная детская книжка „Про Гошу — долгие руки“, рассказ раешника, с рисунками Берталя. Это книга о непослушном мальчике, который делал все то, что ему не разрешали.
Однажды Гоша забрался на кухню. Видит — на блюде разложено тесто или крем: