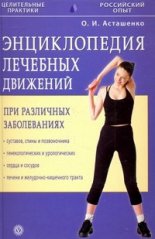Книги нашего детства Лурье Самуил

Несколько предуведомительных слов
Уголь отдает тепло, сгорая, — книга выделяет тепло, когда ее читают. Чтение — процесс культурно-энергетический, и культуру правильно сравнивают с надышанным теплом — заботливо сохраненным жаром человеческого дыхания.
Я посвятил свою работу книгам нашего детства, так как в «гутенбергову эпоху» легче, кажется, сыскать пресловутого снежного человека, нежели человека, чья жизнь никак не связана с книгой. Несмотря на вторжение новейших информационных систем, чтение остается одним из самых заметных, самых влиятельных обстоятельств нашего социального и культурного бытия. Если бы я был беллетристом и сочинял роман из современной жизни, то, по справедливости, должен был бы изобразить своих героев читающими, а круг чтения сделать существенной характеристикой персонажей. Вот почему «Книги нашего детства».
Книга, как я пытаюсь ее осмыслить и описать, предстает в триедином облике. Во-первых, она — накопитель культурных традиций, полученных из прошлого. Во-вторых, она — воплощение нынешнего дня с его заботами, представлениями, ценностями — и воплощение личности автора, тоже не абстрактной величины, тоже человека не без роду-племени. В-третьих, книга — письмо в грядущее, свидетельствующее о настоящем, стремительно уходящем в прошлое. Связь времен пресеклась бы — не фигурально, а в самом прямом и жестоком смысле, — если бы соединяющая времена цепь не состояла из таких поразительных звеньев.
Я назвал свою работу «Книги нашего детства», так как речь здесь пойдет о детских книгах — сказках. Сказка — вымысел, то есть «ложь», хотя в ней, возможно, имеется некий «намек — добрым молодцам урок». Нужно ли объяснять, сколько правды в этой заведомой — по определению — лжи? Как мало, в сущности, могут добавить остальные книги к простому факту, отображенному в сказках: добро — обаятельно, самоценно и противостоит омерзительному злу!
Детские впечатления от сказки закрепляются в нашем сознании на всю жизнь, и как жалко, что мы уже не различаем в слове «впечатления» его корневую «печать», «впечатанность». Сказка впечатана в нас навсегда — крупным шрифтом наших детских книг. Может ли человек, задумывающийся над судьбами культуры, быть равнодушным к сказкам?
В первоначальные времена человечества ребенок вводился в социальные и культурные структуры тогдашнего общества через миф. Рожденный матерью как биологическое существо, он становился существом общественным, приобщившись к мифу. Миф давал ему чувственно воспринимаемую картину мира, выработанную совместными усилиями предшествующих поколений, и основные правила поведения, обеспечивающие целостность и существование рода.
Эту социально-культурную роль в современной жизни выполняет детская сказка. Вобравшая в себя обломки, осколки и целые конструкции мифа древности, обогатившаяся многовековым опытом развития (сначала — фольклорного, затем — литературного), сказка в чтении нынешних детей стала чем-то вроде «возрастного мифа» — передатчиком исходных норм и установлений национальной культуры. Сказка превращает дитя семьи — этого папы и этой мамы — в дитя культуры, дитя народа, дитя человечества. В «человека социального», по современной терминологии. Тем самым роль детской книжки далеко выходит за пределы собственно детской литературы и чтения.
Читательские интересы взрослых людей основательно специализированы и индивидуализированы, разбросаны по социальным, профессиональным, психологическим, вкусовым — и мало ли еще каким рубрикам. Но детская литература этих рубрик знать не знает, в детстве все читают (или даже еще только слушают) одни и те же тонкие книжки с картинками. У множества взрослых (пускай и начитанных) может не оказаться ни одного общего, знакомого всем текста, кроме сказок, усвоенных в детстве. Тогда эти книжки становятся единственным общенациональным текстом. Страшно вымолвить — главным текстом культуры. Происходящая в современном литературном и окололитературном обиходе непрерывная «повторная мифологизация» сказок (например, сказок Корнея Чуковского и Алексея Толстого) подтверждает их принадлежность к общенациональному культурному фундаменту.
Я назвал свое сочинение «Книги нашего детства», имея в виду прежде всего поколение моих соотечественников, родившихся в начале предвоенного десятилетия — в 1930-е годы, поколение, к которому принадлежит и автор. Так что будут правы те читатели, которые догадаются о лирической основе этих историко-литературных очерков.
Корней Чуковский
«Приключения Крокодила Крокодиловича»
Крокодил в Петрограде
Чуковский К. Крокодил. Пг.: Издательство Петросовета, 1919. Обложка. Художник Ре-Ми.
Иллюстрация воспроизводится без масштабирования, в размере оригинала.
К. Чуковский. 1913. Фото К. Буллы.
Ре-Ми (Н. В. Ремизов) — первый иллюстратор «Крокодила».
Чуковский К. Крокодил. Пг., 1919. Художник Ре-Ми.
Иллюстрация воспроизводится без масштабирования, в размере оригинала.
Максим Горький.
К. Чуковский и И. Репин. Шарж В. Маяковского.
Крокодил, Ваня Васильчиков и автор сказки. Рис. Ре-ми.
Ваня Васильчиков. Рис. Ре-ми.
Труден и преисполнен событий был год тысяча девятьсот девятнадцатый, от революции же — второй. До детских ли книжек было ему, содрогавшемуся от бурь и тревог! И все же выход этой книжки не затерялся среди громадных событий года. Так на монументальном «Ночном дозоре» Рембрандта не теряется — напротив, собирает на себе весь тревожный свет, заливающий полотно, — крохотная фигурка ребенка, окруженная толпой воинственных мужчин в стальных латах, с мечами и алебардами…
В 1919 году издательство Петросовета (в Смольном) выпустило «поэму для маленьких детей» Корнея Чуковского «Приключения Крокодила Крокодиловича» с рисунками художника Ре-Ми (Н. В. Ремизова). Книжка, изданная альбомным форматом, и сейчас поражает сочетанием изысканности — и демократизма, оформительской щедрости — и вкуса, озорной раскованности — и почти математического расчета, причудливости сказочных образов — и непонятно откуда возникающего, но выпуклого и достоверного образа времени. Тем более она поражала современников той аскетической, затянувшей военный ремень эпохи- «рваное пальтишко, австрийское ружье», — когда «пошли наши ребята в красной гвардии служить», как сказано в «Двенадцати» Александра Блока, этом «Ночном дозоре» русской революции. Книжка должна была казаться залетной птицей из иных времен. Каких? Прошлых? Будущих?
Полное значение этой книжки станет ясным лишь в исторической ретроспективе — потом, когда, оглядываясь назад, станут искать и находить истоки новой культуры, попытаются восстановить связь времен. Тогда Юрий Тынянов — выдающийся ученый с острейшим чувством истории — напишет:
«Я отчетливо помню перемену, смену, произошедшую в детской литературе, переворот в ней. Лилипутская поэзия с однообразными прогулками героев, с их упорядоченными играми, с рассказом о них в правильных хореях и ямбах вдруг была сменена. Появилась детская поэзия, и это было настоящим событием.
Быстрый стих, смена метров, врывающаяся песня, припев — таковы были новые звуки. Это появился „Крокодил“ Корнея Чуковского, возбудив шум, интерес, удивление, как то бывает при новом явлении литературы.
…Сказка Чуковского начисто отменила предшествующую немощную и неподвижную сказку леденцов-сосулек, ватного снега, цветов на слабых ножках. Детская поэзия открылась. Был найден путь для дальнейшего развития»[1].
Смена, перемена, переворот, настоящее событие, новое явление, путь для дальнейшего… Такие слова не часто сходили с чуждого сентиментальности пера Юрия Тынянова. И без того немалая, цена тыняновских определений резко возрастет, если учесть, что столь авторитетно-категорическую оценку «Крокодил» получал из ученых кругов впервые. Зато в читательских восторгах недостатка не было. Поразительный, неслыханный читательский успех «Крокодила» отмечали все — одни с удовлетворением, другие с недоумением и растерянностью, третьи с нескрываемым раздражением.
А. М. Калмыкова, опытный педагог, издавна связанный с социал-демократическим движением, радостно приветствовала «замечательную „поэму для маленьких детей“ К. Чуковского… разошедшуюся по России в огромном количестве экземпляров… пользующуюся небывалой популярностью среди детей, которые, невзирая на недовольство некоторых педагогов и родителей, захлебываясь, декламируют ее наизусть во всех уголках нашей обширной родины»[2].
Про «все уголки нашей обширной родины» здесь сказано не для красного словца: вскоре «Крокодил» был переиздан большим тиражом в Новониколаевске (теперь — Новосибирск). Сибирский «Крокодил», воспроизводивший издание Петросовета, разошелся мгновенно. В местной прессе появился отклик (ускользнувший от внимания нынешних историков литературы и книговедов), в котором вновь отмечался фантастический успех книги у детской аудитории:
«Прелестная, настоящая „детская поэма“… „Доблестный“ Ваня Васильчиков — это властитель дум, это герой современной городской детворы. Автору настоящих строк приходилось многократно читать вслух „Крокодила“ аудитории маленьких людишек, и каждый раз это чтение сопровождалось таким восторгом слушателей, что было жаль расставаться с этой симпатичной книгой. Надо еще добавить, что книга иллюстрирована таким талантливым художником, как Ре-Ми. Его рисунки, всегда удачные и остроумные, делают эту книгу еще более ценной, еще более привлекательной…»[3]
Поразительным и загадочным был успех «Крокодила» у всех детей — независимо от социального происхождения, положения и даже — возраста. Написанный, как указывалось на титуле, «для маленьких детей», он, странным образом, оказался любимым чтением школьников, подростков и юношества. Посвященный детям автора, росшим в высококультурной, интеллигентной художественной среде, он дошел до социальных низов — до многочисленных в ту пору беспризорных детей.
Беспризорщина была одним из самых тяжких последствий мировой и гражданской войн, горестным явлением, во многом определявшим общественный быт тех лет. Самоотверженные педагоги делали все, что могли, для спасения — физического, нравственного, духовного — этих обездоленных детей. Т. Григорьева, библиотечный работник, приходила с книгами в московские ночлежки для беспризорных (на Таганке) и читала вслух. Она свидетельствует: «Из приносимых нами веселых книг имел успех только „Крокодил“ Чуковского, его многие знали наизусть…»[4] То есть: знали наизусть, но слушали с удовольствием.
Странные персонажи «Республики Шкид» — бывшие беспризорные, будущие интеллигенты, полубурсаки и полулицеисты — тоже отлично знали сказку Чуковского. Это удостоверяется той главой книги Г. Белых и Л. Пантелеева, которая так и названа — «Крокодил». Всеобщая известность одного художественного произведения стала выразительным знаком эпохи в другом.
Вот детские впечатления одной читательницы (записанные, правда, много лет спустя): «Отец принес однажды книжку. Если мне не изменяет память, это была даже не книжка, а скорее большеформатная тетрадь, выполненная в черном цвете (цветных картинок в ней не было, это я помню точно). На титуле стояло: „КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. «КРОКОДИЛ»“. Мы читали „Крокодила“ взахлеб — все — взрослые и дети. Невозможно описать радость, которую принесла нам эта книжка. Мы ее выучили наизусть, мы перекидывались репликами из нее, мы ее разыгрывали в лицах…»[5]
Берлинская газета «Накануне», орган той части русской эмиграции, которая ратовала за возвращение на родину, писала: «„Крокодил“ с первых дней появления вызвал заслуженный восторг маленьких читателей и слушателей. Это одна из лучших детских книг на русском языке за последние годы. Только большая широта, ясность и многогранность духа позволили К. Чуковскому так свободно перейти от серьезной работы исследователя литературы к созданию прелестной, остроумной „поэмы для маленьких“, написанной с удивительным пониманием детской психологии»[6].
Блестящий график и знаток книги, обнаруживший на склоне лет незаурядный писательский талант, Н. Кузьмин утверждал: «„Крокодилом“ Чуковского у нас начиналась новая эра детской книги. Раньше даже герои наших детских книг были импортные: немецкий Struwwel Peter, переименованный в Степку-Растрепку, шалуны мальчишки карикатур Буша, Макс и Мориц, перелицованные в Петьку и Гришку. „Крокодилом“ начался также небывалый ранее плодотворный симбиоз в детской книге писателя и художника: Чуковский — Конашевич, Маршак — Лебедев…»[7].
Чуковский, кажется, и сам был поражен успехом своей сказки и ревновал к ней другие свои произведения. Когда собирательница писательских автографов М. А. Стакле обратилась к Чуковскому с просьбой внести посильный вклад в ее альбом, автор знаменитой сказки дал выход своим чувствам в следующем горестно-ироническом письме:
«Я написал двенадцать книг, и никто на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать шутя „Крокодила“, и я сделался знаменитым писателем. Боюсь, что „Крокодила“ знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру, будет начертано „Автор «Крокодила»“. А как старательно, с каким трудом писал я другие свои книги, напр., „Некрасов как художник“, „Жена поэта“, „Уолт Уитмен“, „Футуристы“ и проч. Сколько забот о стиле, композиции и о многом другом, о чем обычно не заботятся критики! Каждая критическая статья для меня — произведение искусства (может быть плохого, но искусства!), и когда я писал, напр., свою статью „Нат Пинкертон“, мне казалось, что я пишу поэму. Но кто помнит и знает такие статьи! Другое дело — „Крокодил“. Miserere»[8].
Нелюбовь автора к своему созданию — случай тяжелый и почти абсурдный. Но Чуковский не притворялся — в этом письме, как и всегда, он утрировал свои подлинные мысли, разыгрывал свои искренние чувства. Он действительно ревновал, хотя ревность его была основана на недоразумении: «Крокодил» вовсе не противостоит произведениям Чуковского, выполненным в других жанрах. Тысячи нитей протянуты от «Крокодила» к другим работам Чуковского. Сказка вобрала опыт этих работ и продолжила их — другими средствами. Маршак воспел явление «Крокодила» как естественное продолжение работы «веселого, буйного, дерзкого критика»:
- Ты строго Чарскую судил.
- Но вот родился «Крокодил»,
- Задорный, шумный, энергичный, —
- Не фрукт изнеженный, тепличный, —
- И этот лютый крокодил
- Всех ангелочков проглотил
- В библиотеке детской нашей,
- Где часто пахло манной кашей…[9]
Как возникают сказки?
Может показаться невероятным: о происхождении современных литературных сказок, родившихся чуть ли не у нас на глазах, мы зачастую знаем меньше, чем о происхождении фольклорных, созданных невесть когда, в условиях, которые нынешний человек и представить-то себе может лишь значительным интеллектуальным и волевым усилием.
Историю замысла «Крокодила» Корней Иванович Чуковский рассказывал неоднократно, каждый раз немного по-другому.
В этом не было никакой преднамеренности. Просто человеческая память, даже богатая, — устройство весьма прихотливое, а самый ранний из этих рассказов был предпринят более двадцати лет спустя после событий. Рассказы Чуковского дополняют друг друга и могут быть сведены в один, тем более что основные моменты истории сказки — устойчивы и повторяются во всех версиях.
Замысел «Крокодила» Чуковский всегда связывал с именем Горького. «…Однажды, в сентябре 1916 г. ко мне пришел от него художник Зиновий Гржебин (работавший в издательстве „Парус“, и сказал, что Алексей Максимович намерен наладить при этом издательстве детский отдел с очень широкой программой и хочет привлечь к этому делу меня. Было решено, что мы встретимся на Финляндском вокзале и вместе поедем в Куоккалу, к Репину, и по дороге побеседуем о „детских делах“»[10].
«В вагоне он был пасмурен, и его черный костюм казался трауром. Чувствовалось, что война, которая была тогда в полном разгаре, томит его, как застарелая боль. В то время он редактировал „Летопись“ — единственный русский легальный журнал, пытавшийся протестовать против войны»[11].
«Первые минуты знакомства были для меня тяжелы. Горький сидел у окна, за маленьким столиком, угрюмо упершись подбородком в большие свои кулаки, и изредка, словно нехотя, бросал две-три фразы Зиновию Гржебину… Я затосковал от обиды…
Но вдруг в одно мгновение он сбросил с себя угрюмость, приблизил ко мне греющие голубые глаза (я сидел у того же окошка с противоположной стороны) и сказал повеселевшим голосом с сильным ударением на о:
— По-го-во-рим о детях»[12].
И пошел разговор о детях — о славном бессмертном племени детей, о прототипах детских образов Горького, о детях Зиновия Гржебина — «я тоже знал этих талантливых девочек — Капу, Бубу и Лялю» — добавляет Чуковский в скобках, умалчивая на этот раз о том, что одна из девочек — Ляля — станет героиней его сказки о крокодиле. Тогда Горький будто бы сказал: «Вот вы ругаете ханжей и прохвостов, создающих книги для детей. Но ругательствами делу не поможешь. Представьте, что эти ханжи и прохвосты уже уничтожены вами, — что ж вы дадите ребенку взамен? Сейчас одна хорошая детская книжка сделает больше добра, чем десять полемических статей… Вот напишите-ка длинную сказку, если можно в стихах, вроде „Конька-Горбунка“, только, конечно, из современного быта»[13].
По другому рассказу Чуковского, предложение написать сказку было сделано немного позже, — когда Корней Иванович вместе с художником Александром Бенуа стал посещать Горького (в его квартире на Кронверкском проспекте), чтобы совместно разработать программу детского отдела издательства «Парус»: «…Тогда Алексей Максимович сказал: „Для таких сборников нужна какая-нибудь поэма, большая эпическая вещь, которая бы заинтересовала детей“. И предложил написать эту вещь мне»[14].
Для нас не так уж важно, где были высказаны мысль Горького о необходимости большой поэтической формы для детей и предложение Чуковскому создать такую вещь — в вагоне Финляндской железной дороги или в квартире на Кронверкском проспекте. И конечно, было бы наивностью думать, будто Чуковский приводит подлинные слова Горького, но мысль его он, безусловно, передает точно. Вот только принять сообщение Чуковского на веру мешает явно литературный характер возникающего сюжета: рассказанный подобным образом эпизод встречи двух писателей немедленно становится в ряд с известными преданиями и легендами о том, как мастер литературы дает подмастерью тему или идею, или сюжет, а тот, на лету подхватив авторитетную рекомендацию, превращает ее в замечательное произведение, осененное сразу двумя славными именами — автора и вдохновителя.
Бытование подобных легенд и преданий покоится на недоразумении. Буквально — на недо-разумении. Даже просто — на не-разумении особенностей творческого труда. Оно покоится на том предрассудке, что замысел, исходящий от авторитетного мастера литературы, обладает будто бы универсальным, обязательным для любого художника значением. Оно не предполагает «избирательного сродства» (по терминологии Гёте), в силу которого художник выбирает из арсенала своей эпохи одни темы и образы, а к другим — нисколько не худшим, напротив, может быть и лучшим! — проявляет устойчивую невосприимчивость. Зная, каким напряжением всех сил писатель воплощает свой замысел, следовало бы задуматься о принципиальной возможности воплотить чужой.
Можно предположить (с высокой степенью вероятности), что Чуковский сознательно пошел на некоторое преувеличение роли Горького в судьбе «Крокодила». Ссылка на причастность Горького к судьбе сказки носила явно защитительный характер, была чем-то вроде заявки на «охранную грамоту». Все свидетельства Чуковского о причастности Горького были сделаны в ту пору, когда сказка действительно нуждалась в защите от наскоков административной критики, и наш рассказ о «Крокодиле» еще доберется до этих событий. Рассказы о Горьком, дарящем замысел, нужно дополнить важным соображением: Чуковский воспринял горьковскую мысль потому, что там (в вагоне или в квартире) о проблемах детской литературы разговаривали единомышленники. Разговаривали два человека, убежденные в том, что с детской литературой дела обстоят из рук вон плохо и нужно что-то срочно предпринять. Более того, детская литература была едва ли не единственной темой, в которой тогдашний Горький мог достичь с тогдашним Чуковским серьезного взаимопонимания. Потому-то и шла поначалу туго их беседа, потому-то и повернул ее Горький на колесах своего нижегородского «о»: «По-го-во-рим о детях…»
Горький пригласил Чуковского для этой беседы потому, что знал почти десятилетнюю ожесточенную борьбу критика за доброкачественность детской литературы. Трудно усмотреть в словах Горького (по всем рассказам Чуковского) замысел «Крокодила» — той сказки, которую мы знаем без малого сто лет. Замысла произведения там нет. Предполагалось другое: переход от критики к поэтическому творчеству, от анализа — к синтезу, от справедливого отрицания «антиценностей» детской литературы — к созданию ценностей безусловно положительных. Одним словом, речь шла о другом литературном жанре, о перемене жанра: «большая поэма», «эпическая вещь», «наподобие „Конька-Горбунка“». Только одно место имеет, кажется, прямое отношение к замыслу «Крокодила»: «из современного быта».
И другое обстоятельство, невысказанное, подразумевалось с очевидностью: сказка нужна была для сборника, выходившего в горьковском издательстве «Парус», которое было создано прежде всего для выпуска антивоенной литературы. Общая ненависть к милитаризму и войне стала серьезной платформой для вагонной беседы Горького с Чуковским — в этом смысле они и впрямь ехали в одном поезде.
«Кое-какие из моих статей, — вспоминал Чуковский, — были собраны в книжке „Матерям о детских журналах“, вышедшей в 1911 году (кажется). В этой книжке было много недостатков, но она чем-то заинтересовала Горького, с которым я в ту пору не был знаком»[15]. В этой-то книжке и других работах критика, посвященных детской литературе, Горький и мог «вычитать» будущего автора детских сказок.
Но тут возникает вот какое затруднение: Чуковский называет точную дату своего знакомства с Горьким — 21 сентября 1916 года[16], — а между тем, по свидетельствам, заслуживающим доверия, «Крокодил» (по крайней мере, первая его часть) существовал до этой встречи. И, кажется, даже исполнялся автором публично: «Еще в октябре 1915 года я читал его вслух на Бестужевских курсах…»[17]
Очевидно, причуды памяти исказили что-то в свидетельствах Чуковского. Возможно, что мысль Горького о необходимости большой поэмы для детей — вроде «Конька-Горбунка» — была ответом на какое-то упоминание Чуковского о начале «Крокодила». Возможно, Чуковский невольно изобразил горьковской инициативой то, что на самом деле было поддержкой, сочувствием, одобрением.
Как бы там ни было, но все попытки сочинить сказку за письменным столом кончались самым жалким провалом — «вирши выходили корявые и очень банальные». Чуковский отчаивался и клял свою несостоятельность.
«Но случилось так, — вспоминал он, — что мой маленький сын заболел, и нужно было рассказать ему сказку. Заболел он в городе Хельсинки, я вез его домой в поезде, он капризничал, плакал, стонал. Чтобы как-нибудь утихомирить его боль, я стал рассказывать ему под ритмический грохот бегущего поезда:
- Жил да был
- Крокодил.
- Он по улицам ходил…
Стихи сказались сами собой. О их форме я совсем не заботился. И вообще ни минуты не думал, что они имеют какое бы то ни было отношение к искусству. Единственная была у меня забота — отвлечь внимание ребенка от приступов болезни, томившей его. Поэтому я страшно торопился: не было времени раздумывать, подбирать эпитеты, подыскивать рифмы, нельзя было ни на миг останавливаться. Вся ставка была на скорость, на быстрейшее чередование событий и образов, чтобы больной мальчуган не успел ни застонать, ни заплакать. Поэтому я тараторил, как шаман…»[18]
Несмотря на то что этот эпизод не подтверждается дневниковыми записями Чуковского и даже отчасти противоречит им, одно в нем несомненно: свидетельство автора об импровизационном истоке «крокодильских» стихов. Импровизационное происхождение «материи песни» (если воспользоваться словцом Генриха Гейне), изустный характер стихового «вещества» сказки многое предопределили в ней и дали своего рода музыкальный ключ к тем частям «Крокодила», которые создавались позднее, уже за столом, с пером в руке.
Непредумышленность импровизации открыла дорогу таким глубинным особенностям творческой личности Чуковского, что сказка — вещь эпическая и детская — окрасилась в лирические цвета. Лирический смысл «Крокодила» становится понятным, если рассматривать сказку вместе со всеми произведениями Чуковского, в их контексте. Ведь «Крокодил», как уже было сказано ранее, воспринял и продолжил работу автора в других жанрах.
В 1907 году Александр Блок упрекал молодого, но уже занявшего «видное место среди петербургских критиков» Корнея Чуковского за «мозаичность». Многообразные работы Чуковского, полагал Блок, не объединены никакой «длинной фанатической мыслью»[19].
Нечто подобное Чуковскому приходилось слышать и на закате его неслыханно долгой — почти семидесятилетней! — литературной деятельности. Конечно, все работы Чуковского отмечены печатью огромного таланта, но — как бы это помягче выразиться? — слишком уж они разнообразны. В смене его тем и жанров есть что-то калейдоскопическое. Войдите в положение составителя справочной статьи для энциклопедии или словаря: как ему определить главную специальность писателя Чуковского? Кто он — критик, публицист, литературовед? Может быть, детский поэт? Или прозаик? Переводчик? Историк Некрасова и его эпохи? Теоретик перевода? Лингвист? Исследователь детской психологии? Мемуарист? Что за неустойчивость, зыбкость, раздребезженность: схватится за одно, тут же бросает и хватается за другое…
Между тем «длинная фанатическая мысль», блоковским нареканиям вопреки, была у Чуковского уже и в ту раннюю пору. Но к 1907 году она не успела выявиться настолько, чтобы стать заметной. «Длинной фанатической мыслью» Чуковского — или «темой жизни», как он сам это называл, — был синтез демократии и культуры, демократическая культура. Здесь — кредо Чуковского, его вера, его надежда и любовь. Вот почему понятие синтеза — самое главное в литературно-теоретических построениях Корнея Чуковского, а слово «синтез» — едва ли не самое употребительное в его текстах, ключевое.
Идея демократической культуры осмысляет поверхностно наблюдаемую пестроту творчества Чуковского как грани одного монолита. Выходец из низов, самоучка, поднявшийся на культурные вершины, провинциальный журналист, ставший живым символом преемственности двух веков русской культуры, он воплощал эту «длинную фанатическую мысль» столько же своей жизнью, сколько и своим творчеством.
Отсюда ведет происхождение устойчивый интерес Чуковского к демократическим бардам — Некрасову, Шевченко, Уитмену — и к великому демократическому художнику Репину. Свою дореволюционную работу об Уитмене Чуковский назвал «Поэзия грядущей демократии» — с ощутимым и несомненным выпадом против высокомерно-снобистской формулы «грядущий хам». Отсюда же — приход Чуковского к художественному переводу, делу культурному и демократическому по самой своей сути, ибо буржуазным «верхам» с их знанием иностранных языков оно было не нужно и даже враждебно. Отсюда же постоянное внимание Чуковского ко всяческим проявлениям «низовой» культуры, будь то старый и новый фольклор, или созданные городской массой новые слова и словечки, или воспринятый этой массой как свой — кинематограф. Отсюда же проистекает стилистика критических и литературоведческих работ Чуковского, словно бы нарочно приспособленная к тому, чтобы говорить о самых сложных и высоких материях с самым простодушным читателем и одновременно радовать вкус читателя изощренного.
Подобную задачу — своим нелегким путем — решал для себя Александр Блок. Несколько упрощая, можно сказать, что Блок шел к той же цели — с другой стороны, от культуры, и сближение его с Чуковским в последние годы жизни поэта следует объяснять, не в последнюю, по-видимому, очередь, осознанием общности решаемой ими задачи.
Все та же «длинная мысль» продиктовала Чуковскому попытку диалектически «снять» противоречие между «старой» и «новой» Россией — между культурой и демократией — в статье «Ахматова и Маяковский». Даже «Чукоккала» — эта забава «возле литературы», «возле искусства» (и рифма «Чукоккала — около», излюбленная всеми, писавшими в альбом, кажется, не случайна!) — получает объяснение с точки зрения «длинной мысли» Чуковского.
Альбомы пушкинской поры — «разрозненные томы из библиотеки чертей», по иронической характеристике Пушкина, — к началу XX века стали уже обломками высокой, но отжившей культуры — и тут были открыты в новом качестве: именно как обломки, свидетельствующие о целом. Действительно смешные и несколько претенциозные в быту, они оказались бесценными для науки, изучающей историю культуры. «Чукоккала», словно бы учитывая этот опыт и забегая вперед, сообщает причуде провинциальной барышни — альбому для стихов и прочего — общенародное и общекультурное значение, объединяет под одним переплетом старое и новое, «высокое» и «низкое». Синтезирующим началом в этом случае выступает, конечно, личность собирателя, сам владелец альбома как участник или центр некоего круга.
Удивительно ли, что именно Чуковский открыл и впервые описал (в работе «Нат Пинкертон и современная литература»[20]) то явление, которое ныне широко известно под названием «массовой культуры», «кича» и т. п. Анализ этого явления в работе Чуковского настолько проницателен и точен, что современные исследования на ту же тему нередко выглядят простым развитием (а то и повторением) идей, заявленных Чуковским на заре столетия. Стоит отметить: аналогичные работы западных культурологов появились лишь два десятилетия спустя, так что приоритет Чуковского в этой области несомненен. И когда слышишь нынешние споры о происхождении слова «кич», о его темной этимологии, хочется предложить: пусть это слово, вопреки лингвистике, но в согласии с историей, расшифровывается по праву первооткрытия — как инициалы первооткрывателя: Корней Иванович Чуковский. Так биолог, открыв новый болезнетворный вирус, дает ему свое имя.
В «киче» он открыл своего главного врага. Вирус пошлости, эстетическую дешевку, расхожий заменитель красоты, всякого рода литературный ширпотреб он всегда разоблачал и предавал публичному осмеянию — от ранней статьи о «Третьем сорте» до самых поздних, вроде статьи с выразительным названием «О духовной безграмотности». Чуковский не уставал доказывать, что кичевое искусство — при некотором внешнем сходстве — противоположно демократическому. Его постоянным доводом против «кича» (и против чистоплюйского снобизма, связанного с «кичем» гораздо теснее, нежели принято полагать) был Чехов. Моральный и эстетический авторитет Чехова Чуковский исповедовал всю жизнь, строил свою систему самовоспитания по Чехову, видел в Чехове наиболее полное воплощение своей «длинной мысли».
Великое искусство, понятное всем, было его идеалом, от которого он никогда не отступался. Жанровое и тематическое многообразие произведений Чуковского неожиданно подтверждает цельность автора: перед нами испытание разных путей и средств демократической литературы. Будто бы «переменчивый» писатель, Чуковский очень мало изменился за свою долгую литературную жизнь: когда тяжкие социальные обстоятельства требовали от художника-интеллигента отказа от прежних взглядов и мнений, он менял не мнения и взгляды, а только темы и жанры своего творчества. Другой темой и новым жанром он продолжал служить все той же своей «длинной фанатической мысли». В этом и впрямь было что-то «калейдоскопическое»: калейдоскоп меняет картинку, если его встряхнуть, повернуть, щелкнуть. Но узор, предлагаемый калейдоскопом взамен прежнего, составлен из тех же элементов и по тому же принципу — ни других элементов, ни другого принципа их организации у него просто нет.
Вот откуда у Чуковского многочисленные подступы к литературе для детей — быть может, самому естественному проявлению демократической культуры. Страстный книгочей с огромным теоретическим даром, Чуковский должен был задуматься над общеизвестным (и потому — привычным, не задевающим мысль) фактом непрерывного «опускания» произведений «высокой» классики по возрастной лестнице. В самом деле, — едва ли не самые задиристые книги, отыграв свою боевую публицистическую роль, с поразительным постоянством переходили в детское чтение: «Дон Кихот» и «Путешествие Гулливера», «Приключения Робинзона Крузо» и «Хижина дяди Тома», «Макс Хавелаар» и сказки Пушкина, басни Крылова и «Конек-Горбунок». Чуковский осмыслил книги для детей — возрастную рубрику — как рубрику своеобразно социальную, как наиболее демократический пласт литературы. Механизмы демократической культуры Чуковский изучал разными способами, в том числе — на материале детского мышления, и поставил знак равенства между ним и мышлением фольклорным («От двух до пяти»).
И когда от теоретизирования в этой области Чуковский перешел к художественному творчеству, у него получился «Крокодил», открывший длинный список сказочных поэм. Сказки Чуковского — «мои крокодилиады», как именовал их автор, — представляют собой перевод на «детский» язык великой традиции русской поэзии от Пушкина до наших дней. Сказки Чуковского словно бы «популяризуют» эту традицию — и в перевоплощенном виде («повторный синтез») возвращают народу, его детям.
Своим крупным и чутким носом — излюбленной мишенью карикатуристов — Чуковский мгновенно улавливал социально-культурные процессы начала XX века. От Чуковского не укрылось ни то, что низовые жанры искусства — рыночная литература, цирк, эстрада, массовая песня, романс и кинематограф — сложились в новую и жизнеспособную систему, ни то, что эта система переняла у фольклора ряд его общественных функций. Эстетический язык социальных низов и их жизнечувствование, которые художник XIX века находил непосредственно в фольклоре, теперь все очевидней обнаруживались в «массовой культуре», вобравшей в себя простейшие — и основные — фольклорные модели. Будущий историк, несомненно, осмыслит тот факт что «кич» сложился и был открыт как раз тогда, когда эпоха традиционного фольклора шла к своему естественному завершению. Для демократических городских масс «кич» стал заменителем фольклора в бесфольклорную эпоху, а для высокого искусства — от Блока и далее — «источником», каким прежде был фольклор.
В «массовой культуре» Чуковский увидел явление далеко не однозначное, требующее тонкой различительной оценки. Никакого восторга у него не вызывало свойственное «кичу» превращение традиции — в штамп, творчества — в производство, поиска путей к человеческому уму и сердцу — в расчетливое нажатие безотказных рычагов. Как человек культуры, Чуковский должен был отвергнуть «массовую культуру» за эстетическую несостоятельность, а как демократ — должен был задуматься: чем, собственно, привлекателен «кич» для масс, что делает его массовым?
Оказалось, «кич» воздействует своими элементарными, но выработанными и проверенными тысячелетней практикой — потому неотразимо действующими — знаками эмоциональности. Эти знаки настолько просты, что в них стирается грань между сигналом об эмоции и эмоцией как таковой. В поисках киновыразительности подобную задачу решал для себя С. Эйзенштейн, и ход мысли привел его к цирку — эстетическому явлению, которое вроде бы никак не подходит под бытующие определения фольклора (цирк не «изустен», не «коллективен» и вообще не «словесен»), но тем не менее — глубоко фольклорному по своей природе. Цирк оказался как раз тем видом массового искусства, который с наибольшей полнотой и сохранностью «законсервировал» мифологические и фольклорные «первоэлементы» — простейшие сигналы эмоций, неотличимые от эмоций, — и непрерывно работает с ними. Переосмыслив заимствованное из циркового обихода слово, Эйзенштейн назвал свое открытие «монтажом аттракционов» и перенес его в искусство кино[21].
Подобное открытие Чуковский совершил дважды: в первый раз теоретически — как аналитик — в статье «Нат Пинкертон и современная литература», во второй — как поэт — в «Крокодиле». В массовой культуре он открыл такие фольклорно-мифологические средства воздействия (суггестии), которые могут быть использованы для создания высоких художественных ценностей. И если до сих пор мы видели в «Крокодиле» некую «популяризацию» высокой традиции русской поэзии, «перевод» ее на демократический язык детской сказки, то теперь можно добавить, что в «Крокодиле» был осуществлен экспериментальный синтез этой высокой традиции — с традицией низовой, фольклорной и даже кичевой. Вот почему «идейные» смыслы «Крокодила» так неуловимы и с трудом поддаются истолкованию: они выводятся не столько из образов и ситуаций сказки Чуковского, сколько (и в первую очередь) из смысла осуществленного в ней эксперимента.
Самозабвенно, «как шаман» (по собственному сравнению Чуковского), и почти безотчетно, как сказитель фольклора («не думал, что они имеют какое бы то было отношение к искусству», — по его же утверждению), он импровизировал строки сказки:
- Жил да был Крокодил.
- Он по Невскому ходил,
- Папиросы курил,
- По-немецки говорил, —
- Крокодил, Крокодил, Крокодилович…
Шамана несет волна экстатического ритма. Сказитель фольклора безостановочно импровизирует, опираясь на огромное количество готовых, «стандартных» элементов — словесных, фразовых, композиционных и прочих: фольклор — материал для создания фольклорного произведения. Для импровизированного литературного произведения таким материалом стала городская культура в разных своих проявлениях, особенно — низовых, массовых. Чем напряженней импровизационность литературного творчества, тем чаще возникают в нем сознательные или безотчетные «цитаты», перефразировки, аллюзии «чужого слова», мелодии чужих ритмов, рефлексы чужих образов. Без этого импровизация попросту невозможна, и аллюзионность, входящая — в разной мере — в состав многих стилей, стилю импровизационному свойственна органически. Память импровизатора — особая, не сознающая себя, «беспамятная память». Сознательная установка критика на синтез воплощалась в непроизвольном синтезе поэта.
Однажды Илья Ефимович Репин, рассказывал Чуковский, вошел к нему в комнату, когда он читал кому-то повесть Ф. М. Достоевского «Крокодил, необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже»: «Вошел и тихо присел на диванчик. И вдруг через пять минут диванчик вместе с Репиным сделал широкий зигзаг и круто повернулся к стене. Очутившись ко мне спиной, Репин крепко зажал оба уха руками и забормотал что-то очень сердитое, покуда я не догадался перестать»[22]. Странное поведение Репина и то, о чем «догадался» Чуковский, останутся загадкой, если не вспомнить, что со времени выхода повести «Крокодил, необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» критика считала ее пасквилем на вождя русской революционной демократии Чернышевского. Автор повести с негодованием отвергал самую возможность такого пасквиля, и современные исследования подтверждают правоту писателя, но Репин, несомненно, находился под влиянием неправого толкования. Его выходка — демонстрация протеста против чтения «пасквиля».
Эпизод этот в воспоминаниях Чуковского не датирован, но по расположению в тексте его следует отнести к 1915 году. Тогда же или чуть позднее в вагоне пригородного поезда Чуковский начал импровизировать стихи, чтобы отвлечь больного ребенка от приступа болезни, еще не зная, что его импровизация — начало будущей сказки. Недавнее чтение «Крокодила» Достоевского закрепилось в памяти Чуковского бурным (и, как мы теперь знаем, необоснованным) протестом Репина. Импровизированный стих особенно охотно вбирает все то, что лежит «близко» — в наиболее свежих отложениях памяти, и, весьма возможно, Чуковский стал перекладывать в стихи (скорей всего — бессознательно) образы и положения повести Достоевского. Во всяком случае, сходство двух крокодилов — так сказать, внеидеологическое, ситуативное, типологическое — очень велико.
Сюжетные обязанности обоих крокодилов (у Достоевского на протяжении всей незаконченной повести и у Чуковского в первой части сказки) очень просты и сводятся к одному: к глотанию, проглатыванию. «Ибо, положим, например, тебе дано устроить нового крокодила — тебе, естественно, представляется вопрос: каково основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым»[23], — с издевательским глубокомыслием сообщает повесть Достоевского. Перед нами предначертание (или проект) «устройства» крокодила, и Крокодил Чуковского «устроен» в точности по этому проекту. Его Крокодил тоже глотает — правда, не чиновника, а городового, но как тот был проглочен в сапогах, так и этот попадает в крокодилово чрево «с сапогами и шашкою». Про обоих можно сказать словами повести: «без всякого повреждения»[24] — или словами сказки:
- Утроба Крокодила
- Ему не повредила…
В сказке Чуковского при ближайшем рассмотрении обнаруживается несколько крокодилов. Приглядимся к тому из них, который остался незамеченным, так как прямо не участвует в перипетиях сказки, а лишь присутствует в рассказе Крокодила Крокодиловича о Петрограде:
- Вы помните, меж нами жил
- Один веселый крокодил…
- А ныне там передо мной,
- Измученный, полуживой,
- В лохани грязной он лежал…
В такой же обстановке предстает перед читателем крокодил Достоевского: «… Стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны; накрытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей…» «Мне кажется, ваш крокодил не живой», — кокетливо замечает некая дамочка в повести Достоевского[25]. «Измученный, полуживой», — говорится в сказке Чуковского. Если сравнить эти два фрагмента, может показаться, будто Крокодил Чуковского, вернувшись в Африку, рассказывает там своим собратьям — о крокодиле Достоевского! Тема дурного обращения с животными, развернутая во второй и третьей частях сказки, сразу перебрасывает мостик между двумя «Крокодилами»: зверинцы есть и у Достоевского. Герой его повести был проглочен крокодилом в тот момент, когда собирался в заграничную поездку — «смотреть музеи, нравы, животных…»[26]. К поездке и ее цели начальство относится подозрительно: «Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды»[27].
Крокодил в сказке Чуковского говорит по-немецки, возможно, потому, что крокодил в повести Достоевского — собственность немца, который изъясняется на ломаном русском. Крокодил там — существо безмолвное, но крокодил немца — немецкий крокодил — естественно, должен и заговорить по-немецки. Достоевский подробно описывает «технологию» глотания, «процесс» проглатывания живого человека крокодилом: «…Я увидел несчастного… в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами»[28] и т. д. Эта «технология» графически буквально будет потом воспроизведена на рисунках Ре-Ми к сказке Чуковского. И повесть, и сказка — «петербургские истории». Перекресток Невского и Садовой у Пассажа, где выставлен крокодил Достоевского, станет местом действия в последующих сказках Чуковского — грязнуля в «Мойдодыре» будет бежать от Умывальника «по Садовой, по Сенной».
Таким образом, сказка Чуковского об африканском чудище в самом центре северной столицы — не первое появление крокодила на Невском. Навряд ли мимо слуха литератора, столь внимательного к проявлениям низовой культуры, прошли песенки о крокодилах, повсеместно зазвучавшие как раз в ту пору, когда Чуковский начал сочинять свою сказку. Словно эпидемия, прокатилась песенка неизвестного автора «По улицам ходила большая крокодила», заражая всех своим примитивным текстом и разухабистой мелодией. Огромной популярность пользовалось — и тоже распевалось (на музыку Ю. Юргенсона) — стихотворение Н. Агнивцева «Удивительно мил жил да был крокодил». Еще один поэт с восторгом и ужасом восклицал: «Ихтиозавр на проспекте! Ихтиозавр на проспекте!» Так что Чуковский, выводя своего Крокодила на Невский, мог ориентироваться на широкий круг источников — «высоких» и «низких»: в прецедентах недостатка не было.
Первая же строфа «Крокодила» поражает необычностью своей конструкции. Ухо слушателя мгновенно отмечает затейливую странность ее ритмического рисунка: в монорифмической строфе (жил-был-крокодил-ходил-курил-говорил), где одна рифма уже создала инерцию и слух ждет такой же рифмы в конце, неожиданно, обманывая рифменное ожидание, появляется нерифмованная строка, лихо завершая хорей — анапестом. Родственная считалкам детских игр, строфа зачина «Крокодила» перешла потом в другие сказки Чуковского, стала легко узнаваемым ритмическим знаком, «ритмическим портретом» сказочника и была неоднократно окарикатурена пародистами. То обстоятельство, что ритмический рисунок этой строфы роднит Чуковского с Блоком, было замечено гораздо позже[29]. Строфа дает чрезвычайно выразительное соответствие некоторым ритмическим ходам «Двенадцати» — за два года до великой поэмы Блока:
- В кондовую,
- В избяную,
- В толстозадую!
- …………………
- Ах ты, Катя, моя Катя,
- Толстоморденькая…
Родство расшифровывается общим «источником» — частушкой, которая в начале века бытовала в низовом массовом пении (и звучит — как полномочная представительница этой среды — в рассказе Л. Андреева «Вор»):
- Пила чай с сухарями,
- Ночевала с юнкерями!
- Маланья моя,
- Лупоглазая!
К Блоку она попала не только со своим необычным ритмическим ходом, но даже с персонажами — гулящей девкой и «юнкерями» («С юнкерьем гулять ходила…»). Чуковский тоже хорошо знал эту частушку, и в статье о Л. Андрееве цитировал ее целиком, приведенную в рассказе «Вор» первыми двумя строчками.
Первой же строфой «Крокодила» Чуковский как бы распахнул окно кабинета на улицу, и оттуда ворвались отголоски эстрадной песенки, стишка полубульварного поэта и воровской частушки, смешавшись с голосами литературной классики, звучавшими в помещении. Образ взят из одного источника, фразеология — из другого, ритмика — из третьего, а смысл, «идея» не связаны ни с одним из них. Это прекрасно понял С. Маршак: «Первый, кто слил литературную линию с лубочной, был Корней Иванович. В „Крокодиле“ впервые литература заговорила этим языком. Надо было быть человеком высокой культуры, чтобы уловить эту простодушную и плодотворную линию. Особенно вольно и полно вылилось у него начало. „Крокодил“, особенно начало, — это первые русские „Rhymes“»[30].
Начало «Крокодила» — первая строфа сказки — модель, на которую ориентировано все произведение. Начало задает тон, а тон, как известно, делает музыку. Подобно первой строфе, едва ли не каждая строчка «Крокодила» имеет ощутимые соответствия в предшествующей литературе и фольклоре (шире — в культуре), но восходит не к одному источнику, а к нескольким, ко многим сразу (подобно «цитатам» в «Двенадцати» Блока, по отношению к которым современный литературовед применил специальное слово — «полигенетичность»).
Обилие голосов и отголосков русской поэзии — от ее вершин до уличных низов — превращает сказку в обширный свод, в творчески переработанную хрестоматию или антологию, в необыкновенный «парафраз культуры». «Крокодил» — на свой лад тоже альбом, принявший на свои страницы — неведомо для вкладчиков — невольные вклады десятков поэтов. Сказка Чуковского — своего рода «Чукоккала», отразившая целый век русской культуры.
Синтезирующим началом в этом случае выступает — поэт.
Вся сказка искрится и переливается самыми затейливыми, самыми изысканными ритмами — напевными, пританцовывающими, маршевыми, стремительными, разливисто-протяжными. Каждая смена ритма в сказке приурочена к новому повороту действия, к появлению нового персонажа или новых обстоятельств, к перемене декораций и возникновению иного настроения. Вот Крокодилица сообщает мужу о тяжком несчастье: крокодильчик Кокошенька проглотил самовар (маленькие крокодильчики ведут себя в этой сказке — и в других сказках Чуковского — подобно большим: глотают что ни попадя). Ответ неожидан:
- Как же мы без самовара будем жить?
- Как же чай без самовара будем пить? —
дает Крокодил выход своему отцовскому горю. Но тут —
- Но тут распахнулися двери,
- В дверях показалися звери.
Ритм сразу меняется, как только распахиваются какие-нибудь двери. Каждый эпизод сказки получает, таким образом, свою мелодию. Вот врываются былинные речитативы, словно это говорит на княжеском пиру Владимир Красное Солнышко:
- Подавай-ка нам подарочки заморские
- И гостинцами порадуй нас невиданными…
Затем следует большой патетический монолог Крокодила, вызывая в памяти лермонтовского «Мцыри»:
- О, этот сад, ужасный сад!
- Его забыть я был бы рад.
- Там под бичами сторожей
- Немало мучится зверей…
У Лермонтова, к примеру, почти наугад:
- Я убежал. О, я как брат
- Обняться с бурей был бы рад.
- Глазами тучи я следил,
- Руками молнию ловил…
В обоих случаях даже рифма на одно и то же слово («сад — рад» и «брат — рад»), к тому же у Лермонтова и у Чуковского речь идет, в сущности, об одном и том же — о любви к свободе, о ненависти к неволе. Но в «Крокодиле» неволя представлена не монастырем с кельями, как в «Мцыри», а «садом» — зоосадом, зверинцем с клетками. Поэтому так естественно звучит в строчке «О, этот сад, ужасный сад!» парафраз (почти цитата) из «Зверинца» Велимира Хлебникова: «О Сад, Сад!»
У Хлебникова эта строчка выделена, поскольку ею начинается знаменитое стихотворение, породившее целую серию русских «бестиариев» в стихах и прозе; она выделена и тем, что, видоизменяясь, становится в «Зверинце» рефреном. От Лермонтова до Хлебникова — необыкновенно широкий захват, «Мцыри» и «Зверинец» — необыкновенный синтез, но такие чудеса случаются в «Крокодиле» на каждом шагу. Следующий шаг обнаруживает в тех же самых строчках сказки очевидную перекличку с поэмой Н. Гумилева «Мик» (подобно «Крокодилу», «детской» и «экзотической» поэмой). В «Мике» читаем:
- …Он встал
- Подумал и загрохотал:
- «Эй, носороги, эй, слоны,
- И все, что злобны и сильны,
- От пастбища и от пруда
- Спешите, буйные, сюда.
- Ого-го-го, ого-го-го!
- Да не щадите никого».
- И павиан, прервав содом,
- Утершись, тихо затянул:
- «За этою горой есть дом,
- И в нем живет мой сын в плену.
- Я видел, как он грыз орех,
- В сторонке сидя ото всех…»
Ситуацию этой сцены, ее ритм и образы предлагается сравнить со следующими местами монолога Крокодила (для удобства сравнения сделана небольшая перестановка, и фрагменты монолога приводятся не в той последовательности, в какой они располагаются в сказке Чуковского):
- И встал печальный Крокодил
- И медленно заговорил…
- Вы так могучи, так сильны —
- Удавы, буйволы, слоны…
- Вставай же сонное зверье!
- Покинь же логово свое!
- Вонзи в жестокого врага
- Клыки, и когти, и рога!
- Там под бичами палачей
- Немало мучится зверей:
- Они стенают и зовут
- И цепи тяжкие грызут…
- Вы помните, меж нами жил
- Один веселый крокодил…
- Он мой племянник. Я его
- Любил, как сына своего…
Р. В. Иванов-Разумник полагал, чтоб «Мике» Гумилева соединены «Мцыри» и «Макс и Мориц» Вильгельма Буша. Подобный же синтез осуществлен в монологе Крокодила, о котором, сверх того, можно сказать, что в нем соединены «Мцыри» и «Мик». Своеобразный стихотворный контакт Чуковского с Н. Гумилевым будет продолжен потом в «Бармалее», но это уже другая тема.
Ритм, подобный лермонтовскому, появляется еще в одном месте «Крокодила»:
- Не губи меня, Ваня Васильчиков!
- Пожалей ты моих крокодильчиков! —
молит Крокодил, словно бы подмигивая в сторону «Песни про купца Калашникова…». Ироническая подсветка героического персонажа, достигаемая разными средствами, прослеживается по всей сказке и создает неожиданную для детского произведения сложность образа: подвиг Вани Васильчикова воспевается и осмеивается одновременно. По традиции, восходящей к незапамятным временам, осмеяние героя есть особо почетная форма его прославления — с подобной двойственностью на каждом шагу сталкиваются исследователи древнейших пластов фольклора. Героический мальчик удостаивается наибольшей иронии сказочника как раз в моменты своих триумфов. Все победы Вани Васильчикова поражают своей легкостью. Нечего и говорить, что все они бескровны. Вряд ли во всей литературе найдется батальная сцена короче этой (включающей неприметную пушкинскую цитату):
- И грянул бой! Война, война!
- И вот уж Ляля спасена.
Такая краткость даже несколько обескураживает: война заканчивается, не успев начаться. В самой этой краткости — ирония, которая усилится, когда память услужливо подскажет нам источник этого «батального полотна» — пушкинскую «Полтаву». Крокодил проглотил половину классической строки — и утроба Крокодила ей не повредила. Героические действия — бой и война — тоже представлены в сказке неоднозначно, возвеличены и осмеяны одновременно.
Особенно много в сказке отзвуков некрасовской поэзии. Оно и понятно: перед тем, как в ночном поезде вдруг сложились первые строфы сказки, Чуковский три или четыре года провел над рукописями Некрасова. Некрасовские ритмы переполняли внутренний слух сказочника, некрасовские строки то и дело срывались у него с языка:
- Милая девочка Лялечка!
- С куклой гуляла она
- И на Таврической улице
- Вдруг повстречала Слона.
- Боже, какое страшилище!
- Ляля бежит и кричит.
- Глядь, перед ней из-за мостика
- Высунул голову Кит…
Рассказ о несчастиях «милой девочки Лялечки» ведется стихами, вызывающими ассоциацию с великой некрасовской балладой «О двух великих грешниках»: ритмический строй баллады Чуковский воспроизводит безупречно. Несколько лет спустя Блок напишет «Двенадцать», где тоже слышны отзвуки баллады «О двух великих грешниках», но важные для Блока темы «анархической вольницы», «двенадцати разбойников», «искупительной жертвы» и прочего ничуть не интересуют детскую сказку. Насыщенность «Крокодила» словесными и ритмическими перекличками с русской поэтической классикой имеет совсем другой, особый смысл.
Уж не пародия ли он, «Крокодил»?
«В моей сказке „Крокодил“ фигурирует „милая девочка Лялечка“; это его (художника 3. И. Гржебина. — М. П.) дочь — очень изящная девочка, похожая на куклу. Когда я писал: „А на Таврической улице мамочка Лялечку ждет“, — я ясно представлял Марью Константиновну (жену 3. И. Гржебина. — М. П.), встревоженную судьбою Лялечки, оказавшейся среди зверей»[31], — вспоминал Чуковский во время своей последней, предсмертной болезни. Искреннее сопереживание попросту не оставляет места для пародии.
Отсылая взрослого читателя к произведениям классической поэзии, Чуковский создает иронический эффект, который углубляет сказку, придает ей дополнительные оттенки значений. Для читателя-ребенка эти отзвуки неощутимы, они отсылают его не к текстам, пока еще не знакомым, а к будущей встрече с этими текстами. Система отзвуков превращает «Крокодила» в предварительный, вводный курс русской поэзии. Чужие ритмы и лексика намекают на образ стихотворения, с которым сказочник хочет познакомить маленького читателя. Конечно, Чуковский думал о своем «Крокодиле», когда доказывал — через несколько лет после выхода сказки — необходимость стихового воспитания:
«Никто из них (педагогов. — М. П.) даже не поднял вопроса о том, что если дети обучаются пению, слушанию музыки, ритмической гимнастике и проч., то тем более необходимо научить их восприятию стихов, потому что детям, когда они станут постарше, предстоит получить огромное стиховое наследство — Пушкина, Некрасова, Лермонтова… Но что сделают с этим наследством наследники, если их заблаговременно не научат им пользоваться? Неужели никому из них не суждена эта радость: читать хотя бы „Медного всадника“, восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым сочетанием звуков»[32]. Значит, смысл словесных и ритмических отзвуков русской поэзии в «Крокодиле» — культурно-педагогический. Сказочник готовит наследника к вступлению в права наследования.
Приближаясь к концу, сказка все чаще «вспоминает» Некрасова, и перед финальным занавесом снова звучат некрасовские дактили:
- Вот и каникулы! Славная елка
- Будет сегодня у серого Волка,
- Много там будет веселых гостей,
- Едемте, дети, туда поскорей!
У Некрасова (в поэме «Саша»):
- Саше случалось знавать и печали:
- Плакала Саша, как лес вырубали,
- Ей и теперь его жалко до слез:
- Сколько тут было кудрявых берез!
Или в «Псовой охоте»:
- Много там будет загубленных душ…
Вместе с тем в «Крокодиле» щедро представлен иной пласт культуры — газетные заголовки (вроде «А яростного гада долой из Петрограда»), вывески, уличные афиши и объявления. Эти создания массовой культуры города попали в поэтическое произведение, кажется, впервые — на полтора-два года раньше, чем их ввел в свою поэму Александр Блок. Одна часть этих отголосков опознается по стилистике, другая может быть подтверждена документально. Со времен Первой мировой войны Л. Пантелееву хорошо запомнились «отпечатанные в типографии плакатики, висевшие на каждой площадке парадной лестницы пурышевского дома на Фонтанке, 54:
ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ»[33].
В пурышевском ли доме или в каком другом Чуковский, несомненно, видел эти антинемецкие «плакатики» и отозвался на них в «Крокодиле» — репликой городового:
- — Как ты смеешь тут ходить,
- По-немецки говорить?
- Крокодилам тут гулять воспрещается.
И конечно, даже самый краткий рассказ об отражениях массовой культуры в «Крокодиле» не может обойтись без упоминания о кинематографе. Чуковский был одним из первых русских кинокритиков, и серьезность его подхода к этому новому явлению была отмечена Л. Толстым. Там, где поверхностный взгляд видел лишь профанацию высокого искусства, «искусство для бедных», дешевый балаган, Чуковский разглядел современную мифологию. Он разглядел воспроизведенный при помощи технических средств миф оторванных от старой фольклорной почвы городских масс. Как и вся современная жизнь, кинематограф полон противоречий: почему огромное техническое могущество, способное не риторически, а буквально останавливать мгновение, идет и создает какие-то пошлейшие «Бега тёщ»? Откуда такое несоответствие между взлетом техники и падением эстетики, упадком духа? «Нет, русская критика и русская публицистика должны все свое внимание обратить на эти произведения и изучить их с такой же пристальностью, как некогда изучали „Отцов и детей“, „Подли-повцев“, „Накануне“, „Что делать?“»[34]. Ряд, в который Чуковский поставил кинематограф, однозначен: критика заботили проблемы демократической культуры. Нужно не отмахиваться от любимого зрелища городских низов, а постараться постигнуть язык кинематографа, облагородить его и научиться говорить на нем…
И Чуковский стал переносить в литературу то, что составляет своеобразие кинематографа и неотразимо впечатляет зрителей: динамическое изображение динамики, движущийся образ движения, быстроту действия, чередование образов. Особенно это заметно в первой части сказки: там стремительность событий вызывает почти физическое ощущение ряби в глазах. Эпизод следует за эпизодом, как один кадр за другим. В позднейших изданиях сказки автор пронумеровал эти кадры — в первой части сказки их оказалось более двадцати, а текст стал напоминать стихотворный сценарий. Одну из следующих своих «крокодилиад» — «Мойдодыр» — Чуковский снабдит подзаголовком: «Кинематограф для детей».
И поскольку сказка оказалась сродни кинематографу, в нее легко вписалась сцена, поразительно похожая на ту, которую Чуковский незадолго перед этим увидал на экране — в ленте «Бега тёщ». В «Крокодиле» тоже есть «бега» — преследование чудовища на Невском:
- А за ним-то народ
- И поет и орет:
- Вот урод, так урод!
- Что за нос, что за рот!
- И откуда такое чудовище?
- Гимназисты за ним,
- Трубочисты за ним…
А тещи в кинематографе бегут так: «…Бегут, а за ними собаки, а за ними мальчишки, кухарки, полиция, пьяницы, стой, держи! — бегут по большому городу. Омнибусы, кэбы, конки и автомобили, — они не глядят, бегут…»[35] Здесь даже образы те самые, которые появятся потом на рисунках Ре-Ми, и «узнаваемость» их велика, а интонация прозы очевидным образом предваряет интонацию стиха в «Крокодиле». Но прежде всего «кинематографичность»: быстрота чередования зрительных впечатлений.
С появлением «Крокодила», писал Тынянов, «детская поэзия стала близка к искусству кино, к кинокомедии. Забавные звери с их комическими характерами оказались способны к циклизации; главное действующее лицо стало появляться как старый знакомый в других сказках. Это задолго предсказало мировые фильмы — мультипликации…»[36]
Кроме «Двенадцати» Блока, в русской поэзии трудно или невозможно найти другое произведение, которое вобрало бы столько «голосов» низовой, массовой культуры и, преследуя те же цели, подвергло бы их синтезу с высокой культурой, как «Крокодил». Надо прислушаться и, быть может, согласиться с мнением современных исследователей: «Уже сейчас вырисовывается основная смысловая линия подтекста сказки: „Крокодил“ представляет собой „младшую“, „детскую“ ветвь эпоса революции (и шире — демократического движения). В этом смысле „ирои-комическая“ поэма „Крокодил“ представляет собой интересную типологическую параллель к „большому“ революционному эпосу — поэме Блока „Двенадцать“. Последняя, как известно, также построена на цитатах и отсылках, источники которых частично совпадают с „Крокодилом“: газетные заголовки и лозунги, Пушкин, Некрасов, плясовые ритмы, вульгарно-романсная сфера…»[37]
Значит, не так уж много шутки в адресованном Чуковскому шуточном экспромте Тынянова:
- Пока
- Я изучал проблему языка,
- Ее вы разрешили
- В «Крокодиле»[38].
Тынянов писал, что в детской поэзии до «Крокодила» «улицы совсем не было»[39]. Действительно, детская комната, площадка для игр и лоно природы были исключительным пространством детских стихов. Даже такие поэты города, как Блок и Брюсов, принимались изображать село и сельскую природу, чуть только начинали писать для детей.
Улицу (уже нашедшую себе место в прозе для детей) сказка Чуковского впервые проложила через владения детской поэзии. На страницах сказки живет бурной жизнью большой современный город, с его бытом, учащенным темпом движения, уличными происшествиями, проспектами и зоопарками, каналами, мостами, трамваями и аэропланами. Ритмическая насыщенность сказки и стремительность смены ритмов — не «формальная» особенность сказки, а смысловая составляющая нарисованной в ней урбанистической картины. Полиритмия «Крокодила» — стихотворное воплощение той «многострунности», в образе которой виделся город символистам (опять-таки Блоку и Брюсову, и еще Андрею Белому).
Наиболее напряженное место современной цивилизации — улица огромного города — сталкивается в сказке со своей противоположностью — дикой природой, когда на Невский проспект ринулись африканские звери — крокодилы, слоны и носороги, гиппопотамы, жирафы и гориллы. И, оказавшись на этой улице один, без няни («он без няни гуляет по улицам»!), маленький герой сказки не заплакал, не заблудился, не попал под лихача-извозчика или под трамвай, не замерз у рождественской витрины, не был украден нищими или цыганами — нет, нет! Ничего похожего на то, что регулярно случалось с девочками и мальчиками на улице во всех детских рассказиках (особенно рождественских и святочных), не произошло с Ваней Васильчиковым. Напротив, Ваня оказался спасителем бедных жителей большого города, могучим защитником слабых, великодушным другом побежденных — одним словом, героем. Ребенок перестал быть только объектом, на который направлено действие поэтического произведения для детей, и превратился в поэтический субъект, в самого действователя.
Описательности детской поэзии Чуковский противопоставил событийность своей сказки, созерцательности, свойственной герою прежних детских стихов, — активность своего Вани, жеманной «чуйствительности» — мальчишеский игровой задор. Поэтика, основанная на эпитете, была заменена поэтикой глагольной. Пушкинский завет — «глаголом жечь сердца» — Чуковский словно бы воспринял с насмешливой буквальностью. В отличие от прежних детских стихов, где ровным счетом ничего не происходило, в «Крокодиле» в каждой строчке что-нибудь да происходит. И все, что происходит, вызывает немного ироничное, но вполне искреннее удивление героев и автора: ведь вот как вышло! Удивительно!
Что же вышло? Через пять лет после издания «Крокодила» отдельной книжкой Чуковский так разъяснял кинематографистам построение, образы и смысл своей сказки:
«Это поэма героическая, побуждающая к совершению подвигов. Смелый мальчик спасает весь город от диких зверей, освобождает маленькую девочку из плена, сражается с чудовищами и проч.
Нужно выдвинуть на первый план серьезный смысл этой вещи. Пусть она останется легкой, игривой, но под спудом в ней должна ощущаться прочная моральная основа. Ваню, напр., не нужно делать персонажем комическим. Он красив, благороден, смел. Точно так же и девочка, которую он спасает, не должна быть карикатурной… она должна быть милая, нежная. Тогда станет яснее то, что хотел сказать автор.
Автор в своей поэме хотел прославить борьбу правды с неправдой, доброй воли со злой силой.
В первой части — борьба слабого ребенка с жестоким чудовищем для спасения целого города. Победа правого над неправым.
Во второй части — протест против заточения вольных зверей в тесные клетки зверинцев. Освободительный поход медведей, слонов, обезьян для спасения порабощенных зверей.
В третьей части — героическое выступление смелого мальчика на защиту угнетенных и слабых.
В конце третьей части — протест против завоевательных войн. Ваня освобождает зверей из зверинцев, но предлагает им разоружиться, спилить себе рога и клыки. Те согласны, прекращают смертоубийственную бойню и начинают жить в городах на основе братского содружества… В конце поэмы воспевается этот будущий светлый век, когда прекратятся убийства и войны… Здесь под шутливыми образами далеко не шуточная мысль…»[40]
В этом документе (опубликованном лишь в 1986 году в первом издании этой книжки) Чуковский-критик интерпретирует Чуковского-поэта, в общем, правильно, но однобоко. Авторское толкование сдвигает смысл поэмы: настаивая на героике, несколько приглушает иронию. Героикомическая сказка трактуется как героическая по преимуществу. В этом толковании явно учтен опыт наблюдения автора над детьми — читателями сказки. Чуковский описывает свою первую сказку такой, какой создал бы ее, если бы обладал этим опытом заранее. Много лет спустя, издав свою последнюю сказку для детей — «Бибигон», — Чуковский столкнулся с замечательным обстоятельством: маленькие читатели не пожелали заметить в маленьком герое никаких черт, кроме героических. Во втором варианте «Бибигона» сказочник вычеркнул все места, снижающие образ героя. Приведенный документ — как бы программа второго, неосуществленного варианта «Крокодила».
Но мысль реального, состоявшегося «Крокодила» действительно нешуточная, и она, как всегда в художественном произведении, связана с образами и композицией. В первой части сочувствие сказочника целиком на стороне жителей Петрограда, пораженных страхом, и Вани Васильчикова — маленького героя-избавителя. Вторая часть приносит неожиданное смещение авторского взгляда: только что отпраздновав освобождение Петрограда «от яростного гада», Чуковский стал изображать этого «гада» ничуть не «яростным», а напротив — мирным африканским обывателем, добрым семьянином, заботливым папашей. Дальше — больше: Крокодил проливает слезы — не лицемерные «крокодиловы», а искренние — над судьбой своих собратьев, заключенных в железные клетки городских зверинцев. Моральная правота и авторское сочувствие переходят к другим героям сказки — обитателям страны, на которой, как на географической карте, написано: «Африка».
Эта сложность распределения моральных оценок должна как-то разрешиться в третьей части. Иначе противоречие между людьми и зверями превратится в противоречивость сказки Чуковского. Тем более, что едва звери нападают на пребывающий в мирном неведении город, они снова становятся «яростными гадами»: нельзя сочувствовать дикому чудовищу, похитившему маленькую девочку. Только новая победа Вани Васильчикова вносит в отношения людей и зверей обоюдно приемлемый лад, справедливость, гармонию: звери отказываются от своих страшных орудий — когтей и рогов, а люди разрушают железные клетки зоопарков. Начинается их совместная, взаимно безопасная и дружелюбная жизнь. В сказке наступает «золотой век»:
- И наступила тогда благодать:
- Некого больше лягать и бодать.
- Смело навстречу иди Носорогу —
- Он и букашке уступит дорогу…
- …Вон по бульвару гуляет Тигрица —
- Ляля ни капли ее не боится.
- Что же бояться, когда у зверей
- Нету теперь ни рогов, ни когтей!
- Ваня верхом на Пантеру садится
- И, торжествуя, по улицам мчится…
- …По вечерам быстроглазая Серна
- Ване и Ляле читает Жюль Верна…
- …Вон, погляди, по Неве, по реке
- Волк и Ягненок плывут в челноке…
Знал ли, догадывался ли автор, что он изобразил в «Крокодиле» один из серьезнейших мировых конфликтов? Впервые осознанный еще в предромантическом XVIII веке, этот конфликт стал всечеловеческой заботой в наше время: противостояние природы и цивилизации. Нет сомнения, что объективно сказка повествует именно об этом. Конфликт выражен с резкой отчетливостью, обе силы представлены в сказке своими крайними воплощениями: природа — дикими обитателями не тронутых человеком африканских лесов, цивилизация — современным «сверхгородом». Урбанистические черты Петрограда внесены в «Крокодил» с впечатляющей щедростью и усилены тем, что в жанре детской сказки-поэмы они появились впервые. Изображенное в сказке примирение «природы» и «цивилизации» хорошо согласуется с синтезом фольклора и литературной классики, «кича» и высокой культуры в словесной ткани «Крокодила». Чуковского вело органически присущее ему чувство синтеза.
Героем-победителем и, что, быть может, еще важнее, — героем-примирителем, своего рода посредником (медиатором) между конфликтными крайностями сказки оказывается маленький мальчик — персонаж, как нельзя лучше подходящий для этой роли. Человеческое дитя, он по своему происхождению принадлежит миру социальному, создавшему цивилизацию, но по малолетству еще не полностью «поглощен» этим миром и, во всяком случае, ближе к миру природному, чем взрослые обитатели города-гиганта. Маленький герой находится как бы на меже, на грани этих двух миров, и кому же выступить посредником в их примирении, как не ему?
Но эпоха, когда появился «Крокодил», не пожелала заметить в нем эту «вечную тему», подобно тому как дети не заметили иронической подсветки главного героического образа сказки. В многозначной книге каждая эпоха всегда выбирает самое необходимое для себя значение. Конфликт произведения каждый раз осмысляется с точки зрения наиболее острого, наиболее актуального конфликта эпохи. Напряженность и острота политической борьбы в момент выхода сказки Чуковского начисто исключали возможность обсуждения проблемы «природа и цивилизация». В контексте исторических событий культурологическая проблематика сказки не воспринималась, она отходила на второй и третий план, уступая место у рампы тем сказочным обстоятельствам, которые могли быть поставлены в прямое соответствие с реальными событиями эпохи. Таким обстоятельством в «Крокодиле» была — война.
С полным основанием, без всякого насилия сказка могла быть истолкована как антивоенный памфлет, но было бы совершенно бесполезным занятием искать соответствия между военными событиями эпохи и перипетиями сказочной борьбы в «Крокодиле»: для этого сказка не дает ни малейшего повода. А современники только тем и были озабочены, чтобы найти такие соответствия. Им показалась бы нелепостью сказка, лишенная прямых политических намеков, — ведь русская стихотворная сказка для взрослых приучила читателей к сатиричности. «Стихотворная сказка» и «сатира» — для отечественной традиции в ту пору — синонимы.
Чего только ни искали — и чего только ни находили — в героикомической сказке для детей! На каком языке говорит Крокодил? Ага, на немецком! Значит, схватка Вани Васильчикова подразумевает войну с немцами![41] Куда прыгнул Крокодил? Его прыжок в Нил — ясное дело — намек на Корнилова, который, как известно, тесно связан с жаркими странами — служил в Туркестане[42]. А кто спас Петроград от вражеского наступления и стал инициатором мира, правда, далеко не столь идиллического, как в сказке? Правильно, большевики. Значит…
Все эти и другие домыслы опирались, в сущности, на крохотный фактец — на неопределенность даты создания сказки. Неопределенность даты проявила завидную живучесть и порождала мифические истолкования сказки на протяжении сорока лет. Одни источники уверяли, будто «Крокодил» написан в 1915 году, другие — будто в 1919-м[43]. Обе даты не соответствуют действительности, и этот разнобой известным образом влиял на всех, кто писал о «Крокодиле». Чуковский отводил произвольные истолкования сказки самым простым способом — ссылкой на дату: «Говорили, например, будто здесь с откровенным сочувствием изображен поход генерала Корнилова, хотя я написал эту сказку в 1916 году (для горьковского издательства „Парус“) — И до сих пор живы люди, которые помнят, как я читал ее Горькому — задолго до корниловщины»[44]. Все попытки обнаружить в «Крокодиле» намеки на политическую конкретику разбиваются о дату создания сказки.
В «Крокодиле» нет конкретной войны. Там не Первая мировая и не какая-либо иная исторически засвидетельствованная война, а война вообще, война как таковая, война, мыслимая обобщенно и условно. Разрушая реальность конкретных явлений, сказка Чуковского сохраняет реальность отношений. Самая безудержная фантазия все-таки вырастает из действительности, а сказочник, импровизируя забавные строфы детской поэмы, жил в стране, измученной войной, ощущал войну на себе, читал наполненные ею газеты, дышал ее воздухом.
Еще за четыре года до мировой войны Чуковский противопоставлял военизированному «Задушевному слову» детский журнал «Маяк», «где твердят и твердят о том, что война есть самое ужасное дело», что «сами люди не хотят ее». Критик пылко присоединялся к пожеланию «Маяка», «чтобы великая мысль, великая изобретательность человека послужила на благо всему человечеству, а не на забаву отдельным богатым людям и тем более не для ужасного дела войны, убийства одних людей такими же людьми»[45].
Чуковский всем сердцем сочувствовал этим идеям, и только одно не устраивало его: журнальчик был скучноват. А вот московский «Путеводный огонек» — «не журнал, а как будто карусель: все кружится и мелькает в глазах. Сказочки, прибаутки, раскрашенные картинки»[46]. И приложение к нему — «Светлячок» — тоже хотя и не шедевр, но очень милый журнальчик: у него и «язык нарочито детский, кудрявый, игривый».
Одни достоинства у одного журнала, другие — у другого. «И вот мне приходит мысль: а что, если вместе связать этот маститый „Маяк“ с удалым залихватским „Светлячком“? Пускай бы дал „Светлячок“ „Маяку“ все свое ухарство, все свои блестки и краски, а „Маяк“ пускай даст „Светлячку“ свои „идеи“ и „чувства“»[47]. Неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь этим предложением Чуковского, но сам-то он точно им воспользовался. Своим «Крокодилом» он осуществил этот синтез: связал ухарство и блестки с гуманистическими антивоенными идеями.
«Крокодил» — поэтический «декрет о мире» для детей. Детская сказка в стихах, помимо прочих причин, была вызвана к жизни тем, что давала возможность Чуковскому ни в чем «не отступаться от лица», не изменять своим антимилитаристским убеждениям, а изменить только жанр, и в нем, новом, говорить все то же, сохраняя неуязвимость среди разгула военной пропаганды. Менялись лишь «средства доставки» — доставляемый груз и конечные цели оставались прежними.
Поэтому, справедливо полагал Чуковский, если отбросить нелепые и произвольные истолкования и «прислушаться к мнению миллионов читателей, придется признать, что «Крокодил» — нисколько не хуже других моих сказок, что и в нем, как в «Мойдодыре» и «Федорином горе», никаких аллегорий нет. Это простодушная детская сказка, не лишенная героического пафоса, ибо в ней маленький Ваня бесстрашно встает на защиту обиженных:
- Он сказал: — Ты, злодей,
- Обижаешь людей?
- Так за это мой меч
- Твою голову с плеч!
И в то же время — стремление к миру и братству:
- Мы ружья поломаем,
- Мы пули закопаем,
- Довольно мы сражались
- И крови пролили…»[48]
Разумеется, Чуковский написал свою сказку потому, что хотел разрушить каноны ненавистной ему мещанской детской литературы. Возможно, он написал эту сказку потому, что Горький «подсказал» ему замысел большой поэтической формы наподобие «Конька-Горбунка», только из современного быта. Конечно, он стал импровизировать строки «Крокодила» потому, что нужно было отвлечь заболевшего ребенка от приступа его болезни. Очевидно, что, погруженный в культурологическую проблематику, он не мог уйти от нее в образах и структуре своей сказки. Мы видели, что и всем своим предыдущим развитием он был хорошо подготовлен к творческому акту создания стихотворной сказки-поэмы для детей.
Но именно потому нельзя считать случайным и тот факт, что совершенно новый для Чуковского жанр, вобравший в себя ненависть к проклятой войне и страстную жажду всеобщего мира, покоя, счастья, возник в творчестве Чуковского после двух лет мировой войны, в самый канун революции.
«Крокодил» был напечатан впервые в журнальчике «Для детей», во всех его двенадцати номерах за 1917 год. Журнальная публикация сказки перекинулась мостом из старого мира в новый: началась при самодержавном строе, продолжилась между Февралем и Октябрем и завершилась уже при советской власти. Журнальчик «Для детей», похоже, ради «Крокодила» и был создан: 1917 год остался единственным годом его издания.
К концу 1916 года у Чуковского были готовы первая часть сказки и, надо полагать, какие-то — более и менее близкие к завершению — фрагменты второй. Альманах издательства «Парус», для которого предназначалась сказка, был уже скомплектован, но вышел только в 1918 году и под другим названием: «Елка» вместо «Радуги». «Крокодил» в этот альманах не попал. Надеяться на выход второго альманаха при неизданном первом было бы безрассудно. Чуковский пошел к детям и стал читать им сказку.
Он прибег к проверочной «устной публикации». В «Крокодиле» были реализованы представления Чуковского о читательской психологии малых детей — кому же, как не им, детям, принадлежало предпочтительное право высказаться по этому поводу. Высказаться по-своему — внимательной тишиной, смехом, аплодисментами и блеском глаз. По-своему высказалась и взрослая буржуазная публика: «Когда я в 1917 году пошел по детским клубам читать своего „Крокодила“, — мне объявили бойкот!»[49] — писал Чуковский А. Н. Толстому несколько лет спустя.
Во второй половине 1916 года Чуковский предложил свою сказку респектабельному издательству Девриена, которое, помимо прочего, выпускало «подарочные» издания для детей — роскошные тома с золотым обрезом и в тисненых переплетах. Редактор был возмущен: «Это книжка для уличных мальчишек!» — заявил он, возвращая рукопись[50].
Издательство Девриена выпустило немало прекрасных научных изданий по разным отраслям знания, но уличных мальчишек оно не обслуживало. Редактор безошибочно почувствовал несовместимость «Крокодила» с теми книжками, которые выпускались издательством для «отвратительно прелестных», по выражению Горького, детей.
В конце 1914 — начале 1915 года Чуковский писал, что ему, автору нашумевших статей о детской литературе, давно уже предлагали возглавить журнал для детей: «Мне „Нива“ предложила 1000 рублей в месяц, чтобы я редактировал „Детскую Ниву“. И. Д. Сытин звал меня в редакторы какого-то журнала — тоже с порядочной мздой, — но я все отверг и все отринул ради этого блаженства: сидеть в Библиотеке и, чихая от пыли, восстанавливать по зернышку загадочный образ моего героя»[51] — Н. А. Некрасова. То было время первого радостного приобщения Чуковского к некрасовским рукописям из архива А. Ф. Кони, и, увлеченный своей работой, критик ушел в нее с головой. А теперь у него на руках было новое детище — сказка для детей, вся пропитанная некрасовскими образами и ритмами и взывавшая о публикации. Чуковский, вспомнив былые предложения, обратился к товариществу «А. Ф. Маркс», издателю «Нивы», и вскоре стал редактором ежемесячного приложения к «Ниве» — журнальчика «Для детей».
В короткий срок Чуковскому удалось собрать вокруг журнала значительные литературные силы. За год своего существования журнал «Для детей» напечатал стихи С. Городецкого, Н. Венгрова, Саши Черного, М. Моравской, М. Пожаровой, Д. Семеновского, С. Дубновой, Д’Актиля. Прозу журналу дали А. Куприн, А. Ремизов, А. Грин, Тэффи. Множество сказок разных народов в своих пересказах, переводах, переделках поместил (большей частью анонимно) сам редактор. Журнал был украшен превосходными рисунками С. Чехонина, К. Богуславской, А. Радакова, Мисс, В. Сварога. Но центральной вещью журнала, его «гвоздем программы», его «романом с продолжением» был «Крокодил», публикуемый из номера в номер с чудесными рисунками Ре-Ми.
Сочиненный Чуковским героикомический животный эпос в стихах и впрямь близок к роману. Точнее, к роману-фельетону, то есть к роману, специально рассчитанному на публикацию частями, порциями, главами в периодической печати, предпочтительно — в газете. Роман-фельетон строится таким образом, что каждая его часть имеет внутренне завершенный характер, приближаясь к новелле, но при этом возбуждает интерес к следующей части и тем самым к повествованию в целом. На такие части был искусно разделен «Крокодил» в журнальной публикации. Места, отделяющие одну часть от другой, легко ощущаются и в книжном тексте — они фиксированы, как фиксирует актер завершенный жест. Сказка сближается с романом и своим объемом, и сложностью характеристик персонажей, и переключениями повествования с одного персонажа на другой, и пространственными переносами, и широтой охвата действительности, и своей нешуточной проблематикой. Чуковский не зря писал впоследствии о «Крокодиле» как о романе:
«…Мне кажется, что в качестве самой длинной изо всех моих эпопей он для ребенка будет иметь свою особую привлекательность, которой не имеют ни „Муха-цокотуха“, ни „Путаница“. Длина в этом деле тоже немаловажное качество. Если, скажем, „Мойдодыр“ — повесть, то „Крокодил“ — роман, и пусть шестилетние дети наряду с повестями — услаждаются чтением романа!»[52]
Рекламируя свое новое приложение, «Нива» обещала в конце 1916 года, что журнал «Для детей» будет надежно огражден от злобы дня, что на его страницы «не проникнут наши нынешние заботы и тяготы»[53], что ни один сквознячок не прорвется с улицы в тепличную атмосферу детской комнаты. Реклама «Нивы» не подтвердилась самым блистательным образом — для такого вывода достаточно одного лишь факта: на страницах журнала был напечатан «Крокодил». Сказка Чуковского — основная вещь издания — вызывающе повела журнал вразрез с рекламной программой «Нивы» и опровергла охранительные обещания редакции.
«Журнал ее (сказку. — М. П.) печатал с неудовольствием. Ругательства, которые получались, не поощряли редакцию, и после третьего номера мы решили это дело прикрыть, но количество требований со стороны детей было грандиозно…»[54] — вспоминал Чуковский.
Между тем место первой публикации «Крокодила» долго давало повод для нападок правоверной советской критики на сказку — как же, приложение к буржуазно-монархической «Ниве», верноподданнейшей «Ниве»! «Недавно, — жаловался Чуковский в 1955 году, — в одной брошюре было напечатано черным по белому, будто „Крокодил“ — реакционная сказка, так как она печаталась в приложении к консервативному журналу „Нива“. Автор этой брошюры предпочел позабыть, что в качестве приложений к „Ниве“ печатались и Салтыков-Щедрин, и Глеб Успенский, и Гаршин, и Короленко, и Чехов, и Горький»[55].
В наброске ответа автору «одной брошюры» Чуковский повторил этот довод и развил его: «Журнал „Для детей“ — приложение к „Ниве“, то есть нечто такое же экстерриториальное по отношению к журналу, как и сочинения Горького. И Горький, и Короленко не брезговали дать „Ниве“ свои сочинения, а Лев Толстой печатал в ней свое „Воскресение“, Чехов — „Мою жизнь“, беспощадную сатиру на звериный уклад старого быта»[56]. Затем (вспомнив, должно быть, что «Крокодил», по определению Горького, — сказка наподобие «Конька-Горбунка», только из современного быта) Чуковский добавил: «„Конек-Горбунок“ был напечатан в реакц(ионном) журнале „Библиотека для чтения“»[57].
Работа над сказкой растянулась, и это пошло на пользу «Крокодилу»: вместо момента возникновения замысла в сказке отразилось время ее создания — ряд последовательных и связанных друг с другом исторических моментов. Третью часть сказки, вместившую в себя призыв к миру и мечту о «золотом веке», Чуковский сочинял летом 1917 года. 1 мая он занес в дневник: «Дела по горло: нужно кончать сказку, писать „Крокодила“, а я сижу — и хоть бы слово…»[58] Несколько позже он сообщал из Куоккалы в Петроград сотруднику журнала «Для детей» А. Е. Розинеру: «Посылаю Вам начало третьей части „Крокодила“, который усиленно пишется. Я трачу на „Крокодила“ целые дни, а иногда в результате две строчки…»[59]
В том же письме есть такое место: «Ре-Ми жалуется, что у него нет звериных фотографий, трудно рисовать. Нет ли у Вас слонов, тигров и т. д.?»[60] Значит, уже тогда, в пору журнальной публикации «Крокодила», автор работал вместе с художником — добывал для него звериные «типажи», например.
Художник Ре-Ми — «замечательный карикатурист — с милым, нелепым, курносым лицом»[61] — был давнишним знакомым Чуковского, как и большинство группировавшихся вокруг «Сатирикона» талантливых рисовальщиков, поэтов, фельетонистов. Один из них, художник и стихотворец А. Радаков, оставил выразительную характеристику Ре-Ми:
«Художник Ре-Ми — типичный художник-сатирик. „Обидный художник“, как называл его худ(ожественный) критик А. Бенуа. В нем совершенно отсутствует добродушный юмор… Вместо добродушия в его рисунках злость и ядовитая насмешка. Его мироощущение, в противоположность юмористическому, было чисто сатирическое. Он не щадил своих героев. Он был прокурор… Он очень тонко чувствовал мещанство, убожество людей, мещанскую обстановку, мещанский тип. Наблюдательность у него была развита очень сильно. Даже вещи у него были характерны и имели свое лицо. Положительные типы, так же, как и положительная героика, ему не удавались…»[62]
В этих строчках А. Радаков менее всего имел в виду рисунки Ре-Ми к «Крокодилу», но говорил словно о них. Лучше всего удались художнику те образы, которые провоцировали сатирическое осмеяние, — толпа обывателей на Невском, оголтелые гимназистики, тупые лавочники и приказчики, дикие базарные торговки, балда-городовой. Образы, требующие патетики (Ваня Васильчиков) или лирики (девочка Лялечка), были захлестнуты сатириконской волной и незаконно окарикатурены: «К сожалению, рисунки Ре-Ми, при всех своих огромных достоинствах, несколько исказили тенденцию моей поэмы. Они изобразили в комическом виде то, к чему в стихах я отношусь с пиететом»[63].
Не отказываясь от критики, Чуковский и позднее настаивал на издании «Крокодила» с этими рисунками: «Между тем рисунки Ре-Ми к этой сказке очень хороши…»[64] — все же рисунки Ре-Ми были порождены той же эпохой, что и «Крокодил», и воплощали именно ее. Профессор А. А. Сидоров в обзоре русской графики первых лет революции заметил: «Поразительные по остроте и чисто литературной забавности рисунки дал известный „сатириконец“ Н. Ремизов к „Крокодилу“, подчинив своему стилю даже такого мастера, как Ю. Анненков…»[65]. Со временем, когда изображенный художником быт ушел в прошлое, рисунки приобрели ценность исторического свидетельства. На рисунках Ре-Ми к «Крокодилу» хорошо просматриваются и легко узнаются черты блоковского Петербурга — крендель булочной, фонарь, аптека. Рисунки точно локализовали в исторической эпохе «старую-престарую сказку», как стал называть Чуковский своего «Крокодила» в позднейших изданиях.
Журнальная публикация принесла сказке первоначальную славу и породила спрос. Чуковский вновь пошел читать «Крокодила» в детские аудитории. У детей «Крокодил» неизменно вызывал неслыханный восторг, у взрослых — брюзгливое негодование. Взрослые, между прочим, считали, что негоже серьезному литератору становиться детским писателем. «Мне долго советовали, — вспоминал Чуковский, — чтобы я своей фамилии не ставил, чтобы оставался критиком. Когда моего сына в школе спросили: „Это твой папа «Крокодильчиков» сочиняет?“, — он сказал: „Нет“, потому что это было стыдно, это было очень несолидное занятие…»[66]
В феврале петроградские газеты напечатали объявление о том, что в Театре-студии перед началом детских спектаклей выступает Корней Иванович Чуковский со своей поэмой для детей «Крокодил»[67]. Немного спустя на улицах Петрограда появились афиши:
В воскресение 7-го и 14-го апреля (1919 года)
в зале Тенишевского училища (Моховая, 33)
забавное утро для
МАЛЕНЬКИХ
Деревенские сказки прочтет В. К. Устругова,
Артистка Госуд. Театров
писатель К. И. Чуковский прочтет свою поэму для малюток
«КРОКОДИЛ»[68]
Тем временем издательство Петросовета выпустило «Крокодила» отдельной книгой. «…Я явился в Смольный, и мне вдруг сказали, что „мы издаем вашего „Крокодила“ миллионным тиражом“»[69], — вспоминал Чуковский. «Миллионного тиража», конечно, не было: эта цифра характеризует не реальные возможности издательства, а его отношение к книге. В ту эпоху любые самые утопические предприятия казались осуществимыми, и Чуковскому вполне могли сказать о «миллионном тираже». Среди прочего издательство предприняло выпуск серии «Утопические романы», в которой вышли в свет «Утопия» Т. Мора и «Город солнца» Т. Кампанеллы. И хотя «Крокодил» Чуковского не имел к этой серии ни малейшего касательства, но заметим, как естественно становится в ряд со знаменитыми утопиями сказка, заканчивающаяся картиной утопического «золотого века». Петросовет напечатал пятьдесят тысяч экземпляров сказки — для тех суровых, бесхлебных и безбумажных лет тираж огромный — и одно время (по неоднократно повторенному воспоминанию Чуковского) раздавал «Крокодила» бесплатно.
Сохранился прелюбопытный документ — макет первого отдельного издания «Крокодила», представляющий собой расклейку рисунков Ре-Ми, заимствованных из журнальной публикации. Макет красноречиво свидетельствует о совместной работе писателя и художника над будущей книгой: чуть ли не каждый лист макета испещрен надписями Чуковского. Чуковский корректировал распределение материала по листам, композиционное соотнесение текста и рисунков на листе, симметричное или асимметричное построение листа и разворота, размер рисунков, плотность набора, ширину поля и так далее.
На макете титульного листа между словами, образующими название сказки, Чуковский вписал: «Звери, посреди них Ваня, все смеются. У Вани лицо не карикатурное»[70]. Значит, уже тогда, при подготовке первого отдельного издания «Крокодила», автор не был удовлетворен сатирической трактовкой героического образа в рисунках Ре-Ми.
К двадцать седьмому листу макета относятся такие замечания Чуковского: «Верблюд не ждет, а бежит. Посуда — не только тарелки. Верблюд гораздо ниже! Это клише должно занимать 2/3 страницы и может быть не квадратным, а захватывать весь верх — как показано карандашом. А змеи пойдут в правый угол. Пусть Н. Вл. (Ре-Ми. — М. П.) скомбинирует обе картинки, как ему покажется лучше»[71].
А на листе двадцать пятом, перечислив по пунктам необходимые изменения, Чуковский подвел итог: «Главное в том, чтобы пририсовать две-три фигуры так, чтобы получилось кольцо танцующих, хоровод, см. схему слева».
На схеме слева, к которой отсылает эта надпись, Чуковский набросал композицию рисунка, как он ее себе представлял (звери несутся в танце вокруг елки, кольцом замыкая хоровод), и добавил: «Вообще, побольше вихря»[72]. Предложенная Чуковским «вихревая» композиция — прообраз тех омывающих текст «вихревых» рисунков, которыми нынешние художники передают, например, бегство и возвращение вещей в «Мойдодыре» или «Федорином горе». Несомненно, что «вихревая» композиция наиболее точно воплощает средствами графики бурную динамику «Крокодила», его «глагольность», стремительное чередование эпизодов. «Побольше вихря» стало основным принципом построения сказок Чуковского и рисунков к ним.
В стихотворной сказке Чуковского Ре-Ми сделал замечательное открытие: он открыл в ней (не замеченный, насколько мне известно, никем из критиков «Крокодила») образ автора, образ сказочника — лукавого и простодушного одновременно. Не забудем, что это открытие было сделано в блоковскую эпоху: огромное явление Блока и магическое обаяние его лирики поставили вопрос, на который Тынянов ответил формулой «лирический герой». Совершив открытие, напоминающее отчасти тыняновское, Ре-Ми вывел образ сказочника — изобразил Чуковского, «протяженносложенного» и сложенного, как плотницкий метр, в обществе Крокодила и Вани Васильчикова. Эффектно завершающий сказку, этот шарж неожиданно замкнул важнейшую идейную линию «Крокодила»: перед нами сошлись в мирном чаепитии главные противоборствующие силы сказки — воплощение «дикой природы» и воплощение «цивилизации» — заодно с тем, кто сочинил сказку и «снял» противоречия.
- Нынче с визитом ко мне приходил —
- Кто бы вы думали? — сам Крокодил.
- Я усадил старика на диванчик,
- Дал ему сладкого чаю стаканчик.
- Вдруг неожиданно Ваня вбежал
- И, как родного, его целовал…
Едва ли это составляло задачу художника — скорее всего, он, карикатурист по природе своего дарования, просто дал выход своему сатириконству. Он и до «Крокодила» охотно рисовал карикатуры на заметного критика с заметной внешностью[73]. Но объективно шарж Ре-Ми на Чуковского в структуре книги обретает такой синтезирующий смысл.
Возможно, что как раз этот рисунок Ре-Ми породил традицию, столь эффектно продолженную в советскую эпоху в книге для детей: включать шарж на автора в иллюстрации к его произведению. Погружать тем самым поэта в мир его образов, представлять создателя и создание единством, целостностью, обнаруживая лирическую струю в эпических вещах. Особенно повезло в этом смысле Чуковскому — шаржированные изображения сказочника стали почти непременным атрибутом его книг для детей. Современный исследователь с полным основанием отмечает: «„Крокодил“ имел огромный успех… главным образом потому, что появилась детская книга, цельная и яркая (несмотря на скромные черные рисунки пером), в которой к тому же вполне отчетливо выступило содружество поэта и художника, работающих для детей»[74].
Зимой 1918–1919 года отдел изобразительных искусств Наркомпроса провел серию совещаний. На большинстве из них присутствовал и активно выступал Маяковский — тогда-то, между прочим, он и заявил впервые о своем намерении выпустить книгу для детей (несостоявшуюся). Стенограмма одного из последних совещаний донесла такую реплику искусствоведа В. Ф. Боцяновского: «Я должен сказать, что распространение вообще всех советских изданий поставлено ужасным образом. Я лично хотел купить „Крокодила“ Чуковского — оказывается, нигде нельзя купить, кроме Смольного»[75]. В этой реплике любопытны два обстоятельства: интерес такого человека, как В. Ф. Боцяновский, к созданию Чуковского и Ре-Ми, и то, что книга продавалась лишь там, где была издана.
В мае 1920 года Блок — уже тяжело больной — читал свои стихи в нескольких больших московских аудиториях. Чуковский, сопровождавший поэта в этой его последней поездке, предварял чтение Блока вступительным словом. Из зала, как водится, летели записки; одна из них была адресована Блоку и Чуковскому одновременно. Записка сохранилась: неизвестный слушатель просит в ней авторов «Двенадцати» и «Крокодила» прочесть свои поэмы. Несравнимые, казалось бы, вещи уравнивались в сознании слушателя — по-видимому, ощущением связи с эпохой. Блок, конечно, знал поэму Чуковского, и остается только пожалеть, что он не успел о ней высказаться (или его высказывание до нас не дошло).