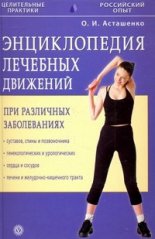Книги нашего детства Лурье Самуил

«Я вообще, — заметил Толстой, — не принадлежу к драматургам, привязанным к какому-то одному театру. Театры должны быть разными, с различными режиссерскими принципами и исканиями»[258]. Это признание, записанное А. Дымшицем, — такая же мистификация, как и предисловие к сказке, и предпринято оно, конечно, с теми же целями. Театральные — и прочие — пристрастия Толстого были строго однозначны в каждый определенный момент его жизни. В первое десятилетие века театральные привязанности Толстого были как раз на стороне Мейерхольда.
Толстой писал М. Волошину из Петербурга в Париж в декабре 1908 года: «„Лукоморье“, где все декаденты устроили скандал, ушло из „Театрального клуба“ и открывает свой театр. Мейерхольд зачинщик всего, конечно. Вот там-то и положится начало новой русской комедии, обновятся и распахнутся чахлые души. Я верю в это…»[259] В ту пору Толстой был активнейшим функционером кабаретных затей Вс. Мейерхольда и Б. Пронина, завсегдатаем «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», этих «театров подземных классиков», по определению Н. Соловьева (Вольдемара Люциниуса)[260], театров, азартно возрождавших commedia dell’ arte и кукольные марионеточные зрелища. Но автор «Золотого ключика» верил уже в другое, а над прежней своей верой — и над собой тогдашним — смеялся. Включив в издание 1943 года «Польку Птичку», он еще раз засвидетельствовал последовательность и целенаправленность своих сатирических намерений:
- Птичка польку танцевала
- На лужайке в ранний час.
- Нос налево, хвост направо, —
- Это полька Карабас.
- …………………………
- Птичка польку танцевала
- Потому что — весела.
- Нос налево, хвост направо,
- Вот так полечка была…
Многочисленные польки были, так сказать, фирменным кабаретным блюдом, и вот их-то (а скорее всего — «Совершенно веселую песню» Саши Черного) пародирует «Полька Птичка», иронизируя над несколько натужным, искусственным весельем кабаре: «Эта невеселая полька пелась на музыку Евреинова. Он часто исполнял ее в «Привале комедиантов», сам себе аккомпанируя:
- Левой, правой, кучерявый,
- Что ты ерзаешь, как черт?
- Угощение — на славу,
- Музыканты — первый сорт.
- …………………………
- Все мы люди-человеки…
- Будем польку танцевать.
- Даже нищие-калеки
- Не желают умирать…»[261]
Издевка над Мейерхольдом и его кругом, над театральными исканиями режиссера, относящимися к началу века, совпала с гибельными обстоятельствами, которые к вопросу об исканиях не имели никакого отношения. В нескольких кварталах от того места, где жил Толстой (на улице, носящей теперь его имя), сооружалось новое здание для театра Мейерхольда — давно уже не «кукольного владыки»; переезд театра в это здание так и не состоялся, а сам театр прекратил свое существование. Вскоре трагически прекратил свое существование и знаменитый режиссер. Вопрос о новом театре решался в действительности далеко не так, как в сказке.
Люди «серебряного века», чудом пережившие тот век, тоже, подобно Толстому, звали его к ответу — почти одновременно с Толстым, кто чуть раньше, кто чуть позже. В «Поэме без героя» Анна Ахматова, шифруя смыслы, выясняла отношения с «серебряным веком» на уже эмблематических для него образах Пьеро-Коломбины-Арлекина, но принимала на себя вину за трагедию исторически близорукой эпохи. Алексей Толстой в своей «сказке с героем» — вернее с героями, соотнесенными с той же троицей (Пьеро-Мальвина-Буратино) — тоже шифровал смыслы, но перекладывал вину на других, сбрасывал с себя бремя ответственности и самодовольно подменял правоту — победительством. Вместе со всё побеждающим Буратино героем оказывался — автор. Жизнеспособность — вопреки всему и вся — это, по Толстому, и есть правота.
Толстой, конечно, сводил счеты со своим «серебряным веком», с эпохой, интерпретированной по-толстовски и с учетом временного перепада от 1900-1910-х годов к годам тридцатым. Кроме того, счеты сводились в сказке — в жанре, который прикрывал сатирические намерения автора маской детской безгрешной непричастности и давал большую художественную свободу вместе с некоторой независимостью от возможных прочтений: все как будто сказано, все если не названо, то изображено, и в то же время — все неуличаемо.
Легкая, почти опереточная кощунственность была в том, чтобы оспорить пассивность марионеток, изобразив, как они сорвались с ниточек и отправились сами устраивать свои дела, искать счастья, творить судьбу. Марионетки, отбившиеся от рук подразумеваемого демиурга, — полемический образ, насмешливый довод художника в пользу философии активности, с распростертыми объятиями принятой советскими тридцатыми годами. То, что марионетки, оборвав уходящие в небо нити, превратились в петрушечные куклы, надетые на державную руку, сказка легкомысленно не замечала или деликатно замалчивала.
Чтобы выведать тайну золотого ключика и спастись от преследователей, Буратино спрятался за петуха.
Чтобы скрыть тайну «Золотого ключика» и отвести возможные обвинения в намеках на лица, Алексей Николаевич Толстой спрятался за «Пиноккио».
Цель была достигнута: от «Золотого ключика» стали отделываться фразами о переработке и переделке, не слишком настаивая на «особости» сказки, ее самодостаточности, поразительном сходстве с другими вещами Толстого — и на отличиях от сказки Коллоди. Толстой словно бы заворожил всех своим предисловием — не было замечено даже то, что отличия кричат, как говорится, с переплета: ведь в итальянской сказке нет главного образа сказки о Буратино, нет ее ключевой метафоры и наиболее значимого символа — именно золотого ключика.
Впрочем, причина столь странного невнимания, возможно, объясняется по-другому: «золотой ключик» мог показаться не созданием личного творчества, а общеязыковой формулой или стилистическим клише. Для осмысления своих ценностей «запирающаяся» культура с необходимостью создает образ ключа. «Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки, заброшены, потеряны у Бога самого», — читаем, например, у Н. А. Некрасова.
Эти некрасовские строки поставила эпиграфом к своему роману «Неугомонное сердце» мать Алексея Николаевича — Александра Востром. Анонимный рецензент «Отечественных записок» писал о «Неугомонном сердце» в 1882 году: «Мы не знаем, как воздействует мораль этого романа на неугомонные сердца современных женщин, но знаем наверное, что гр. Толстая немало-таки потрудилась с целью угомонить эти сердца, отучив их от „искания счастья“. Открытый ею секрет в самом деле прелестен: к чему искать счастья, когда оно тут же под рукою?»[262]
Едва ли Толстой читал в детстве «Пиноккио», но вот роман с эпиграфом о ключах счастья, роман о том, что не к чему «искать счастья, когда оно тут же под рукою», — он читал и с детской непосредственностью находил его «лучше Тургенева и Толстого»[263] (Льва, конечно). Вопрос о том, кто лучше, — не столько литературный, сколько семейный: и Л. Н. Толстой, и И. С. Тургенев приходились Алексею Николаевичу далекими, правда, но родственниками все же.
Образ ключа был находкой для искусства символизма — и в его высоких проявлениях, вроде блоковских строк «Ты дала мне в руки серебряный ключик, / И владел я сердцем твоим», и в его низких, эпигонских поделках. Одно из таких второстепенных, но нашумевших произведений — роман А. Вербицкой «Ключи счастья» — Толстой хорошо знал и за год до смерти, в феврале 1943 года, охарактеризовал как «сентиментально-благонамеренное» сочинение. Между тем «золотой ключик» — это именно «ключ счастья», хотя героя сказки трудно заподозрить в благонамеренности, а в сказке не найти и следа сентиментальности.
Так откуда же у нашего писателя образ «золотого ключика»? Не из бытового ли словоупотребления, не из общеязыковой ли метафоры? Быть может, из воспоминаний о романе, сочиненном матерью, тем более что и у сына речь идет о поисках счастья, которое, оказывается, под рукой? Или от распространеннейшей метафоры искусства символизма — объекта сатиры зрелого Толстого? Возможно, но все-таки — сомнительно. Сомнения возникают, стоит лишь познакомиться со следующим эпизодом из знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес»:
«На столе ничего не было, кроме маленького золотого ключика, и Алисе тотчас же пришло в голову, что ключик от одной из дверей. Но увы! или замочные скважины были слишком велики, или ключик был слишком мал, только им нельзя было открыть ни одной из дверей. Но, обходя двери вторично, Алиса обратила внимание на маленькую занавесочку, которой не заметила раньше, и за этой занавесочкой нашла маленькую дверку, около пятнадцати дюймов высоты. Она попробовала отпереть дверцу золотым ключиком, и, к ее великой радости, ключик подошел»[264].
Перед Алисой открывается проход «не больше крысиной норы», сквозь который она «увидала сад, самый очаровательный, какой только можно себе представить»[265].
«Алису» я цитирую по старому — и уже немного смешному своей архаичностью — переводу Allegro (П. Соловьевой). Выбор перевода будет объяснен чуть позже, здесь же мне хотелось бы отметить замечательные совпадения со сказкой о Буратино: речь в отрывке идет не о ключе просто, но именно о ключике, к тому же золотом; отпирается этим ключиком маленькая дверца; наконец — едва ли не самое поразительное — эта дверца до времени скрыта занавеской. Эпизод из «Алисы» дает нам не совпадение одной детали, которое могло бы оказаться случайным, но совпадение ряда определяющих деталей, связанный ряд деталей. И связаны они точно так, как в «Буратино». Вероятность заимствования из «Алисы» резко повышается как раз совокупностью, связанностью, соотнесенностью совпадений.
Но дверца, отпирающаяся золотым ключиком, занавешена у Толстого не занавеской, а куском холста, на котором нарисован очаг и котел с похлебкой. Остается сделать предположение: Толстой просто поместил на кэрролловскую занавеску изображение, нанесенное в коллодиевской сказке прямо на стену. Такой перенос тем более обоснован, что его можно было осуществить, не нарушая жанровых границ: при всем несходстве «Пиноккио» и «Алиса» — все же произведения одного жанра. Оба произведения — литературные сказки, и для сочиняющего третью сказку «третьего Толстого» было легко и естественно включиться в этот жанровый ряд.
Предположение так и осталось бы предположением, если бы другие факты не подтвердили: Толстой неоднократно прибегал к «Алисе», чтобы «оттолкнуться» от «Пиноккио», «расподобиться» с итальянской сказкой. Об этом свидетельствует происхождение образа Мальвины, девочки с голубыми волосами.
У Коллоди есть девушка с голубыми волосами, она в итальянской сказке — добрая волшебница, ставящая нравственные эксперименты над судьбой бедного Пиноккио. В здраво-рассудительной сказке Толстого никакая волшебница невозможна. В отличие от коллодиевской девушки толстовская девочка с голубыми волосами — не волшебный, а бытовой, притом сатирически освещенный персонаж. И ничего общего, кроме этих голубых волос, у них нет: наш сказочник снял голубые волосы, как паричок, с одной головы — и надел на другую. Характер Мальвины (а она девочка с характером, «железная девочка», как удивленно отмечает деревянный мальчик) настойчиво напоминает другую маленькую героиню, но из другой — английской сказки.
У Коллоди есть смешная обмолвка, проникшая в берлинский пересказ Толстого: Пиноккио не попадает в школу и, следовательно, остается неграмотным, тем не менее в одной из следующих сцен он со слезами на глазах читает надпись на могиле волшебницы. Быть может, заметив эту смешную неувязку, Толстой и придумал сцену обучения своего героя грамоте, когда началась переделка «Пиноккио» в «Буратино»? Как бы там ни было, но педагогический темперамент, страсть давать уроки при любых обстоятельствах, чисто учительский педантизм, чрезмерная и порой откровенно неуместная благовоспитанность, упорная и мелочная ригористичность — стали определяющими чертами образа Мальвины.
Но ведь это же — от Алисы! Английская школьница попадает в странный мир и все время сопоставляет его странность с тем, чему ее учили на уроках. Уроки, школа, школьные задания, школьная прописная премудрость в столкновении со странным миром проходят через всю сказку об Алисе — вместе с Алисой. Ее благовоспитанность в самых диких ситуациях — один из главных иронических мотивов сказки. Она постоянно вспоминает приобретенные в школе «правильные» сведения и непрерывно пытается давать уроки всем сказочным персонажам — в самых «неурочных» обстоятельствах. Эта черта Алисы отмечалась едва ли не всеми, писавшими о сказке Кэрролла.
Должно быть, нечто подобное ощутил и Толстой: уж ему-то, с его отношением к школьной премудрости и «благовоспитанности», это просто должно было кинуться в глаза. И своей Мальвиной он спародировал Алису, резко усилив насмешку над педантизмом и, так сказать, педагогизмом кукольной красотки. Подобно примерной воспитаннице, копирующей свою наставницу, Мальвина говорит на жаргоне гувернанток. Ее речь стилизована под плохой перевод с французского: «Буратино, мой друг, раскаиваетесь ли вы, наконец?» Отвлеченные прописи и условные ценности Мальвины явно проигрывают от ближайшего соседства с житейской находчивостью и простодушной рассудительностью Буратино. Идет проверка персонажей на жизнеспособность, и становится ясно: жизнеспособность — величайшая и все решающая ценность в художественном мышлении Толстого.
Впрочем, назвав героиню Мальвиной, Толстой и Алису сохранил в своей сказке. Это имя он дал другой, совсем уж не симпатичной особе — прохиндейке лисе: лиса Алиса…
В отчаянной битве с полицейскими псами Карабаса Барабаса на помощь кукольным человечкам приходят все добрые обитатели лесов, лугов и озер. Похоже, сама природа сражается на стороне Буратино и его друзей с общим врагом. Вот и семейство ежей приползло, несмотря на то что ежиное оружие годится только для защиты. В сказке это выглядит так: «Еж, ежиха, ежова теща, две ежовые незамужние тетки и маленькие еженята свернулись клубком и со скоростью крокетного шара ударяли иголками бульдогов в морду».
Странное впечатление производят эти «крокетные шары». У крокета — репутация очень английской игры, хотя играть ежами вместо шаров — это, пожалуй, слишком даже для англичан, известных своей эксцентричностью. Нет крокета и в «Пиноккио» (вся эта сцена не имеет там соответствий). Откуда же крокетные ежи в русской сказке по итальянской канве? Конечно, из английской сказки, из «Алисы», из главы «Королевский крокет».
«Алисе казалось, что никогда еще ей не приходилось видеть такого удивительного крокетного поля: оно все было в бороздках и выемках. Крокетными шарами служили живые ежи, молотками — живые фламинго… Главная трудность для Алисы заключалась в том, чтобы управлять своими фламинго… Когда же ей удавалось наклонить его голову и она готова была начать игру, то с раздражением замечала, что еж развернулся и собирается уползти… Все игроки играли сразу, не дожидаясь очереди, непрерывно при этом ссорились и дрались из-за ежей…»[266] — и так далее.
В той же сцене битвы — и в предшествующей сцене бегства — есть у Толстого маленькая деталь. Совсем незаметная деталь, если бы автор не привлек к ней читательское внимание, повторив ее трижды на протяжении нескольких страниц:
«Из трубы (домика. — М. П.) поднимался дымок. Выше его плыло небольшое облако, похожее на кошачью голову.
Пудель Артемон сидел на крыльце и время от времени рычал на это облако».
Облако настолько похоже на кошачью голову, что даже пес замечает сходство и рычит! Это запоминается, но дальше снова: Мальвина «подняла хорошенькие глаза к облаку, похожему на кошачью голову». И еще немного дальше: «Из облака, похожего на кошачью голову, упал черный коршун — тот, что обыкновенно приносил Мальвине дичь…»
Живописно выразительная, но сюжетно не имеющая никакого значения деталь повторена трижды — неслыханное расточительство для этой предельно экономной и лаконичной сказки. Конечно, причудливая форма облаков всегда будила воображение, и вопрос об их конфигурации обсуждал, помнится, еще Гамлет. Но почему именно на кошачью голову должно быть похоже облако у Толстого? Скажем прямо, эта форма не так уж необыкновенна — некая округлость с уголками ушей. Но Толстой настаивает: похоже — и точка.
Неисповедимы пути художника. Что выхватит он из океана образов, клубящихся, как облака? На этот раз он выхватил нечто из иллюстраций Дж. Тенниела к «Алисе» (они неоднократно воспроизводились в русских изданиях сказки Кэрролла). Там есть несколько рисунков, изображающих знаменитую тающую улыбку Чеширского кота: кошачья голова висит над персонажами в воздухе, как облако. Как облако, похожее на кошачью голову. Один из рисунков сопровождает главу «Королевский крокет»: лишь только Алиса решила выйти из игры, отчаявшись поймать ежиный шар, над девочкой прямо из воздуха соткалась кошачья улыбка… Золотой ключик и дверца за занавеской, образ благовоспитанной маленькой педантки, имя Алиса, ежиный крокет и облако, похожее на кошачью голову, — эти сопоставления повиснут в воздухе, как насмешливая улыбка Чеширского кота, если мы не ответим на вопрос: а знал ли Алексей Николаевич сказку Кэрролла? В наиболее полном из существующих собраний его сочинений ни имя английского писателя, ни имена его героев не встречаются. Мемуаристы по этому поводу — молчок…
В 1909 году Толстой напечатал несколько своих маленьких рассказов и сказок в журнале для детей «Тропинка». В этом же самом журнале на протяжении почти всего года (начиная со второго номера и кончая двадцатым) печаталась «Алиса» Л. Кэрролла в переводе Allegro (Поликсены Соловьевой — вот почему выше сказка цитировалась по ее переводу). В № 15 «Тропинки» на соседних страницах напечатаны сказка Толстого «Сорока» и глава «Пляски омаров» из «Алисы», а в № 9 — рассказ Толстого «Полкан» соседствует с тем эпизодом из сказки Льюиса Кэрролла, где Алиса беседует с Чеширским котом. Журнал сопровождает английскую сказку иллюстрациями Дж. Тенниела, и Полкан глядит с картинки к рассказу Толстого на рисунок, изображающий Чеширского кота, совсем так, как пудель Артемон на облачко, напоминающее кошачью голову…
В детской журналистике 1900-х годов «Тропинка» была едва ли не единственным изданием, где могла появиться столь эксцентричная и неприкладная вещь, как «Алиса». Журнал издавала — совместно с Н. И. Манассеиной — все та же П. С. Соловьева, человек, которого А. Блок числил среди избранных — «близь души». С. Городецкий вспоминал о «болезненно-нежной и наивно-мистической атмосфере „Тропинки“… куда Блок прежде всего меня направил и где он сам чувствовал себя хорошо»[267]. В. Пяст — тоже в связи с «Тропинкой» — вспоминал о Блоке, «который принимал такое близкое участие в судьбе этого органа и так часто „наставлял“ вдвое старшую его по летам издательницу, — что видно из его „Дневников“»[268]. Одним словом, в глазах автора «Золотого ключика» «Тропинка» должна была выглядеть «блоковским» журналом, и все, что относилось к «Тропинке», подверглось пародированию — вместе с Блоком и его эпохой, вместе с собственным прошлым Толстого.
В то же время к восприятию «Алисы» Толстой был хорошо подготовлен своей художнической любовью к эксцентрическим чудакам, ко всяческим алогизмам и нелепицам. К. Чуковский сопоставил любовь Толстого к эксцентрике с английской традицией нонсенса и показал, как они похожи. Но, не остановившись на этом, Чуковский со свойственной ему критической интуицией, производящей иногда впечатление интеллектуального фокуса, напророчил Толстому встречу с «Алисой» — за одиннадцать лет до «Буратино»:
«Поразителен был аппетит, проявленный Алексеем Толстым к подобным нелепицам в самом начале его литературной дороги, — писал К. Чуковский в статье 1924 года. — …Очевидно, эта чепуха ему дороже всего, потому что он с большим пиететом воспроизводит ее у себя на страницах. С таким же пиететом относимся к ней и мы… Она нередко бывала основой драгоценнейших литературных творений. Чудесный английский поэт Эдуард Лир безбоязненно назвал свою вдохновенную книгу „Книга Чепухи“ („The Book of the Nonsense“), и я не отдам этой книги за тысячу умных книг… И можно ли представить себе чепуху более откровенную, чем хотя бы „Алиса в волшебной стране“, а между тем это собрание гениальных нелепостей давно уже сделалось библией английских детей…»[269]
Сказка о Буратино, как губка, вобрала множеств откликов Толстого на культуру времен его писательской молодости — между первой русской революцией и Первой мировой войной, — а предисловие, отсылающее к детским впечатлениям писателя, предохраняет эту губку от слишком грубого выжимания. И все-таки в «Золотом ключике» (не вопреки всему сказанному, а лишь в дополнение к нему) есть отзвуки детства Толстого. Они открываются сопоставлением «Золотого ключика» с «Детством Никиты». Сопоставлением тем более обоснованным, что обе вещи — сказка и повесть — ставят знак равенства между двумя видами ностальгии: тоской по родной стране и по стране детства.
Такие сопоставления проводились, например: «Мальвина напоминает девочку с голубым бантом из повести „Детство Никиты“»[270]. Сходство действительно есть, хотя и довольно поверхностное: у одной голубые волосы, у другой — голубой бант. Гораздо глубже заходит сходство между «учительницей» Мальвиной и учителем Аркадием Ивановичем. Несмотря на некоторые несовпадения, перед нами удивительно похожие характеры в абсолютно совпадающих ситуациях. Урок, который Мальвина дает Буратино, и занятия Аркадия Ивановича с Никитой образуют выразительную параллель, словно перед нами две версии — сказочная и реалистическая — одного и того же события. Весьма вероятно — события из детства автора.
Буратино воспринимает задачу Мальвины точно так, как Никита — задачу Аркадия Ивановича: не отвлеченно-математически, а конкретно-чувственно. Оба ученика от математических абстракций «сбегают» в мир образов — туда, где важно не количество сукна в лавке купца и яблок в кармане мальчика, а сам купец — в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший, — и мальчик, который ни за что не отдаст «некту яблоко, хоть он дерись!». И Мальвина, и Аркадий Иванович от арифметики переходят к диктанту, который в обоих случаях заканчивается одинаково печально — кляксой. Конечно, это детские впечатления Алеши Толстого от занудных занятий были подарены Никите и Буратино.
Обретенный куклами театр открывает свою связь с детскими впечатлениями автора тоже через «Детство Никиты». Сказочный театр уже был описан Толстым в повести — как рождественская игрушка: «Были… такие искусники, что клеили, — она сама это видела, — настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку». Это настолько похоже на театр, обретенный куклами в финале сказки, что сразу становится ясно: автор привел кукольных героев в прекрасную страну своего детства.
Но при всем том «Детство Никиты» написано человеком, который хорошо знает и помнит «Алису в Стране чудес»: «В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядя на руку, но она повисла над головой и убралась за марлю… Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать: „Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест“…»
В очаровательной иронии этой сцены откликнулись два эпизода из «Алисы». В одном девочка безуспешно доказывает, что она не змея и не съест птичьих яиц, в другом огромная рука Алисы нависает над Кроликом, испуганно рухнувшим на рамы парников, — как рука Никиты над Желтухиным, забившимся в щель между рамами окна. Этот второй эпизод изображен на картинке Дж. Тенниела, которая могла бы стать иллюстрацией к «Детству Никиты», если бы кролика на ней заменить Желтухиным.
В Москве 1935 года, перерабатывая сказку заново, насыщая ее лирикой и сатирой, Толстой сконцентрировал память на всех сопутствующих обстоятельствах — и житейского, и литературного свойства. Наблюдаемые художником объекты он сравнивал с теми стекляшками, которыми прикрывают цифры на карте лото, а «карта лото — это дремлющий во мне потенциал, — разъяснял Толстой. — Я буду бродить по свету, ища этих стекляшек…» Сделав мысленно поправку на неуместную механистичность этого сравнения, признаем, что на одну из цифр толстовского лото легла кэрролловская «стекляшка»…
Однажды на утренней прогулке по паркам Детского Села, где Толстой поселился после возвращения на родину, он сказал Наталье Крандиевской: «Кончится дело тем, что напишу когда-нибудь роман с привидениями, с подземельем, с зарытыми кладами, со всякой чертовщиной. С детских лет не утолена эта мечта…» А потом добавил: «Насчет привидений — это, конечно, ерунда. Но, знаешь, без фантастики скучно все же художнику»[271].
Свою детскую мечту о романе приключений Толстой удовлетворял всю жизнь — всем своим творчеством. Ничего он так не любил, как живописать героя, ставшего на путь приключений. Любимым героем писателя (в школьном понимании) называют того персонажа, который с наибольшей полнотой выражает точку зрения писателя, его взгляды, его представления о человеческом идеале. При таком подходе возникает смущающее противоречие: в любимцах оказывается персонаж-рупор, самое бледное и немощное из порождений писателя. Не правильней ли называть любимым героем того, кто больше соблазняет писателя как взывающая к изображению натура и кого он живописует с наибольшим художническим аппетитом?
Сотни разнообразных персонажей населяют книги Толстого, у каждого свое лицо и своя повадка, свой социальный статус и нравственный комплекс, но любой читатель, не лишенный художественного слуха, без труда заметит, как оживляется Толстой, как начинают играть под его рукой краски, какая улыбка лакомки, удовлетворяющего свою давнюю страсть, угадывается на его губах, едва только он добирается до героя, вышедшего (или выведенного) на дорогу приключений. Что, казалось бы, общего у «чудаков» раннего и «эмигрантов» зрелого Толстого, у Алексашки Меншикова и красноармейца Гусева, ренегата Азефа и временщика Распутина, знаменитого Калиостро и мелкой сошки Невзорова, очаровательного Телегина и отвратительного Махно, у Саньки Бровкиной и «гадюки» Ольги Вячеславовны?
Даже патологический скепсис не заставил бы нас подозревать Толстого в том, что Невзорова, Азефа и Распутина он любит так же, как Меншикова, Гусева и Телегина. Это неколебимо верно, если мыслить и тех и других как живых людей, вызывающих такое-то и такое-то наше человеческое отношение. Но если представить их объектами художества, натурой, которую изображает художник, то окажется, что и тех и других писатель одинаково любит живописать. Любит не столько любовью, сколько любованием.
Следовало бы определить тип любимого героя Толстого, но вот беда: слова «приключенец» — в значении «человек приключений» — в нашем языке нет, а слово «авантюрист» безнадежно скомпрометировано. Авантюрист для нас слово ругательное, и вряд ли возможно освободить его от этой эмоциональной окраски, да и нужно ли? Нам сейчас — нужно: если бы это удалось, слово авантюрист стало бы самым точным обозначением для любимого героя Толстого. Герой, выпавший из рутинного быта, идущий от одного похождения к другому, не уклоняющийся от приключений, встревающий в приключения, втягиваемый в них личными склонностями или ходом событий, — вот определенный самым широким образом любимец нашего писателя.
Если бы «Войну и мир» писал не Лев, а Алексей Толстой, то главным героем с неизбежностью оказался бы не Пьер Безухов или Андрей Болконский, не Кутузов или Наполеон, не Наташа Ростова и уж, конечно, не Платон Каратаев, а Васька Денисов. «Л. И. Толстая рассказывала, что незадолго до смерти Алексей Николаевич перечитывал „Войну и мир“ и говорил, что на месте Льва Толстого сократил бы книгу и что для него, А. Н. Толстого, самый интересный герой в ней — это Денисов, и что ему самому очень хотелось бы написать роман о Денисе Давыдове»[272].
Интенция этого замысла присутствует во всех названных героях Алексея Толстого, каждый из них — какой-то извод означенного характера, и с особой, резко масочной характерностью — как раз Буратино. Снабдив похищенного в итальянском театре марионеток деревянного человечка удачливостью Ивана-дурака русской народной сказки, Алексей Толстой вполне выразил свое представление о вожделенном национальном характере.
Но такой герой не может действовать в размеренном, устойчивом укладе — он требует для себя особого рода сюжет. Он создает жанр повествования о себе — жанр приключенческий. Репутация этого жанра не слишком высока: принято считать, что приключения — литература «второго сорта». История литературы свидетельствует, что так было не всегда и что Толстой возвратил приключенческому жанру статус высокой литературы, соединив низовую традицию с классической. На этом соединении и основан неотразимый художественный эффект наиболее известных произведений Толстого и его «романа для детей и взрослых», «романа тайн», «пикареска» — авантюрной сказочной повести «Приключения Буратино».
Загадочные обстоятельства, таинственные лестницы, ведущие в подземелья, фальшивые, нарисованные на стене окна, поразительные по неожиданности встречи, тайные ходы и лазы, вообще всякие тайны, нечаянные подслушивания, удачные бегства, маскировки, розыгрыши, узнавания — все эти непременные атрибуты авантюрного романа и «романа тайн» густо уснащают произведения Толстого, а «Золотой ключик» только из них и состоит. Признание Г. Честертона в нелюбви к сентиментальным сказкам и любви к сказкам авантюрным было бы уместным эпиграфом к рассказу о «Приключениях Буратино»:
«…Ставят одни только плаксивые сказки. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделывают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя Борода — это по мне, да и тот нравится мне больше всего в виде Панталоне»[273].
Как в авантюрном романе, перед читателем «Приключений Буратино» мелькают, сменяя друг друга, улица, площадь, берег моря, балаган, лес, поляна, харчевня, пустырь, домик в лесу, река и пруд, пещера, скалистые откосы, снова улица, и за этим мельканием можно и не углядеть, что главное место действия — это дорога. Большая дорога из городка, где живет папа Карло, в Город Дураков — и обратно. Все сказочные приключения, как и положено приключениям, происходят на большой дороге и прилежащих к ней местностях. Эта дорога, повторяя (или задавая) своими поворотами и петлями изгибы судьбы героев, кончается там же, где и началась, и замыкает кольцом композицию сказки. Вся топография «Золотого ключика» изображена с такой реалистической дотошностью, что не составляет труда вычертить карту сказочной страны.
Лишь один участок пути — от чудесной дверцы до чудесного театра — не удается нанести на карту никакими пунктирами. Здесь пространство у А. Толстого изогнуто самым фантастическим образом: найденный глубоко под землей, театр в следующей главе оказывается рядом с заведением Карабаса Барабаса — на площади, причем подразумевается, что его туда никто не переносил. Вопреки физическим законам путь вниз приводит наверх.
Склонный к мистификациям писатель разыграл как-то в Кисловодске простака-курортника:
«Толстой уверил его, будто высочайшая из вершин Кавказа называется „Алла-Верды“ и что вечером состоится восхождение. „Алла-Верды“, — объяснял К. Чуковский, — кабачок, или, вернее, шашлычная, приютившаяся не на горе, а в низине. Вечером мы втроем совершили „восхождение вниз“.
— Почему же вниз? — удивлялся всю дорогу простак.
— Диалектика»[274], — совершенно серьезно отвечал Толстой.
Подобная шутовская, игровая «диалектика» осуществляется и в «Золотом ключике» с той, правда, разницей, что герои сказки совершают «нисхождение вверх». С ними происходит «нисхождение и преображение», если воспользоваться названием книги Толстого, вышедшей в Берлине за год до «Приключений Пиноккио» и дающей публицистическую версию той программы, которая впоследствии была развернута в трилогии — и в сказке о Буратино. «Преображение» в этой программе связывается — с театром. Толстой демистифицировал театральные концепции символистов, отнял у образа театра смысл «небесной родины» и придал ему значение родины земной. Театральный всплеск в «Хождении по мукам» порожден революцией, в сказке — стремлением вернуться в отечество, в страну детства. Путь Буратино и его друзей вниз приводит наверх вопреки всем законам физики, но в полном соответствии с логикой «идеологического пространства» Толстого.
В этот завершающий момент с пространством сказки происходит еще одна трансформация: оно становится непроницаемым для злых сил. Вот он, новенький балаган кукольного театра на площади в той же сказочной стране, протяни руку и схвати, — но злая сила Карабаса и его полицейских тут иссякает.
Счет времени в сказке очень точен: писатель ни разу не забыл отметить смену суток сном и пробуждением героев, вечерними и утренними зорями, восходами луны и солнца. От того утра, когда папа Карло получил у столяра Джузеппе необыкновенное полено, до того вечера, когда героям достался замечательный театр, проходит шесть суток, и, надо полагать, уже начался седьмой день творения — вечный праздник. Уменьшается количество приключений за сутки — и время растягивается, идет медленней; количество эпизодов растет — и время идет быстрей, сжимается; на последние два дня приходится больше всего сказочных событий (две трети объема сказки) — и время, задыхаясь, летит вперед (только дважды — в рассказе Пьеро о золотом ключике и в рассказе крота об аресте кукол — время возвращено вспять, к уже минувшим событиям).
Но в предпоследней главе сказки, там, где герои (и, должно быть, автор) до самозабвения захвачены обретенным счастьем, время начинает мерцать, теряет выраженность, расплывается, и нельзя понять, день или три дня отделяют эту главу от заключительной. Сказка, близясь к благополучному завершению, перестает наблюдать часы, подготавливая переход от тягот времени к блаженной вечности, от бедственного «прежде» к счастливому «всегда».
Исследователь творчества А. Толстого отмечает, что хронология в романе «Хмурое утро» (последней, написанной уже после сказки части трилогии) — «в основном, строгая и точная», но лишь до заключительных сцен, когда «вечером в день приезда вся группа слушает доклад Г. М. Кржижановского об электрификации России. В этом пункте календарь автором явно оставлен, и события смещаются во времени. На каком общереспубликанском съезде присутствуют герои А. Н. Толстого — установить исторически точно и в то же время в соответствии с календарем романа не представляется возможным»[275]. Время в романе организовано таким же образом, как в сказке, — в конце происходит подготовка к прорыву из «реального» в «утопическое» время. Не случайно в последней строчке романа стоит значительное слово «навсегда».
Парадоксальным образом в собственной сказке Толстого «Золотой ключик» лучше просматривается Италия, чем в его обработке сказки Коллоди «Приключения Пиноккио». Никаких российских реалий, вроде Петрушки или городового, здесь нет и в помине. Писатель «русифицировал» итальянскую сказку и «итальянизировал» русскую. Тот комплекс национальных идей, который в обработке сказки Коллоди выражен языком и антуражем, в «Золотом ключике» выражается всем характером персонажей и подоплекой сказочных событий. Действие сказки нужно было перенести в Италию, чтобы создать необходимое для художественности опосредование.
Мир «Золотого ключика» сказочен, но у всякого сказочного мира есть своя «реальность», своя мера условности, свои «естественные законы», в пределах которых этот мир воспринимает себя как подлинный, за пределами — как вымышленный, нереальный. Законы «Золотого ключика» допускают придание человеческих черт животным, но ни в коем случае не волшебство: «Насчет привидений — это, конечно, ерунда». Волшебные превращения (их немало у Коллоди) выводятся из «Золотого ключика» — они чрезмерно фантастичны для мира этой сказки, несовместимы с ее здравым смыслом.
Свое отношение к волшебным чудесам сказка подтверждает парадоксально: не только исторгая волшебство, но и включая его. На страницах «Золотого ключика» есть волшебство: живым попадает на небо один персонаж, с помощью нечистой силы проходит сквозь стену другой. В тексте это выглядит так: «Униженно виляя задами, они (сыщики. — М. П.) побежали в Город Дураков, чтобы наврать в полицейском отделении, будто губернатор был взят на небо живым, — так по дороге они придумали в свое оправдание». И еще: «Нет, здесь работа очень тяжелая, — ответили они (полицейские. — М. П.) и пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стенку». Чудеса в сказке — гнусное полицейское вранье, ложь трусов и бездельников, порожденье лакейского и чиновничьего страха и лени. Кот и лиса превращаются то в нищих, то в разбойников, но волшебством здесь и не пахнет: это притворство, интрига, маскировка (в жанровом смысле — не столько сказка, сколько приключенческий роман). Поле Чудес, где будто бы можно вырастить монетное дерево, — тоже вранье жуликов, задумавших надуть простака.
Единственное несомненно чудесное превращение в сказке — выход Буратино из полена. Словно ради того, чтобы читатель не принял эту метафору рождения за волшебство, рядом помещена параллельная метафора — выход цыпленка из яйца.
Во всем творчестве Толстого вспоминается еще только один случай превращения неживого в живое: «воплощение» портрета мадам Тулуповой в рассказе «Граф Калиостро». Маг и чародей Калиостро, сотворивший это чудо, замечает: «Отменный получился кадавр», — и Толстой с удовлетворением присоединился бы к этой оценке, даром что она исходит от омерзительного персонажа. В рассказе «Граф Калиостро» — издевательская насмешка над символистским кокетливым заигрыванием с потусторонними силами.
Толстой хорошо помнил, как он оконфузился, попытавшись подыграть отечественным мистикам. Об этом эпизоде рассказывал (со слов Максимилиана Волошина) Илья Эренбург: на башне у Вячеслава Иванова «зашел разговор о Блаватской и Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: „Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются…“ Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я, — вспоминал Илья Эренбург, — спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс эту историю с египтянами. Толстой рассмеялся: „Я, понимаешь, сел в лужу“…»[276] Не в эту ли лужу автор сказки о Буратино усадил потом Карабаса Барабаса?
Особенно грешил подобными играми Брюсов, которого Блок в одном из своих стихотворений назвал «великим магом моей земли». Андрей Белый разъяснял: «Великий маг не только в риторическом смысле, но и в текстуальном: именно в эти годы Брюсов проявляет большой интерес к спиритизму, дурного тона оккультизму… Этот интерес отразился в романе „Огненный ангел“…»[277] Заигрывание с оккультизмом Брюсов поставил — как и все, что он делал, — на основу прочной эрудиции. В брюсовские оккультные увлечения была втянута и Нина Петровская, подруга поэта, прототип героини «Огненного ангела» и сотрудница Алексея Толстого по берлинскому изданию «Пиноккио».
Какое дело было земному до мозга костей, чуждому всякой мистики Толстому до кабинетно-декадентского русского оккультизма и прочего в этом же роде? Но изображение сеанса магии в «Графе Калиостро» и описание каморки папы Карло показывают, что Толстой добросовестно познакомился с магической технологией и предавал ее осмеянию со знанием дела.
Заимствованная у Коллоди сцена превращения полена в мальчишку переосмыслена Толстым как пародия на «магическое действо». Условия «оккультной науки» требуют, чтобы занятия магией проходили в особом помещении. Во всех пособиях по магии и в рассказе «Граф Калиостро» это помещение описывается одинаково: просторная комната, освобожденная от всего лишнего, так что в ней не остается ничего, кроме стола, шкафчика с магическими принадлежностями и куска ткани с нанесенными на нее каббалистическими знаками. Бедная каморка папы Карло как нельзя лучше соответствует описанию комнаты, необходимой для совершения магических манипуляций: вся обстановка состоит из стола (верстака) и куска холста с изображением очага, который переосмысливается в магический знак огня. Толстой был замечательным мастером переосмысления заимствованных деталей и занимался таким переосмыслением с превеликой охотой. Превращение полена в человечка — сказочный пародийный эквивалент оживления портрета в рассказе «Граф Калиостро».
Суеверия, спиритизм, магия были решительно противопоказаны здоровой натуре Толстого, и он, продолжая насмешничать по тем же адресам, зло и едко спародировал в «Золотом ключике» спиритические увлечения современников своей молодости.
«Тогда Буратино завывающим голосом проговорил из глубины кувшина:
— Открой тайну, насчастный, открой тайну!
Карабас Барабас от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Дуремара.
— Это ты?
— Нет, это не я…
— Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?
Дуремар был суеверен…
— Открой тайну, — опять завыл таинственный голос из глубины кувшина, — иначе не сойдешь с этого стула, несчастный!»
Не верящий ни в какой спиритизм, трезво-реалистический, как его создатель, Буратино устроил «спиритический сеанс» своим суеверным врагам — и победил. По меткому замечанию В. Рабиновича, «„тайное деланье“, основанное на вере в чудеса, постепенно становится „священной литературой“, а потом и просто литературой — авантюрной, плутовской — какой угодно»[278]. «Тайное деланье» мистиков начала XX века, вырождаясь, стало у Толстого в «Золотом ключике» иронически трактованной плутовской, авантюрной литературой.
Этот Буратино, едва вылупившись на свет, уже проказничает и озорничает. Такой беззаботный по части высоких материй, но полный здравого смысла и неутомимо деятельный, побеждающий своих врагов «при помощи остроумия, смелости и присутствия духа», — он запоминается читателям как преданный друг и сердечный, добрый малый. В Буратино — черты многих любимых героев А.Толстого, склонных скорее к действию, чем к размышлению, и здесь, в сфере действия, обретающих и воплощающих себя. В Буратино есть нечто от удачливой пройдошливости Алексашки Меншикова, боевой напористости Гусева, озорства Никиты. В известном смысле «Золотой ключик» — ключ к этим толстовским образам, открывающий их фольклорную основу, связь с не мудрствующим лукаво и неустанно активным героем сказочной традиции. Задорно торчащий нос Буратино (у Коллоди никак не связанный с характером Пиноккио) у Толстого стал обозначать как раз героя, не вешающего носа.
Буратино бесконечно обаятелен даже в своих грехах «малого чина»: и в своем любопытстве (в духе русского фразеологизма «совать нос не в свое дело»), и в своей наивности (проткнув носом холст, он не догадывается, что за дверца там виднеется, — т. е. «не видит дальше собственного носа»), и в нарушающей благопристойность естественности своего поведения. Любопытство, простодушие, естественность… Писатель доверил Буратино выражение не только своих самых заветных убеждений, но и самых симпатичных человеческих качеств, если только позволено говорить о человеческих качествах деревянной куклы.
А почему бы и нет? У Коллоди марионетка превращается в мальчика: вочеловеченье — награда за добродетель. В берлинской «переделке и обработке» Толстого было нечто похожее: сознание марионетки переходило к хорошенькому мальчугану, покидая деревянное тельце в пестрых лохмотьях. Превращать в человека Буратино было бы нелепостью — он и так человек. Даже «пудель у Алексея Толстого — живой человек»[279], как заметил всегда остроумный В. Шкловский.
В хорошо известном Толстому балете И. Стравинского «Петрушка» (1911) коллизия «живое-мертвое» решается по-другому: «Недоразумение между Арапом и Петрушкой (т. е. между Арлекином и Пьеро этого балета. — М. П.) приняло острый оборот. Ожившие куклы выбегают на улицу. Арап поражает Петрушку ударом сабли, и жалкий Петрушка умирает на снегу, окруженный толпой гуляк. Фокусник, приведенный будочником, спешит всех успокоить. Под его руками Петрушка вновь возвращается в свой первоначальный кукольный вид, и толпа, удостоверившись в том, что раздробленная голова сделана из дерева, а тело набито опилками, расходится»[280]. У Стравинского, таким образом, Петрушка, умирая, «расчеловечивается» (правда, в укор опасным экспериментам Фокусника, над его театриком воспаряет привидение погибшей куклы). Пронизывающее всю сказку сведение счетов с «серебряным веком» и толстовская полемика с символизмом — продолжены как раз отказом от продолжения игры в «живое-мертвое».
Безвольно свисающие длинные рукава балахона, в который облачен Пьеро, — выразительная художественная деталь, противопоставленная задорно торчащему носу Буратино, как безвольная рефлексия одного (конечно, «интеллигентская», — в духе словоупотребления советских 1930-х годов) противопоставлена мускулистой энергичности другого. Длинные рукава сугубо итальянского балахона становятся у Толстого реализацией русского фразеологизма «спустя рукава», то есть — безвольно, вяло, пассивно, кое-как. Здесь все то же умение А. Толстого находить место для чужой детали и заставлять ее работать по-новому, переосмыслять деталь контекстом, ничего не меняя в ней самой. Незаурядная режиссерская одаренность писателя в полной мере сказалась в остром драматизме повествования о Буратино и куклах-актерах.
Все писавшие о сказке отмечали элемент развития в характере героев; меняется и Пьеро, но, пожалуй, самое замечательное, что это изменение обрисовано (режиссерская работа с деталью!) все теми же рукавами того же балахона. По примеру Буратино, Пьеро ввязывается в драку с яростными полицейскими псами, которые обрывают пресловутые рукава, и в результате Пьеро приходит к заключительной сцене в нечаянном подобии спортивной безрукавки! Мера дозволенного Пьеро «исправления» уменьшена тем, что читатель не видит этой драки, только слышит сообщение о ней (правда, подтвержденное Мальвиной) из уст новоявленного храбреца. Отряхнув с лица пудру, как отрясают с ног прах прошлого, Пьеро оказывается вполне румяным парнем.
Кукольные герои сказки наделены характерами не слишком сложными (сложные противоречили бы законам жанра), но выраженными чрезвычайно интенсивно. «Человеческий» характер папы Карло оказывается бледнее и даже «кукольней» — в нем проглядывают шаблонные черты театрального амплуа (что-то вроде «благородного отца»).
Больше повезло паре злодеев — доктору кукольных наук и продавцу пиявок. В Карабасе каким-то чудом соединились в нерасчленимый образ черты плакатного буржуя и сказочного злого волшебника. Пьяница, обжора и сквернослов, друг сильных мира сего, беспощадный эксплуататор кукольного народца, ученый-искусствовед, эстетическая программа которого состоит из семи пунктов — семи хвостов его плетки, — Карабас не зря пользуется услугами продавца пиявок: он и сам пиявка — жадная жирная пиявка, паразитирующая на театре. Его друг Дуремар — сказочный вариант Смердякова, лакейская душонка, чья профессия наводит ужас омерзения даже на Карабаса, — ничтожество, продающееся за ужин, доносчик и предатель. Он бросает своего покровителя, едва только удача оставляет Карабаса, и с готовностью меняет хозяина — идет проситься на службу к победителям. Толстой деликатно умалчивает, принимают ли победители услуги недавнего продавца пиявок.
В создании образов участвуют имена сказочных героев. Мы уже знаем, что Буратино — ставшее собственным именем родовое название марионетки, Пьеро — партнер Арлекина в итальянской народной комедии, Дуремар — дурень, произнесенный на иностранный манер, а кот Базилио — произнесенный подобным же манером кот Васька; что же касается лисы Алисы, ее имя восходит то ли к персонажу блоковской пьесы, то ли к персонажу кэрролловской сказки, но в любом случае построено по русской фольклорной модели: «лиса Алиса» созвучно «лисе-олисаве» народных сказок.
Сложнее осмысляется имя Карабаса Барабаса. Аналогичный персонаж сказки Коллоди носит имя Манджофоко, что значит «пожиратель огня». «Барабас» созвучно итальянским словам со значением негодяй, мошенник («barabba») или борода («barba») — и то и другое вполне соответствует образу.
Давая своей кукольной красотке имя Мальвина, Толстой опирался на давнюю традицию, хорошо известную ему, знатоку русского XVIII века. Имя Мальвина попало в Россию вместе с поэмами шотландского барда Оссиана. Явленные миру в конце XVIII века английским литератором Джеймсом Макферсоном, эти произведения, как выяснилось потом, были грандиозной мистификацией. Имя Мальвины — спутницы престарелого Оссиана и подруги его погибшего сына Оскара — приобрело огромную литературную популярность и стало самым привлекательным знаком романтической возлюбленной. В круг чтения Татьяны Лариной, например, входил многотомный роман французской писательницы Марии Коттень «Мальвина»[281].
В бесчисленных переводах, пересказах, перепевах Оссиана, в массиве подражаний ему русские авторы ставили имя Мальвина даже там, где в оригинале стояли другие имена. Весь начальный период русского романтизма был, в сущности, «оссианическим» — имя Мальвина вошло и в стихи молодого Жуковского, и в стихи юного Пушкина, и в десятки других стихотворений. Впоследствии В. И. Маслов внес в свой библиографический указатель русских оссианических произведений даже вполне оригинальные вещи только на том основании, что в них упоминалось имя Мальвина.
Потом это имя проникло в романс и стало устойчивым знаком романсовой героини. К началу двадцатого века имя Мальвина опустилось в самые низы и отразилось в литературе той эпохи (например, в «Поединке» А. Куприна и в рассказе А. Ремизова «Мальвина» из его книги «Шумы города») как профессиональный псевдоним девицы легкого поведения. Вот в каком ореоле значений в сказку Толстого входит имя Мальвина, подмигивающее, сверх того, в сторону другой знаменитой мистификации.
Все имена в сказке — «играют», но каждое на свой лад. Только легкий намек на русские смыслы иностранных имен скрыто прочерчивает систему. Эта система соединяет имена персонажей с замыслом сказки, вводит имена в круг идейных задач произведения, противопоставляющего свое — чужому, родное — иноземному.
Незадолго до возвращения на родину (почти одновременно с работой над берлинским пересказом «Приключений Пиноккио») Толстой писал Чуковскому: «Не знаю — чувствуете ли Вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей? Должно быть, мы еще очень первобытны, или в нас еще очень много растительного, — и это хорошо, без этого мы были бы просто аллегориями. Пускай наша крыша убогая, но под ней мы живы»[282]. Пусть убога каморка папы Карло, но это — отчий дом.
«У папуаса — собственный шалаш. А у меня — нет», — жалуется герой рассказа Толстого «В Париже». Жалоба на бездомность звучит едва ли не во всех его рассказах эмигрантского периода: «Этот лейтмотив определяет не только сюжет, характеры, общий тон повествования, но и придает социальную заостренность толстовским рассказам»[283].
Полосатый столб на границе РСФСР стал важнейшей вехой в жизни и творчестве писателя. Начав работу над сказкой, он взял экземпляр берлинского издания «Приключений Пиноккио» и принялся править прямо на полях книги: менял имена и реплики, вычеркивал и дописывал. Так продолжалось до тех пор, пока перо писателя не споткнулось на сцене Буратино со Сверчком. Волшебный у Коллоди Сверчок, разумеется, стал у Толстого «бытовым» персонажем, но дело не в этом: Сверчок говорил что-то о родном доме и о больших несчастьях, которые ожидают тех, кто убегает из дома…
«Такие понятия, как „дом“, „дорога“, „огонь“, пронизывая всю толщу человеческой культуры и приобретая целые комплексы связей в каждом ее эпохальном пласте, насытились сложными и столь ассоциативно богатыми связями, что введение их в текст сразу же создает многочисленные потенциальные возможности для непредвиденных, с точки зрения основного сюжета, изгибов повествования»[284] — эта мысль Ю. М. Лотмана сформулирована словно бы нарочно, чтобы прокомментировать конфликт деревянного человечка с мудрым Сверчком.
Итальянский Сверчок в каморке с нарисованным на холсте огнем произнес главное слово русского писателя — дом — и напророчил дорогу бедствий тому, кто покинет отчий кров. Своей репликой Сверчок создал неожиданные для сказки Коллоди возможности, подсказал способ лирического освоения, «захвата» (а не просто пересказа) чужого сюжета, изогнул повествование.
Нравственная пропись о доме и о несчастьях, которые поджидают каждого, кто покидает родной дом, — единственная сентенция, перенесенная на страницы «Приключений Буратино» со страниц «Приключений Пиноккио». Ее значение подчеркнуто единственностью, исключительностью и тем, что она произнесена Сверчком — символическим хранителем домашнего очага. Агния Барто рассказывала такой эпизод:
«В клубе писателей подошел ко мне Алексей Николаевич Толстой и сказал:
— У тебя, говорят, есть стихотворение о сверчке?
— Есть! — удивилась я.
— Прочти его мне, а?
Я охотно согласилась, нашла комнату, где никого не было, Алексей Николаевич сел в кресло, и я ему прочла…
Алексей Николаевич слушал с детским вниманием, и я ждала, что он скажет. Но он сидел молча, задумавшись. Потом произнес громко, отчетливо своим высоким голосом:
— „Везде мы искали“, — и сказал, поднявшись с кресла: — У меня был сверчок.
Больше ничего не добавил. Я хотела попросить: расскажите, Алексей Николаевич… но кто-то заглянул в комнату, позвал его.
И вот вчера в книге об А. Н. Толстом, в воспоминаниях Н. В. Толстой-Крандиевской, читаю:
„Мы жили на Оке, возле Тарусы… По вечерам… когда на столе зажигали лампу и под абажуром кружились ночные бабочки, вылезал откуда-то сверчок, похожий на маленький сухой сучочек. Он садился всегда на одно и то же место, около чернильницы, и помалкивал. Когда же в стуке машинки наступали долгие паузы и Толстой в тишине обдумывал еще не написанное, сверчок осмеливался напомнить ему о своем присутствии. Возьмет вдруг и стрекотнет, и опять замолчит надолго.
— Это он тебя стесняется, — говорил Толстой, — а ко мне он уже привык. Мы — друзья“.
По словам Крандиевской, Алексей Николаевич часто вспоминал этого сверчка, его не хватало Толстому, когда он был далеко от России…»[285]
До встречи со Сверчком рассказ о Буратино идет почти след в след за рассказом о Пиноккио. С этого момента правка пошла по-крупному и переросла в свободное творчество; продолжать работу по печатному экземпляру стало невозможно. Реплика Сверчка — точка разрыва А. Толстого с К. Коллоди и начало стремительного приближения сказки к задачам и средствам собственно толстовского творчества. Архив свидетельствует, что за три месяца работы писатель несколько раз переписывал всю сказку от начала до конца.
Счастье, которое находят куклы, предстает перед ними в образе идеального утопического театра. Свой театр — это родная стихия героев сказки, отечество кукольного народца. Сказка для детей приобретала значение, важное и для взрослых читателей А. Толстого, важное прежде всего для самого автора.
Распространенное представление об ограниченной оригинальности сказки А. Толстого, о ее вторичности по отношению к сказке Коллоди — категорически неверно[286]. Для «Золотого ключика» итальянская сказка послужила лишь стартовой площадкой, ничего не ведающей о полете. Говорить о зависимости «Приключений Буратино» от «Приключений Пиноккио» ровно столько же оснований, сколько о зависимости толстовской трилогии «Хождение по мукам» от древнерусской повести «Хождение Богородицы по мукам». Во время работы над сказкой мысль художника была куда больше занята романом, который он пока отложил и к которому потом вернется, чем сказкой Коллоди.
Литературоведам давно известна одна особенность толстовского творческого процесса: свою мысль писатель поначалу отрабатывал на произведениях малых жанров, прежде чем воплотить ее в крупной вещи. Эта особенность почему-то не была распространена на соотношение «малой» сказки и романа-эпопеи. Даже предварительный анализ показывает, что, работая над сказкой, писатель прокладывал путь к завершению романа, строил, опробовал, испытывал «романную модель» — композицию, равную концепции. То обстоятельство, что после скитаний в дальних краях герои обретут цель своих поисков в «родной каморке», у отчего очага, было выяснено автором не в 1941 году, когда была поставлена последняя точка в «Хмуром утре», а гораздо раньше — весной 1935 года при окончании сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В синхронном плане сказка примыкает к историко-культурной и лирической темам трилогии почти в том же смысле, в каком повесть «Хлеб» примыкает к историко-революционной теме «Хождения по мукам».
Алексей Николаевич Толстой любил читать вслух свои старые и новые произведения, и, говорят, делал это мастерски. Благодаря выразительному описанию Л. Варковицкой мы располагаем счастливой возможностью присутствовать при авторском чтении «Золотого ключика». Чтение происходило в доме художника Б. Малаховского, иллюстратора первого издания сказки.
«Алексей Николаевич сидел за большим обеденным столом, рядом с художником, который пробовал делать наброски будущих рисунков, но ему это плохо удавалось, потому что и он сам, и все присутствующие безудержно хохотали. Не было никакой возможности не смеяться. Не смеялся только один автор. Выражение его лица было благожелательным и безмятежным. Он откладывал в сторону лист за листом, выпивал глоток-другой вина и продолжал ровным, спокойным голосом повествовать… Часы отзванивали час за часом, уже наступил рассвет, а мы, взрослые люди, сидели, как очарованные, и слушали детскую сказку…»[287]
Толстой был не только мастером выразительного чтения, но и мастером всяческих розыгрышей. Чтение в доме Б. Малаховского он затеял, несомненно, с умыслом: внедрить авторскую трактовку сказки в сознание художника. Б. Малаховский принадлежал к тому поколению, которое знало Пиноккио, и возникала опасность, что художник перенесет на Буратино черты его прототипа. Буратино же, как мы видели, образ родственный Пиноккио, но далеко не тождественный.
И тут судьба сказки выкинула коленце. Родство между двумя художниками — иллюстратором «Золотого ключика» и иллюстратором «Приключений Пиноккио», обработанных и пересказанных Толстым в Берлине, — оказалось более близким, нежели родство между Буратино и Пиноккио. Бронислав Малаховский, оформлявший «Золотой ключик», приходился родным братом Льву Малаховскому, нарисовавшему картинки к берлинскому изданию «Приключений Пиноккио». Этот биографический казус может показаться нарочно подстроенным, чтобы подчеркнуть преемственность и различия двух книг, но приключился он, по-видимому, непроизвольно, сам собой.
Бронислав Малаховский, «будучи первым иллюстратором сказки, стал, в известной мере, и ее первым читателем — непосредственным, увлеченным, чутким. Пожалуй, никогда ранее иллюстрации Малаховского не были так органично связаны с текстом… Образ Карабаса Барабаса настолько характерен и убедителен, что мимо него не могли пройти все последующие иллюстраторы „Золотого ключика“. К сожалению, полиграфическое исполнение книги было не на должном уровне. Не были воспроизведены, в частности, задуманные художником нарядные цветные вкладки»[288].
Публикация «Золотого ключика» в «Пионерской правде», начавшаяся летом 1936 года, стала событием в жизни тогдашних мальчиков и девочек. Принадлежащий как раз к этому поколению писатель Валентин Берестов вспоминал: «„Продолжение следует“ — эти слова и огорчали, и радовали. Огорчали потому, что целых два дня я так и не узнаю, догнали полицейские псы бедненького Буратино или нет. Радовали потому, что до конца далеко и нас, читателей, ждут новые жуткие и веселые приключения…»[289]
В редакцию хлынул поток писем. Среди детей оказались и начитанные, знавшие итальянского родича и предшественника Буратино. Они упрекали писателя в заимствовании, призывали его к ответу, требовали разъяснений. Из Харькова, например, писали подростки Андрей Белецкий (будущий известный лингвист) и Роман Самарин (будущий известный литературовед). Тогда-то Толстой и придумал предисловие, которое появилось впервые в книжной публикации сказки. Но, адресуя свой ответ детям, писатель по существу отвечал на еще не поступившие реплики взрослых читателей своего «нового романа для детей и взрослых». Предисловие, как и книга в целом, отправлялось по двум адресам, а пародийно-сатирическая линия «Золотого ключика», хотя и завуалированная, но несомненная в своей реальности, для читателя-ребенка попросту не существует.
Первое издание «Золотого ключика» вышло в Ленинграде в 1936 году (50 тыс. экз.) и было снабжено надписью: «Посвящаю эту книгу Людмиле Ильиничне Крестинской». Пока длилось издание книги, Л. И. Крестинская стала Л. И. Толстой, что вызвало при повторных изданиях резонный запрос редакции: «Когда я был в Москве, — писал директор Лендетиздата Н. И. Комолкин К. Ф. Пискунову 19 сентября 1938 года, — то не сумел договориться с А. Н. Толстым о снятии или замене посвящения книги „Золотой ключик“… Прошу Вас связаться с А. Н. Толстым и дать ответ, — как быть с посвящением… Посылаю книгу „Золотой ключик“, вышедшую в 1937 г. См. посвящение…»[290] Дело быстро решилось, и с тех пор на всех изданиях «Золотого ключика» стоит: «Посвящаю эту книгу Людмиле Ильиничне Толстой».
Успех, наметившийся при газетной публикации сказки, перешел в настоящий бум, когда вышла книга. Достаточно сказать, что на протяжении второй половины 1936 года «Правда», центральный орган ЦК ВКП(б), по сути — главная газета страны, трижды предоставляла свои страницы для рецензий на «Золотой ключик» (В. Шкловского, Г. Ефимова, Б. Ивантера). Журнал «Детская литература» за это же время писал о «Золотом ключике» дважды. «Рабочая Москва», «Комсомольская правда», «Литературная газета», журнал «Литературный современник» подробными и восторженными разборами приветствовали выход книги. Чуть позже стали поступать отзывы из-за рубежа. В Праге полагали, что в «Золотом ключике» писатель сумел «мастерски сочетать старомодную прелесть государства оживших кукол с поэтическими сравнениями современного мира»[291]. В Братиславе объясняли: «Классическая простота этой детской книги не является ее стилистической бедностью; за ней скрывается богатый художественный опыт и мастерская уверенность, которая дана не каждому писателю»[292].
Наталия Сац, уже и в ту пору опытный режиссер и педагог, сразу поняла острую характерность образов, четкость интриги, драматизм (и более того — театральность, «драматургичность») сказки Толстого. Прочитанная на художественном совете, а затем на общем собрании всех артистов Московского детского театра, сказка очаровала всех, и было решено перенести ее на сцену. Дело за пьесой, которую, конечно, должен написать сам Толстой.
«Не дожидаясь его приезда в Москву, тут же, ночью, после заседания села в поезд и поехала в Ленинград, — рассказывала впоследствии Н. Сац. — …Предложение сделать пьесу „Золотой ключик“ он встретил приветливо. „Мне и самому будет очень интересно посмотреть все это на сцене, — пошутил он. — Вот только где взять время, чтобы сесть за эту пьесу?“ Он перечислил, кому и что обещал сделать, и сам расхохотался — один перечень занял минут двадцать»[293].
И все же писатель обещал пьесу — именно пьесу, а не инсценировку, ибо: «Инсценировок терпеть не могу. Пьесу надо строить заново, даже если в ней будут действовать те же лица»[294], — заявил Толстой. Но сроки оставались неясными, и Н. Сац засыпала Толстого письмами. В подробном письме от 15 мая 1936 года она рассказала, какой ей видится будущая пьеса. По замыслу режиссера, следовало усилить контраст между театром Карабаса Барабаса и тем театром, который знаком советским детям — зрителям будущего спектакля; финал сказочных приключений перенести в Москву, а образу Буратино добавить «положительности»: «Вы, наверно, найдете нужным добавить, что Буратино вообще очень творческая личность, большой выдумщик и любитель искусства. Такая красочка есть в поступке Буратино, когда он продает азбуку, чтобы попасть в театр»[295], — писала Н. Сац, предлагая, сверх того, чтобы Буратино любил стихи (!).
И снова судьба подыграла сказке: подобно тому, как ее герои обретают с помощью золотого ключика новый театр, московские дети обрели свой — с помощью «Золотого ключика». Спектаклем по пьесе Толстого 10 декабря 1936 года открылся Центральный детский театр — в новом помещении на площади Свердлова. Этот «ход судьбы» был придуман режиссером спектакля: Н. Сац предложила Толстому, «чтобы золотой ключик в конце пьесы открывал не театр „Молнию“, а Центральный детский театр»[296].
Театральный Буратино вызвал новую волну интереса к Буратино книжному. Успех спектакля не уступал успеху книги. Это был общий успех автора пьесы, постановщиков Н. Сац и В. Королева, художника В. Рындина, исполнителей К. Кореневой (Буратино), Е. Васильева (папа Карло), Н. Чкауссели (Пьеро), А. Ознобкиной (Мальвина), Н. Остаповой (лиса Алиса) — и всех-всех участников спектакля. Песенки на музыку Л. Половинкина распевала вся Москва — и стар и млад — особенно вот эту, немедленно изданную вместе с нотами, исполненную по радио и напетую на пластинку:
- Был поленом,
- Стал мальчишкой,
- Обзавелся умной книжкой.
- Это очень хорошо,
- Даже очень хорошо…
Сказку хотели ставить и играть все. Пьеса Толстого «Золотой ключик» была выпущена отдельной книжкой — для самодеятельных театров. Предисловие А. Гроссмана, написанное, несомненно, в результате обмена мнениями с Толстым, показывает, что автор и в детских постановках хотел сохранить — пусть даже невидимую для зрителей, неощутимую для исполнителей — сатирически-пародийную линию сказки. Толстого завалили заказами и предложениями: написать по «Золотому ключику» пьесу для театра кукол, сценарий для диафильма, сценарий для цирка, балетное либретто (музыку соглашался писать С. Прокофьев); клуб завода имени Осоавиахима умолял написать либретто для оперы. Художественный фонд, с разрешения автора сказки, выпустил настольную игру «Золотой ключик».
Восприятие той — уже отдаленной — эпохи, когда сказка Толстого впервые вышла отдельной книгой, распределило смысловые акценты, исходя из своих нужд и забот. В Буратино пытались увидеть чуть ли не двойника пионера Губерта: сын немецких безработных, привезенный в СССР Михаилом Кольцовым, он стал героем популярной книжки Марии Остен «Губерт в стране чудес» (1935). Сказку связывали с гражданской войной в Испании: «Все думаю над тем, как было бы хорошо связать концовку с приездом испанских детей в СССР»[297], — писал режиссер А. Птушко Толстому 13 октября 1937 года, когда еще только вызревал сценарий будущего фильма «Золотой ключик».
В Карабасе Барабасе тогдашнее массовое сознание хотело видеть нечто вроде сказочного Чемберлена или иную символическую фигуру отвратительного капиталиста. Художественный руководитель Ленгосцирка Е. Гершуни просил Толстого (в письме от 7 марта 1939 г.), чтобы в финале циркового спектакля по «Золотому ключику» герои попадали на грандиозный пионерский костер и чтобы на этом костре «аллегорически сжечь в числе атрибутов „старого мира“ чучело Карабаса…»[298]. Во всяком случае, никто не должен был усомниться в том, что сказочная счастливая страна — это условный эквивалент Советского Союза. Оно и понятно: сказка на извечную тему не только допускала, но прямо предполагала такое прочтение.
В кинофильме режиссера А. Птушко оно было доведено до предела, смутившего самих создателей ленты. Это отметил директор мультобъединения Баблаян, выступая на обсуждении работы А. Птушко: «Некоторые спрашивают, а почему люди корабля (прилетевшего — в кинофильме — чтобы спасти кукол. — М. П.) походят на советских летчиков. Замечание совершенно уместное. Перед режиссером стояла задача показать не Кремль, а <…> величественный дворец <…> Получился же настоящий Кремль, почти фотографический…»[299]
Фильм А. Птушко понравился большим и маленьким зрителям прежде всего своим замечательным по тем временам искусством комбинированных съемок. В фильме было применено и такое новшество, как, условно говоря, «комбинированный звук», с помощью которого был создан «кукольный» голос Буратино. Живой Буратино, говорящий с экрана «кукольным» голосом, был радостно узнан зрителями 1930-х годов, как узнали его куклы в сказке. Полюбилась им и песенка папы Карло, исполнявшаяся «под шарманку»:
- Далеко, далеко за морем
- Стоит золотая стена;
- В стене той заветная дверца,
- За дверцей большая страна…
- Ключом золотым отпирают
- Заветную дверцу в стене,
- Но где отыскать этот ключик —
- Никто не рассказывал мне…
Песенка словно бы воскрешала ритмы, интонации, образы блоковской поэзии, ставила их в другой контекст. Песенка пелась на слова Михаила Фромана, чьи стихи, по замечанию Константина Федина, издавна создавались «в явной традиции Александра Блока… Фроман любил поэзию Блока, и, вероятно, именно та ее сторона, в которой преобладало трагедийное начало — лирика Блока, — воздействовала на него в сильнейшей степени. Он и не утаивает своей связи с блоковскими образами…»[300] Ее и невозможно утаить в песенке папы Карло из кинофильма «Золотой ключик». Тут пути сказки — в который раз и теперь уже помимо воли автора — пересеклись с путями поэзии Блока.
Обаяние сказки было столь велико, что соблазнило Елену Данько написать продолжение «Золотого ключика» — сказочную повесть «Побежденный Карабас». Книгу талантливой писательницы постигла судьба большинства (если не всех) подобных попыток эксплуатировать успех чужого произведения: «Побежденный Карабас» оказался вещью безнадежно вторичной. Одновременно Е. Данько предприняла попытку освоить материал и образы Толстого, написав «кукольную комедию в 4-х действиях с прологом» под названием «Буратино у нас в гостях».
Образ остроносого озорника закрепился в общественном сознании и много времени спустя продолжал кочевать из книги в книгу. Через тридцать пять лет после выхода «Золотого ключика» появилась «Деревянная книга» Э. Шима — научно-популярный рассказ о роли дерева и древесины в быту и технике, о том, что люди делали прежде и что делают сейчас из этого материала. Из этого материала был некогда сделан Буратино, и кому же, как не деревянному человечку, надлежит рассказывать о том, что делается из дерева? Проводником читателя по кругам деревянного мира в этой книге — в ее тексте и рисунках Е. Кршишановского — выступает наш старый знакомец Буратино.
Через сорок лет после выхода «Золотого ключика» он все еще взывал к продлению той радости, которую читатель пережил над его страницами, и в 1975 году два автора — А. Кумма и С. Рунге — выпустили книжку «Вторая тайна золотого ключика. Новые приключения Буратино и его друзей…».
Все эти вещи, не оставившие заметного следа в искусстве, интересны нам не теми или иными своими достоинствами, а как поразительное свидетельство успеха, обаяния и влиятельности сказки Толстого, которая своим легким совершенством ошеломила и читателей, и литераторов. Ее «легкость» — результат таланта и труда — обманывала и соблазняла кажущейся доступностью повторения, но не давалась в руки.
В истории книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» есть «древний» и «новый» периоды. Древняя история закончилась и началась новая — во время войны, когда художник А. Каневский нарисовал для книги (для издания 1943 года) черно-белые рисунки пером. Затем, для издания 1950 года художник переделал эти рисунки, перевел их на язык цветной иллюстрации. «Они исполнены в обычной для его детских книжек технике: рисунок пером сочетается с акварельной расцветкой — смелой, свободной, выделяющей и подчеркивающей главное в рисунке, во многом определяющей его эмоциональное звучание… Для иллюстрирования выбраны, как правило, те сюжетные моменты повествования, которые позволяли художнику показать главных персонажей в действии, в различных взаимоотношениях друг с другом…»[301] Рисунки А. Каневского к «Золотому ключику» — общепризнанная классика детской книги. Этим рисункам посвящены специальные исследования, статьи, диссертации; в качестве образцовых они рассматриваются в учебниках детской литературы. Ими задан чрезвычайно высокий уровень, вызывающий на соревнование последующих оформителей книги Толстого.
Книга Толстого была переведена на многие иностранные языки, так что теперь Буратино на равных правах с Пиноккио присутствует в мировой литературе, не без успеха соперничая со своим предшественником. Архивные фонды и театральные афиши свидетельствуют о непрекращающихся попытках — то более, то менее удачных — освоить образы сказки средствами других искусств. По мотивам сказки Толстого Д. Дайлис написал пьесу «Похождения деревянного мальчика»[302], В. Балюнас и А. Федорова — пьесу «Золотой ключик»[303], Е. Борисова — пьесу «Буратино»[304], А. Таямов — либретто для балета «Золотой ключик»[305] и так далее. Пьеса о Буратино шла в театре кукол С. Образцова, балет — в Музыкальном академическом театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (музыка композитора И. Морозова), мюзикл В. Дружинина — в Алтайском краевом театре оперетты.
Миллионы зрителей посмотрели снятый в конце 1970-х годов на студии Беларусьфильм режиссером Л. Нечаевым двухсерийный телефильм по сказке Толстого. Черепахой Тортилой в этом фильме была Рина Зеленая, Карабасом — В. Этуш, Дуремаром — В. Басов, котом Базилио — Р. Быков. Песни композитора А. Рыбникова на слова Б. Окуджавы и Ю. Энтина немедленно сошли с телеэкрана и стали распеваться повсюду. Затем появилась пластинка, где в инсценировке Л. Закашанской были заняты основные исполнители телефильма. На другой пластинке (инсценировка А. Жеромского) все песни А. Рыбникова были исполнены девушками из грузинского вокально-инструментального ансамбля «Мзиури» (художественные руководители Г. Джиани и В. Схиртладзе).
«Золотой ключик» давно уже не только книга, Буратино давно не «литературный герой». Образы сказки стали названиями кафе и кинотеатров, детских клубов и рубрик журналов, перешли на почтовые открытки, марки, значки, стали предметом коллекционирования, одним словом, составили мощный пласт культуры детства, входящий в многосоставный пласт современной культуры. Мог ли Буратино, покидая каморку папы Карло, вообразить, чем все это обернется?
Живет себе на свете такой славный народ — дети, и Буратино превратился в его «национального» героя. Буратино стал абсолютным и универсальным символом детства. Мы привыкли к этому и уже не замечаем, что весь наш быт (особенно — детский) переполнен образами сказки, вернее — образами, перешедшими из разряда сказочных в разряд общекультурных. Наши дети лакомятся конфетами «Золотой ключик», запивая их шипучкой «Буратино»: эта фраза верна, прочтем ли мы ее в буквальном смысле или же как метафору.
Дети читают не «подтексты» и аллюзии «Золотого ключика», а сказку — ироничную и увлекательную историю Буратино и его друзей, отстаивающих свое право на полноту жизни, именуемую счастьем, в отчаянной борьбе с Карабасом Барабасом и его приспешниками. Дети вырастают, другие приходят им на смену, а деревянный человечек, который в огне не горит и в воде не тонет, продолжает свой бег в поисках золотого ключика — все такой же озорной и нисколько не смущенный своей «деревянностью». Противопоставляя золото — деревяшке, сказка внушает каждому новому поколению несомненную истину о том, что настоящая драгоценность — это золотое человеческое сердце, в котором живут дружба, верность, надежда и отвага.
Александр Волков
«Волшебник Изумрудного города»
Правда и иллюзии страны Оз
Волков А. Волшебник Изумрудного города. М.: Детгиз, 1939. Обложка. Художник А. Радлов.
Иллюстрация воспроизводится без масштабирования, в размере оригинала.
А. Волков.
Ф. Л. Баум.
Н. Радлов. Рисунок О. Верейского.
Волков А. Волшебник Изумрудного города. М.: Детгиз, 1939. Рис. Н. Радлова.
Иллюстрации воспроизводятся без масштабирования, в размере оригинала.
У этой книжки два автора, разделенные временем и пространством, — американец и русский. Оба они для читателя как бы укрыты тенью, отбрасываемой популярностью книжки, и почти не видны, словно книжка родилась и существует сама собой. Сведения о каждом из них сводятся, в сущности, к одному лишь факту авторства. Ф. Л. Баум — кто такой? Автор книжки «Мудрец из страны Оз». А Волков А. М.? Автор книжки «Волшебник Изумрудного города» А. Волков записал в дневнике: «В 1961 году исполнилось около 25 лет моей литературной деятельности в Москве, а в так называемой „большой прессе“ едва ли насчитывается 25 статей, заметок, рецензий на мои книги. Конечно, я не знаю отзывов областных газет (до меня случайно дошли 2–3), но меня с полным правом можно назвать писателем-невидимкой!»[306]
Особенно не повезло Бауму. Нет, не его сказке, которая — в русском пересказе — вот уже седьмой десяток лет пользуется отменным и прочным успехом, а ему самому. Большинство русских читателей сказки знает, что «Волшебник Изумрудного города» — переделка американского оригинала некоего Л. Ф. Баума; любопытствующий может заглянуть в справочники и убедиться, что в Краткой литературной энциклопедии, например, это имя только упомянуто (в заметке о А. М. Волкове), а в других источниках — вообще блистательно отсутствует. В аннотациях к отечественным (адаптированным для школьного чтения) изданиям сказки на английском языке читатель найдет не всегда верные даты и несколько добрых слов о Бауме[307]; в учебнике по зарубежной литературе — те же даты и пересказ книжки[308]; в составленном Евгением Брандисом справочнике по зарубежной литературе в русском детском и юношеском чтении — те же сведения плюс дата (1899), поставленная в скобках вслед за названием сказки Баума (конец работы над рукописью? выход книги?)[309]. В рецензиях на пересказ А. Волкова об американском авторе говорится как о знаменитости, «классике американской детской литературы»[310], но эти отзывы основаны, по всей видимости, на догадке: дескать, не был бы он знаменитостью и классиком — с чего бы мы стали переводить и восхищаться? Тут сквозит скорее робкая почтительность перед неведомым, нежели уважение, покоящееся на знании.
Одним словом, Л. Ф. Баум — неизвестный автор знаменитой книжки.
Книга — факт биографии писателя, но, с другой стороны, и биография писателя — неотъемлемая часть истории книги. Сотнями кровеносных сосудов — явных и невидимых, прямых и переплетающихся — создание связано со своим создателем. У писателя и его книги общая нервная система: когда эпоха задает человеку вопросы, они звучат и в его книге; когда история бьет по автору, книге больно. Судьбы сказочных героев «Мудреца из страны Оз» мало похожи на реальную судьбу Фрэнка Лимана Баума, но кто решится утверждать их независимость друг от друга?
15 мая 1856 года в деревушке Читтенанго на равнине Могавк в штате Нью-Йорк Синтия Баум, жена Бенджамена Баума, родила своего седьмого — последнего — ребенка. Отец Фрэнка в молодости был ремесленником-бондарем, но заработок трудолюбивого бочара не давал возможности прокормить большую семью. Давно отошли в прошлое времена гофмановского мастера Мартина, когда цеховой ремесленник чувствовал себя лицом обеспеченным и уважаемым, да и было ли оно когда-нибудь, это время? Страну охватила горячка развивающегося капитализма, и Бенджамен Баум ударился в нефтяное предпринимательство. Он оказался удачливым дельцом: к моменту рождения будущего автора страны Оз его отец стал уже состоятельным, хотя и небогатым человеком.
Трое детей Бенджамена Баума умерли в малолетстве. Болезненным ребенком родился и Фрэнк. Такие дети, выключенные из игр сверстников, склонны, как известно, к самоанализу и фантазерству. Недоступную им внешнюю активность они совершенно непроизвольно компенсируют «внутренним действием» мысли и воображения. Фрэнк нашел для себя выход в чтении и коллекционировании.
Любимые книги его детства — романы Диккенса, Теккерея и Чарлза Рида. У последнего он особенно ценил «Монастырь и очаг» — исторический роман из эпохи Возрождения, где одним из действующих лиц выведен отец Эразма Роттердамского. Американские критики считают, что наиболее влиятельным для Баума оказался впоследствии Диккенс, чьи «шаржированные изображения, направленные на комические и морализаторские цели, отразились во многих обстоятельствах страны Оз»[311].
Фрэнк коллекционировал марки, и это увлечение, начавшееся в детстве, прошло через всю его жизнь. Он оставил весьма ценное собрание. Задолго до сказочной страны Оз Баум описал чудесную страну Филателию: семнадцати лет от роду он составил и издал «Полный Баумовский указатель для филателистов». Но его литературная деятельность началась еще раньше. Фрэнку не было и пятнадцати, когда он вместе со старшим братом стал выпускать журнал, где печатал свои стихи и рассказы. А в двенадцать чуть было не стал профессиональным военным.
К двенадцати годам здоровье Фрэнка поправилось настолько, что родители, прервав по совету врачей домашнее образование мальчика, отдали его в Пикскиллское военное училище. Отец пренебрегал постоянными жалобами юного кадета на палочную дисциплину в училище, на невыносимую обстановку в интернате, и только когда Фрэнк прямо на занятиях грянулся об пол в обмороке, родители оставили надежду на военную карьеру сына и забрали его домой. Два года, проведенные в Пикскилле, он вспоминал с ужасом. Своим детским впечатлениям от военной среды Баум дал волю потом, когда в стране Оз стали появляться тупоголовые солдаты злых волшебников…
История «взрослости» Баума — обычная американская биография с бесчисленными переездами, переменами профессий, с бесконечной погоней за успехом, деньгами, престижем; причем деньги, в соответствии с американскими представлениями, мыслятся прежде всего как престижная ценность. Станет ли подобная житейская суета поиском своего «я», средством активного самопознания — зависит не в последнюю очередь от самого ищущего. Это, надо полагать, наиболее важная и наиболее скрытая от внешнего наблюдателя часть биографии. Книг, которые принесут Бауму известность, еще нет, да и книги его, прямо скажем, далеко не лирические исповеди. Их лиризм затемнен, опосредован, превращен.
Как многие юноши, он мечтал о сценической славе. Однажды Фрэнку удалось договориться с провинциальным антрепренером, который согласился взять его к себе в труппу — на роли в пьесах шекспировского репертуара (благо, Баум знал эти пьесы наизусть). В эту же пору Баум начал пробовать себя как драматург — из его тогдашних пьес немалым успехом пользовалась ирландская мелодрама «Служанка из Эррона».
В 1882 году Баум женился. Жена родила ему четырех сыновей (младший из них стал соавтором книги об отце, сведения из которой использованы на этих страницах) и умерла в 1953 году, пережив мужа на тридцать четыре года.
Нефтяная горячка увлекла бывшего актера, но стать предпринимателем ему не было суждено. Баум прогорел. Недолгое время он содержал лавку в Альбердине, торговал писчебумажными и канцелярскими товарами, а заодно — игрушками, и, по рассказам очевидцев, детям нравилось делать покупки у элегантного и вежливого лавочника.
В 1890 году Баум начал издавать газету «Альбердин Сэтердей Пайонир». Самым интересным разделом в ней была редакторская колонка «Наша хозяюшка», полная иронических и пародийных откликов на злобу дня. В номере от 3 января 1891 года Баум остроумно спародировал нашумевшую утопию Эдварда Беллами «Взгляд назад». Баум изобретательно описывал насквозь электрифицированный мир будущего, в том числе электрический экипаж (за два года до появления на американском континенте первого автомобиля) и домашний «электрический театр» (почти за пол века до телевидения). «„Ваш муж всегда так приятно улыбается“, — говорят хозяйке пансиона. — „Ничего удивительного, — отвечает она, — ведь улыбка у него электрическая…“»[312]
Пародийный отклик на утопию Беллами в журналистской шутке будущего создателя утопической страны Оз значителен и не одинок. В последние два десятилетия XIX века в американской литературе наблюдался своего рода бум утопического жанра — не менее шестидесяти утопических романов и повестей, буквально наступая на пятки друг другу, появились за это время. Секрет успеха этих произведений несложен: всегда интересная своими ответами на вопрос «что же дальше?», утопия приобретает особую остроту в «конце века», когда подводятся итоги и старые, выцветшие иллюзии требуют замены. По замечанию английского историка, популярность книги Беллами была предопределена тем, что «в тот момент горячо воспринималась любая книга, сулившая какие-то надежды»[313]. Утопии «конца века» — предисловие и фон «озовского» утопического цикла, первая книга которого составляет нашу тему.
Когда засуха погубила урожай и фермеры штата ждали помощи от правительства, Баум в своей колонке описал такую беседу (конечно, вымышленную): агент федерального правительства по сельскому хозяйству спросил у фермера, чем тот кормит лошадей, а фермер ответил: «Я надеваю моим лошадям зеленые очки и кормлю их стружками. Лошади думают, что это трава и едят охотно, но — странное дело! — не набирают в весе»[314]. Яркая оптимистическая иллюзия, заслоняющая серенькую действительность, — не отсюда ли пошли зеленые очки, которые потом наденут Дороти и ее спутники при входе в Изумрудный город?
Сколько ни бился Баум, чтобы вытянуть свою газету, весной 1891 года с ней пришлось распрощаться. В поисках заработка он перебирается в Чикаго, предлагает свое перо то одной, то другой газете. В 1897 году делает еще одну попытку начать собственное издание — выпускает журнал «Шоу Виндоу» («Витрина»), посвященный оформительскому искусству, или, как сказал бы наш современник, искусству дизайна. Этот год стал переломным в судьбе Баума: он написал свою первую книжку для детей — переложение стихов из книги Исайи Томаса «Подлинные мелодии Матушки Гусыни» в маленькие изящные рассказики. Через два года вышло продолжение — «Папаша Гусь». Это случилось в 1899 году, когда Баум уже сочинял своего «Мудреца из страны Оз». Не какую-то витрину — целую сказочную страну решил оформить по всем правилам дизайна редактор «Шоу Виндоу», когда журнал прекратил свое существование.
Надоевшее, но неотменимое клише писательской биографии: прославленную впоследствии, поначалу сказку никто не хотел издавать. Какой-то предусмотрительный издатель выпроводил Баума, заявив ему, что, если бы существовал спрос на американскую волшебную сказку, она, конечно, уже давно была бы написана. Наконец Бауму удалось договориться с чикагским издательством «Дж. М. Хилл компани», которое предложило следующее условие: автор получает весь доход от продажи книги, но берет на себя все расходы по публикации рукописи. В любом случае издательство оставалось «при своем» — весь риск приходился на долю Баума.
На рубеже нового века — летом 1900 года — «Мудрец из страны Оз» вышел в свет. Таким образом, указанная в некоторых отечественных источниках дата (1899) — время создания сказки, а книжная, издательская дата — 1900. Книжка была щедро украшена рисунками Денслоу, который, по мнению американской критики, сделал для Баума то же, что Тенниел для Льюиса Кэрролла. Многие художники будут потом иллюстрировать книги Баума, но органичными для своего сказочного мира автор всегда считал только рисунки Денслоу.
Это был звездный час писателя. Его книгу постиг невиданный, оглушительный успех, нараставший лавинообразно. Суховатые цифры выходных данных выразительно рисуют эту картину: на протяжении одного 1900 года книга выходила трижды — и каждое последующее издание перекрывало тираж предыдущего. В августе было выпущено 10 тысяч экземпляров первого издания, в октябре — 25 тысяч второго, в ноябре — 30 тысяч третьего. На Баума обрушился шквал детских писем — мальчики и девочки требовали продолжения сказки. Писали и взрослые: врачи, например, благодарили сказочника за помощь, которую он — сам о том не подозревая — оказал им во время эпидемии детского паралича. «Вы делаете больше, чем мы, — писали хирурги нью-йоркского госпиталя. — Дети, прикованные к койкам болезнью, то и дело просят: „Пусть лучше нянечка почитает нам «Мудреца из страны Оз»“»[315].
Успех книжки выплеснулся из литературы в быт: название сказки, ее тема, ситуации, образы — все пошло в дело, все было мгновенно перевоплощено в альбомы для вырезания, книжки-раскраски, модели, настольные игры, картинки-загадки, куклы, механические игрушки, школьные товары. Появилось даже фисташковое масло и конечно же мороженое «Оз». О переиздании можно было не беспокоиться — охотников печатать сказку теперь было хоть отбавляй, но Баум закрепил права за издательством «Рейли энд Бриттон» (преемником «Дж. М. Хилл компани»). В 1956 году общий тираж «Мудреца из страны Оз» на языке оригинала приблизился к четырем миллионам двумстам тысячам экземпляров.
Сказка была переделана в пьесу для драматической сцены, для кукольного театра, для любительских постановок. Кинематограф осваивал сказку на всех этапах своего развития: сначала появились три одночастные короткометражки (1910), затем — лента «Его величество Страшила» (1914), затем — полнометражный, но все еще немой фильм «Мудрец из страны Оз» (1925) и наконец полнометражный цветной музыкальный фильм (1939) режиссера Виктора Флеминга.
К первоначальной Баум добавил еще пять сказок, но интерес к сказкам не утихал, читатели требовали продолжения, и после небольшой передышки Баум написал еще восемь сказок «озовского» цикла. Они появлялись по одной — ежегодно к Рождеству — начиная с 1913 года, так что последняя, восьмая (четырнадцатая по общему счету), вышла в 1920 году, уже после смерти автора.
Свои последние годы Баум — любимец американских детей — провел в достатке и спокойной работе. Он совершил давно желанное путешествие в Европу, побывал в Египте, растил сыновей и приобрел домик в тихом дачном поселке Голливуд, которому в недалеком будущем предстояло превратиться в кинематографическую столицу Соединенных Штатов. Домику было присвоено имя «Озкот» — то есть «Коттедж Оз». Баум, ставший, таким образом, мудрецом из коттеджа Оз, разводил рыб, кроликов и цветы. После смерти писателя его жена Мауд, роясь на чердаке, обнаружила там кипы бумаг. Она понимала, что это рукописи книг покойного мужа, но ведь книги-то изданы и благополучно переиздаются, гонорар за них исправно поступает на семейный счет, к чему же этот хлам, загромождающий чердак? И она сожгла все бумаги…
Книги между тем действительно продолжали выходить новыми изданиями, в особенности — открывшая «озовский» цикл сказка «Мудрец из страны Оз», и почти через полвека после ее появления американская пресса напоминала, что эту книгу следовало бы выпускать ежегодно, ибо «Мудрец» — типично американская волшебная сказка, взывающая к лучшим чертам национального характера[316]. Эта книга, добавим, — несомненно лучшее произведение Баума, впитавшее обобщенный смысл его жизни, — поиски и обретение самого себя.
Если же пренебречь этим обстоятельством, рождение книги начинает выглядеть обескураживающе простым или анекдотически забавным: однажды вечером писатель стал рассказывать сказку своим маленьким сыновьям и сразу решил повести их в Изумрудный город, но дети захотели узнать, а где же он, этот город, находится, и тогда сказочник, обведя глазами свой кабинет, остановил взгляд на бюро с картотекой, состоящей всего из двух ящиков — один от буквы «А» до «N», а другой-от «О» до «Z»: «О-Z»[317].
«Это было в стране Оз», — ответил он детям.
Этот эпизод очень мил, но не убеждает. Почему бы сказочнику не взглянуть пошире и не заметить, например, горное плато Озарк на границе того самого Канзаса, где начинается действие сказки? При некоторой наклонности к игрословию (а Баум, насколько можно судить, обладал ею в изрядной мере) «Озарк» можно прочесть как «озовский ковчег» («Oz-агс»), и разве не был своего рода ковчегом домик, в котором девочка Дороти совершила путешествие из Канзаса в страну Оз? Вообще, американские биографы всячески стараются «сузить» сказочника, не позволяя его мысли пересечь порог кабинета или детской. Делают они это, разумеется, с лучшими намерениями, но вразрез со сказкой.
Эпиграфом к американской книге о Бауме поставлены его слова: «Радовать детей — очаровательное занятие, греющее сердце и приносящее глубокое удовлетворение». Если биографы Баума хотели этим эпиграфом определить роль и задачу сказочника, дать «формулу сказки», то, следует признать, они сделали писателю неуклюжий комплимент, оказали ему сомнительную услугу. Предложенный в этом эпиграфе образ прекраснодушного забавника, добрячка-затейника, который несет детям радость, не оскверненную прикосновением к «грубой жизни», не замутненную никакой мыслью, — этот образ не выдерживает проверки — сказкой. Между Баумом — автором сказки и им же — автором афоризма, вынесенного в эпиграф к его биографии, возникает противоречие, своего рода тяжба «Баум против Баума». В этой тяжбе следует безоговорочно занять сторону писателя, создавшего «Мудреца из страны Оз», — против умиленно-слащавого буржуа, пописывающего для детей и разводящего рыб, кроликов и цветы.
«Были годы, — напоминал Джон Гарднер, — когда от детей прятали книжки о стране Оз, и все потому, что некие псевдокритики (второразрядные педагоги и психиатры) порешили однажды, что сцены обезглавливания, как бы ни были они смешны и безобидны в контексте, подразумевают кастрацию»[318]. В «Мудреце», например, обезглавливают соломенное чучело — Страшилу, чтобы вместо соломы набить его голову чем-нибудь более «острым», скажем иголками, и пусть читатель сам решит вопрос об остроте ума рьяных интерпретаторов.
Возможно, старания биографов доказать непричастность Баума к какой-либо мысли — не что иное, как попытка защитить сказку от истолкователей, слишком уж усердно навязывающих ей свои болезненные вымыслы. Но кто защитит сказку от такой защиты? Оголтелые вымыслы истолкователей не исключают возможность и необходимость серьезного — не «впитывающего», а только «вычитывающего» — истолкования.
Нет, если уж выбирать эпиграф о сказочнике и его деле, то следует остановиться на том месте из гофмановской «Принцессы Брамбиллы», где «автор осмеливается привести высказывание Карло Гоцци… в котором говорится, что целого арсенала нелепостей и чертовщины еще недостаточно, чтобы вдохнуть душу в сказку, если в ней не заложен глубокий замысел, основанный на каком-нибудь философском взгляде на жизнь»[319].
Итак, смерч подхватывает домик с Дороти и собачкой и, оторвав их всех вместе от скудной канзасской почвы, переносит в сказочную страну. Смерч — вполне обычное дело на канзасской равнине, и чудесное, таким образом, начинается с обыкновенного, сверхъестественное — с природного, разве только преувеличенного. Возникает первая из каскада парадоксальных ситуаций этой сказки: нужно возвратиться домой, в Канзас, но дом — вот он, в сказочной стране, на чужбине. Дом оказался, так сказать, «не дома». Следующий парадокс: нечаянно уничтожившая злую ведьму жевунов, Дороти проявляет свое могущественное превосходство над силами зла, но эта победительница чародейки, освободительница маленького сказочного народца — беспомощна.
Дороти не знает, что, плеснув простой водой на другую ведьму, она уничтожит и ее. Дороти не знает, что, едва попав в сказочную страну, она обулась в волшебные серебряные башмачки, которые могут в единый миг доставить ее куда угодно — хотя бы и в родной Канзас. В неизвестности пребывают и читатели — автор раскроет секрет волшебных башмачков только на последних страницах сказки. Если бы девочка знала, что может вернуться домой сразу же после первого эпизода в сказочной стране, она, конечно, немедленно вернулась бы, но тогда не было бы сказки. Не было бы ни встречи со Страшилой, Дровосеком и Львом, ни дружбы, окрепшей в совместно пережитых приключениях. Не было бы разоблачения Оза. Главное же, возвращение не имело бы такой цены, а сказочные приключения не обогатили бы Дороти тем невещественным багажом, с которым она вернулась домой, — знанием своих возможностей и верой в свои силы…
Поэтому Дороти идет по дороге из желтого кирпича, идет, заметим, еще не домой, а только для того, чтобы узнать, как ей вернуться домой, и встречает на пути тех, кого она должна встретить. Дорога в сказке — всегда стержень, на который нанизываются приключения.
Девочка снимает с шеста огородное пугало — Страшилу, который сразу же заявляет, что благодаря Дороти он как будто вновь на свет родился, — то есть этот момент приравнивается к рождению. Но, едва рожденный, жалуясь на свое невежество и скудоумие, Страшила уже твердо знает одно: его голова набита соломой — и в этом причина его глупости. Если Страшила глуп, то нужно немедленно воспеть похвалу глупости — искреннюю и восторженную, вслед за Баумом, а не издевательскую, как было бы по Эразму Роттердамскому.
Дело в том, что Страшила не просто умен. И не только самый умный из персонажей сказки. Он — прямое воплощение разума. Это Страшила — первый и единственный из путников — догадывается, как перебраться через пропасть, предлагает средство для спасения от страшных чудовищ-калидагов, находит способ переправиться через реку. Страшила — технический гений, своего рода Эдисон из страны Оз. Лев вынужден заметить: просто не верится, что у Страшилы в голове не мозг, а солома! Более того, Страшила — мудр. Ведь это ему принадлежит мысль о том, что волшебник Оз, посылающий маленькую девочку совершить убийство (пусть даже убийство ведьмы), нуждается в сердце больше, чем железный Дровосек…
Смешное и трогательное противоречие между острым умом и непререкаемой убежденностью в собственной глупости составляет основу этого образа. Страшила реализует это противоречие на каждом шагу — начиная с первого. Он, например, сообщает, что когда торчал на шесте в кукурузном поле, то даже думать ни о чем не мог, ибо — не было чем. Другими словами — думал о своей бездумности. И тут же, углубляя противоречие, Страшила рассказывает, как узнал от ворон о самом дорогом приобретении на этом свете — о мыслящем мозге — и как обдумывал эти слова. Свалившись в яму, он объясняет, почему не обошел ее: потому, видите ли, что ему не хватает ума. Вот даст ему волшебник хоть немного мозга — он станет умней и будет обходить ямы. Но ведь (догадывается читатель) если Страшила знает, что, получив мозг, он начнет обходить ямы, значит, он знает это сейчас! Дети и философы весело смеются, сталкиваясь с такими противоречиями.
И все время этот несомненный умница скорбит: знали бы вы, как горько сознавать, что ты — дурак! Тему неведения себя, неверия в себя, недоверия к себе, только намеченную в образе Дороти, Страшила выводит на первый план — и, как эстафету, передает ее Дровосеку.