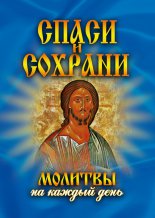Захар Колобродов Алексей

Актуальные примеры этой пододеяльной вселенной в нынешнем искусстве, когда вакансию Бога заполняют детские страхи: режиссёр Константин Богомолов с нашумевшим спектаклем МХТ им. Чехова «Карамазовы» (если по касательной вернуться к нашим соловецким баланам и достоевским братьям).
Забавно, что кодой в спектакле Богомолова звучит песня «Я люблю тебя, жизнь», музыка Э.Колмановского, стихи К.Ваншенкина (столь любимая Юрием Гагариным), – шедевр советского направления «прикладной метафизики». Вряд ли сознательно подчеркнутое родство, и тем оно очевиднее.
Что же до самого спектакля с его Достоевским в гаджетах, интерьерах и телодвижениях, у Богомолова, полагаю, та же проблема, что у Кирилла Серебренникова, поставившего спектакль «Отморозки» по роману Захара Прилепина «Санькя», но здесь я говорю о его, Серебренникова, киношных опытах. Оба художника пытаются выдать непростую свою внутреннюю жизнь, с процессами на грани срыва и скрежетом зубовным, за картинку общего бытового неблагополучия. Неблагополучия, спору нет, у нас таскать на экран и сцену не перетаскать, но всё же не стоило бы путать Божий дар (несомненный в случае Серебренникова-Богомолова) с расейской действительностью. То есть личное безумие художника вовсе не адекватно ландшафту, и наоборот.
У Ренаты Литвиновой – «Последняя сказка Риты», фильм про смерть, и даже так – про Смерть и то, что она делает с человеками, – отсутствует даже тень религиозного сознания. Традиционного, нетрадиционного, конфессионального, гностического – любого. Гламурное ЖКО, где ведётся смертное делопроизводство, никак не обозначает присутствие Бога. И прочего Иного. Даже его не пародирует.
Вся мистика «Последней сказки Риты» – механическая, сконструированная. Как тот же присутствующий в фильме Юра Гагарин с телескопическими сочлененьями рук. А окутывающий всё пространство фильма табачный дым заставляет не задуматься о метафизике курения, дыма и пепла, но вспомнить песню «Сигарета, сигарета, никогда не изменяешь», более всего известную в исполнении Аркадия Северного.
Вернусь к Роману Сенчину и его концепции «нового историзма» у «новых реалистов». Я оспорил тезис в применении к группе, но теперь хотел бы согласиться с Романом в том, что касается индивидуального мироощущения Захара Прилепина.
Поскольку историзм априорно присущ взглядам Захара, по сути, он и является способом мышления Прилепина. Это особенно заметно даже не в публицистике и дневниках «Не чужой смуты», где он свободно ныряет в глубину двух-трёх-четырёх веков русской хронологии, но именно в «Обители». Поскольку историческое измерение романа оппонирует не отдельным коллегам-художникам, но массовому сознанию, для которого вся современная Россия – это Россия послевоенная, и чем дальше Великая Отечественная, тем сильней ощущение смертной и кровной с ней связи, протекающей глубоко параллельно не столько историческому, сколько истерическому пропагандистскому мейнстриму. Кстати, подобный взгляд очень свойственен современным молодым писателям, когда они рискуют спускаться вниз по реке времени. Война вроде буйков – дальше плыть, поднырнув под трос, можно, но опасно – знакомое пространство заканчивается, впереди сплошное море с его акулами и гад морских подводным ходом.
Аналогичной хронологии придерживался Владимир Высоцкий. История его России тоже начиналась с ВОВ, с некоей дородовой памятью 37–38 годов. Гражданскую, например, войну (первую и вторую) он не воспел практически никак. А именно Высоцкий, как когда-то Маяковский для революции, придумал язык для современной России, и мы продолжаем им пользоваться.
Погружение Прилепина в «великий перелом», запуск ГУЛАГа, СЛОН, а значит, отчасти в Революцию и Серебряный век, – таким образом, становится преодолением отвердевшей породы, разрушением шаблона, операцией по удлинению исторической памяти.
Есть и другая грань обширной темы «историзма», очень заметная в недавней и знаковой полемике Сенчина с Прилепиным. Сенчин опубликовал статью с жёстким названием «К расовой теории Захара Прилепина»; впрочем, она стала ответом на прилепинское эссе с титлом не менее провокационным – «Две расы».
Расизма в привычном понимании там, разумеется, нет: речь не о разных физиологиях, но о мировоззрениях. Захар повторил свою регулярно в последнее время проговариваемую мысль о том, что Майдан, Крым, Новороссия предельно обострили вечные русские противоречия между условными государственниками и либералами. Первые после Крыма и Донбасса воспряли, вторые погрузились в сплин и безнадёгу. Что нам хорошо, то им – депрессия, и наоборот.
Прилепина с «Двумя расами», равно как и ответ Сенчина, легко найти в сети, потому нет нужды в обильном цитировании.
Разве что несколько фраз, ключевых для понимания позиции Романа Валерьевича:
«Говорят, что на Юго-Востоке защищают русский мир. Может быть. Но разве внутри России он не гибнет, не нуждается в защите?.. (…) Сколько обезлюдело за последние годы сотен квадратных километров в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке, в Рязанской области, в Костромской…
В Луганске и окрестностях нет газа. В России в тысячах сёл, посёлков, городков газа и не было. Несколько раз видел такую картину: метрах в ста от посёлка проходит газопровод, а сам посёлок топится дрянным углём; снег чёрный. Ничего, дескать, жили и ещё поживут. (…)
Юго-Восток бомбят. А многие города России без бомбёжек лежат в руинах. Жители гибнут не от снарядов, а от кипятка, рухнувшей остановки, развалившегося дома, проваливаются в ямы на тротуаре, и их уносят канализационные потоки… Десятки тысяч первопроходцев на Севере и их потомков обитают в бочках, вагончиках, трухлявых деревяшках. Во многих населённых (пока ещё) пунктах такое одичание, что не верится, что мы запускаем ракеты в космос, строим трассы Формулы-1, проводим Олимпиады, расставляем на тротуарах деревья в гранитных горшках…
Но если начать собирать гуманитарную помощь для жителей Боготола или трущоб Саратова, для сапожковцев или угличан, которых становится в год меньше на пятьсот-семьсот человек, скажут: «Охренели!» – а для Новороссии собираются конвой за конвоем. В том числе шлют деньги простые россияне. Что ж, это в нашем характере: пройдём мимо лежащего зимой на тротуаре, зато отдадим последнюю рубашку пострадавшему от землетрясения где-нибудь на Гаити…»
Справедливо. Искренне. Та правда, которая от бесконечного повторения не сливается в фоновый набор звуков, но пронзительна и горька неизменно. Разве что для «простых россиян» Донбасс – отнюдь не Гаити, да и вообще Сенчин, конечно, спрямил позицию Захара по живому. Но проблема, тем не менее, в другом.
Прилепин пытался Сенчину отвечать, однако, как мне кажется, так и не привёл главных, «исторических», аргументов. Они между тем очевидны: в том состоянии оцепенения, тягучего, до опрелостей, сна, которым живёт Россия в «мирное время» веками (и которое так точно и безжалостно умел описать прозаик Сенчин в лучших своих вещах), труды, направленные на скорое обустройство её пространства, политический и хозяйственный конструктив, увы, практически невозможны. В чём мы – даже за короткую нашу жизнь – сумели прочно убедиться. И спроецировать собственный эмпирический опыт на свидетельства летописей и дневников.
Не думаю, что Роман всерьёз полагает, будто те энергии, которые разбужены сопротивлением «русского мира», механически перенесённые внутрь страны (каким образом, а?), сделались бы могучим катализатором сонма добрых дел. Едва ли… Рассеялись бы, истаяли, осели мёртвым грузом в лучших умах и душах, да отразились бы в литературе тех же «новых реалистов». И всё? Всё.
Поэтому для Захара так значимо историческое пространство, по-разному обозначенные случаи пассионарного взрыва, толчка, ответа на внешнюю угрозу, которая способна переформатироваться во внутренний перелом, передел – только бы не в «перестройку». История – наука точная, с работающими законами и прочно сцепленными механизмами.
Захар фиксирует сближение ситуации Крыма и Новороссии с имперским жизнестроительством большевиков в Гражданскую и освобождением от оккупации в ВОВ. Парадоксально, но и Соловки Эйхманиса там просматриваются – та ещё лаборатория нового человека, нашедшего свою архимедову точку опоры. И за этим разбуженным человеком, возникни необходимость нажать на всероссийский рычаг, совершив левый поворот, – отнюдь не заржавеет.
Прилепин и Солженицын: к параметрам сближений
Анна Наринская, литературный обозреватель «Коммерсанта», в эмоциональном и симптоматичном отклике на вручение «Большой книги» – 2014, называет книгу-лауреата романом «советским».
«(…) хотя роман “Обитель” выделяется на теперешнем общем литературном фоне точным авторским чувством конструкции и умением работать с персонажами, это никак не отменяет абсолютной советскости. Как спонтанной (автор сам живёт советскими эстетическими ценностями и, соответственно, их предлагает), так и осознанной (автор намеренно воспроизводит советский роман, каким он был, с одной стороны, у Леонова, с другой – у Солженицына, как явление). То есть победа этого романа (в свободном тайном голосовании и при наличии в шорт-листе такого принципиально асоветского текста, как “Теллурия”) демонстрирует выбор той самой “литературной общественностью” советской эстетики и подхода как наиболее любезных её сердцу».
Тут много любопытного.
Очевидно, Анна Наринская желала избежать прямой параллели с известным парадоксом Сергея Довлатова (приписанным им, впрочем, Анатолию Найману: «советский – антисоветский, какая разница») и потому наградила роман Сорокина эпитетом более изящным, и ошиблась.
Ибо если мерить категориями «советскости» – термин весьма условный, но есть для его заземления, например, относительно внятный структурный метод – антиутопия «Теллурия» (не в меньшей степени, чем прежние, деконструкторские, тексты Владимира Георгиевича) прямиком оттуда, из, как выражаются некоторые сорокинские поклонники, «совка». Наличествуют, как водится, источники и составные части.
Прежде всего – советская научная фантастика (вообще, тема генезиса сорокинских сюжетов относительно советской НФ ждёт своего исследователя). А то, что эскиз грядущего, заявленный в «Теллурии», есть ответвление – не столько в противоположный конец, сколько в затхлый тупичок – чаемого фантастами СССР светлого коммунистического будущего – как раз непринципиально.
Ещё более ощутимая струя в «Теллурии» – влияние советского исторического романа, «полотна», как в лучших («Пётр Первый» Алексея Н. Толстого), так и в бесчисленных нелучших образцах Руси изначальной etc.
Не столь живописно, сколь узнаваемо: купцы, стрельцы (у Сорокина – опричники), «слобода да посад» (Всеволод Емелин), раскольники и ересиархи, кабаки и ярмарки, кафтаны и ферязи, дьяки с подьячими (дьяки, кстати, Сорокину так нравятся, что он путает их с дьяконами)… Но проблема даже не в подражательстве или следовании известной матрице: Сорокин заявляет себя историческим материалистом и в идейном (всё шло к распаду России, и «она утонула», то есть рассыпалась), и в эстетическом смысле. История у него не осмысляется, а пропускается через заменяющий сознание гаджет. Как будто на экране смартфона движется лубочная картинка под музыку Бориса Мокроусова, какую-нибудь «Сормовскую лирическую». «Под городом Горьким, где ясные зорьки»…
Ну, и на конец – можно сказать «имперская», а можно – советская «всемирная отзывчивость»: Европа нового средневековья как-то быстро и лихо (Сорокин умеет) становится Россией – скорее вечно прошлой, нежели гипотетически будущей.
Подобное ощущение, помните, уже возникало – при просмотре «Международной панорамы» или какой-нибудь «9-й студии» в начале восьмидесятых. В стране СССР.
Сам безапелляционный пассаж – иллюстрация ключевой мысли обозревателя «Ъ»: Анна Наринская искренне недоумевает – почему, дескать, литературные премии присуждаются именно за литературные достоинства текстов, пусть и бесспорные? без учёта политических воззрений и публицистических высказываний автора?
(Можно было бы тезис легко опровергнуть, сославшись на историю той же «Большой книги», но Наринская сама, надо думать, в курсе, да и не суть.)
Ну как же это так, удивляется Анна Наринская, когда во всём продвинутом мире (свои люди, всё понимаем) прежде всего именно политкорректное благонравие (и наоборот) учитывается и на карандаш хватается?..
«Дураки вы, что ли, интеллигенция?!» – выпаливает Наринская.
То есть вариант карякинского «Россия, ты одурела» во внутриклановом изводе.
Тут не надо напоминать, кто традиционно, хотя большей частью в теории, является адептом «чистого искусства» и противником выставления писателям баллов за политическое поведение.
И так ясно.
Впрочем, Анна Наринская в публикации на «Кольте», подводившей литературные итоги 2014 года, повторив прежние ярлыки и недоумения относительно Прилепина и «Обители», межеумочность единомышленников тоже фиксирует:
«Вслед за этим (заметкой в «Ъ» на вручение «Большой книги». – А.К.) моя почта оказалась завалена обиженными письмами, а практически каждый мой выход в люди в течение последующих двух недель включал в себя обязательные разговоры с оппонентами разной степени взвинченности о том, что, мол, как же я так могла, и что “Обитель” – она крутая, и при чём здесь общественные взгляды её автора и вообще политика».
А вот дальше – ещё интересней. Наринская, которой, и это заметно, льстит ситуация «один всегда прав», коря свой референтный круг за прекраснодушие, эстетскую мягкотелость и политическую близорукость, неожиданно делает «Обители» комплимент в чём-то повесомее денежного содержания «Большой книги». Выписывает роману пропуск в историю и вписывает «Обитель» в исторический контекст 2014 года, книгу о котором уже нынешние прозаики могут начинать словами «Велик и страшен был…»
Неважно, что событийный ряд травестирован, мы-то знаем, какие вехи войдут в учебники:
«И это какое же странное искажение зрения надо иметь, чтобы не видеть, как идеально гладко главная книжная премия этого года ложится в его хронологию: от “блокадного” преследования телеканала “Дождь” и далее со всеми остановками – вплоть до недавних рассуждений о “нашей Храмовой горе”. И как же уютно нужно себя в этой слепоте чувствовать, чтобы считать, что, сделав и поддержав этот выбор, ты к этой удобной гладкости отношения не имеешь, а “просто оценил книгу”.
Так вот, эта странная девиация моих литературно ориентированных соотечественников для меня и есть главный литературный итог года. И – перефразируя любимца лауреата – других итогов у меня для вас нет».
Высказывания Анны Наринской между тем удобны как повод. Поверхностная аттестация снова заставляет задуматься: какое место занимает «Обитель» в общем потоке русской литературы (советского периода в том числе), и какое сравнение (противопоставление) правомернее – с Леоновым и Солженицыным? Или с Сорокиным?
Ибо сам общий ряд – Леонов – Солженицын – Прилепин – ещё один энергичный комплимент автору «Обители». Понятно, откуда Наринская взяла Леонова – перед этим его на всеобщее обозрение вытащил именно Захар, написав о нём ЖЗЛ и неустанно пропагандируя; работа колоссальная и, что принципиальнее, по нашим временам – фантастически результативная – Леонов приобрёл все права актуальной литературной фигуры, а не «забытого классика». Вплоть до попадания в святцы – пусть иронические – Анны Наринской. А Солженицын возник как, с одной стороны, – писатель идей (хоть бы и в «советских романах» высказанных), с другой – фигура, бесспорная по общественной значимости. Как вопрошал Ленин, имея в виду Толстого, – «Кого в Европе можно поставить рядом с ним?»
У Анны Наринской такая кандидатура, как выясняется, есть.
Упоминание Александра Исаевича, непременное в любом разговоре про «Обитель», заставляет говорить о «лагерной» прозе, по ведомству которой роман Прилепина уверенно прописали, и это, пожалуй, навсегда.
Однако с параллелью «Солженицын – Прилепин» имеет смысл разобраться в диапазоне куда более широком, нежели «тюрьма при советском тоталитаризме».
Для затравки напомним вызвавшую столько шума реплику Прилепина о желательности исключения «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы: понятно было, что говорит Захар не столько о мифотворчестве у Солженицына, сколько об отсутствии документальной – при избыточном присутствии фольклорной – основы пусть у «художественного», но «исследования».
Впрочем, общий смысл заявления не был столь категоричен, как его пытались интерпретировать. Предоставим тут слово самому Прилепину:
«Однажды я впроброс сказал о том, что в школах предпочтительнее было бы изучать художественные, а не публицистические тексты Солженицына. Эти слова были немедленно взяты на вооружение “прогрессивной публикой” (“Прилепин пытается выдавить из школы Солженицына и занять его место!” – кричали эти, другого слово не подберу, идиоты). “Прогрессивная публика” имеет привычку приватизировать всё подряд – в том числе и наследие Александра Исаевича, который, прямо говоря, никогда не был либералом и ко всей этой публике относился с великим скепсисом, переходящим в презрение».
На этот пассаж Дмитрий Быков, посчитавший, будто Прилепин, лидер «младопатриотов», таким образом вступил в борьбу «за Солженицына», дабы освятить высшим его авторитетом Новороссию и «национализм с человеческим лицом, в азартном, весёлом и зубастом варианте», ответил известной статьёй. Наибольшие возражения у Дмитрия Львовича вызвали прилепинские дефиниции Солженицына: «безусловно воин, консерватор, традиционалист».
Быков пытается оспорить триаду с помощью прежде всего литературного инструментария (хотя Прилепин «русскую общественную традицию» в спорах о фигуре Солженицына вынес впереди литературной).
«Что до традиционно русских добродетелей, – пишет Быков, – “воин, консерватор, традиционалист”, – Солженицын и подавно имеет к ним весьма касательное отношение. Традиционалист? Но в литературе он модернист, прямой ученик Цветаевой и Замятина, создатель нового типа эпопеи, куда более радикальный новатор, нежели Дос Пассос, с которым его вечно сравнивают».
Дмитрий Львович, настаивая на первородстве литературного анализа, следом утверждает, будто идеологом может быть лишь свирепый догматик, с рождения и до самой смерти не выпускающий из рук одних и тех же скрижалей – шаг влево, шаг вправо автоматически лишает почётного звания: «Солженицын вообще никакой не идеолог – идеи его эволюционировали, и сам он менялся».
Но дело даже не в этом. Во-первых, модернизм давно часть литературной традиции. Во-вторых, традиционализм в общественной мысли вовсе не отрицает обращения к продвинутым литературным технологиям. Аналогично у Дмитрия Львовича в оппонировании определению «консерватор и воин» – одномерные аргументы: Столыпин, Ленин в Цюрихе, как будто на фоне этих фигур Александр Исаевич должен вдруг сделаться либертарианцем и пацифистом…
«Идеи его менялись» – это верно. Но – от Матфея «По плодам их узнаете их». А если плоды разные? И терновник, и виноград, и хурма, и шаурма?
Вместе с тем, пафос статьи Солженицына «Поссорить родные народы?» («Известия», 02.04.2008) абсолютно недвусмысленный:
«И в 1932–1933 годах, при подобном же Великом Голоде на Украине и Кубани, компартийная верхушка (где заседало немало и украинцев) обошлась таким же молчанием и сокрытием. И никто же не догадался надоумить яростных активистов ВКП(б) и Комсомола, что это идёт плановое уничтожение именно украинцев. Такой провокаторский вскрик о “геноциде” стал зарождаться десятилетиями спустя – сперва потаённо, в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против “москалей”, – а вот теперь взнёсся и в государственные круги нынешней Украины, стало быть, перехлестнувшие и лихие заверты большевицкого Агитпропа? “К парламентам всего мира!” – Да для западных ушей такая лютая подтравка пройдёт легче всего, они в нашу историю никогда и не вникали, им – подай готовую басню, хоть и обезумелую».
А вот Егор Холмогоров на «Свободной прессе»: «Полагаю, что если Путин успешно доведёт партию на Украине до конца, то совершенно реальным окажется добровольное формирование союза между Россией, Восточной Украиной, Белоруссией и Казахстаном, то есть формирование того восточнославянского (правильней было бы сказать – русского) союза, который предлагал Солженицын. Вообще, влияние доктрин этого писателя на политическое мышление Владимира Путина явно было недооценено. Путин, как оказалось, не только заявляет себя “наследником Солженицына”, но и является им на деле».
Впрочем, великого человека и должно быть много.
Странно, что Быков с его любовью к параллелям, подчас рискованным, не решился на сравнение литераторов Солженицына и Прилепина, а вместо этого снова подтянул к Захару за ницшеусы Горького; «подмаксимки» – «подзахарки», весь набор ещё из прошлой пятилетки.
Сопоставление «Обители» с нобелевским романом Александра Исаевича «В круге первом» как бы узаконено от долгого повторения (и Наринская, конечно, имеет в виду именно «Круг», поскольку говорит о «романе»). Однако задумаемся – насколько оно вообще убедительно и правомерно. Критики, надо полагать, мыслят категориями не столько романности и «советскости», сколько гулаговской «темы» и объёма. Естественно, структура: «двучастность», как сказал бы сам Александр Исаевич.
Куда, впрочем, занятнее параллели, залегающие на иных уровнях восприятия и требующие более глубокого бурения. Сопоставим для начала даты. В соловецком романе Прилепина основное время действия – лето и осень 1929-го, года «великого перелома на всех фронтах социалистического строительства» (И.Сталин), изгнания Льва Троцкого за пределы СССР и запуска той самой пенитенциарной системы, которая вошла в историю и мифологию под именем ГУЛАГа. (Сама аббревиатура появилась годом позже; однако постановление Совнаркома «Об использовании труда уголовно-заключённых», по которому содержание всех осуждённых на срок от трёх лет и выше передавалось в ОГПУ, датировалось 11 июля 1929 года.)
Спустя ровно двадцать лет (1949 год) разворачивается действие романа «В круге первом» – рождественская неделя (в одной из первых глав заключённые-немцы празднуют католическое Рождество), точнее несколько дней – от 24 декабря («три дня назад отгремело его славное семидесятилетие» – ремарка в первой из «сталинских» глав романа) по 26-е включительно.
Но дело даже не в юбилейных нулях, а в своеобразном стыке эпох: мощный стартап ГУЛАГа – у Прилепина, с другой, у Александра Исаевича, – одряхление сталинизма, биологическое и бюрократическое, показанное чрезвычайно убедительно; вопреки, естественно, авторскому замыслу. Александр Исаевич на риторическом уровне пытается доказать, что режим становится только кровожаднее (не с одной, впрочем, его подачи прочно укрепился миф о послевоенном «новом 37-м», девятом вале репрессий). Однако внеидеологический, сугубо художественный слой романа, через детали и нюансы, демонстрирует обратное – если не вегетарианство власти (до него далеко, конечно), то её застывание и коррозию в аппаратных и юридических формах. Исключающих произвол и соблазн решать проблемы методом «крупнооптовых смертей» и статистики в больших нулях. Показателен момент, когда отправляющийся на этап Глеб Нержин, оперируя буквой и параграфами закона, заставляет оперчекиста майора Шикина вернуть изъятую при обыске книжку стихов Есенина – и таких красноречивых эпизодов в «Круге» немало.
«– Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить? – возмутился Абакумов. – Семь человек! У нас страна большая, не обедняем!
– Нельзя, Виктор Семёныч, – благорассудно возразил Рюмин. – Это министерство – не Пищепром, так мы все нити потеряем, да ещё из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанёт. Тут именно надо найти – кто? И как можно скорей».
Подобный диалог невозможен в 37-м, когда брали именно что целыми министерствами, не особо отделяя МИДа от Пищепрома. Занятно, что и здесь бармалейство Абакумова несколько Солженицыным преувеличено. Именно всесильный министр ГБ в 1951 году высказался об участниках некоего «Союза борьбы за дело революции» (16 юношей и девушек, обсуждавших, между прочим, план убийства Маленкова): «…способны только на болтовню… Серьёзных террористических намерений у них не было».
Вообще, толстовских кондиций конфликт Солженицына-реалиста с Солженицыным-идеологом и Солженицыным-фельетонистом, на мой взгляд, особенно принципиален для понимания этого романа и ждёт ещё своего справедливого рефери.
Надо сказать, солженицынские свидетельства о перерождении советской модели социализма в поздние сороковые (снова миф об однородности, монохромности сталинского периода разбивает один из его создателей), весьма ценны и по-своему уникальны – по сей день в литературе и общественной мысли они в остром дефиците. Разве что исторические труды Вадима Кожинова, «Россия. Век XX», можно поставить рядом.
Солженицын не без ехидства фиксирует, как убеждённые леваки (инженер Абрамсон, фронтовик-филолог Лев Рубин, уцелевший «красный профессор» серб Душан Радович) вдруг осознают, насколько непоправимо и опасно чужими оказались они в государстве «победившего пролетариата»; идеология их – уже не щит Ахилла, но ахиллесова пята. Любой карьерный циник сделался власти ближе, чем идейный боец.
Или – практически единичное в советско-антисоветской литературе свидетельство о послевоенном недоверии фронтовикам, негласном нивелировании военных заслуг, размывании – аккуратно направляемом государством – фронтового братства (образ и опыт капитана Щагова: «Щагов уже стыдился своих скромных орденишек в этом обществе, где безусый пацан аппарата (референт Верховного Совета. – А.К.) небрежно наискосок носил планку ордена Ленина».) Здесь имеет смысл остановиться немного подробнее.
Позднейшее (после 1965 года) превращение Победы в основной символ и достижение государства (в дальнейшем пропагандистский накал только возрастал, а распад СССР и крушение социализма и вовсе перевели его в сакральную сферу, вопреки исторической логике), с повсеместным чествованием ветеранов, стёрло послевоенное отношение власти к фронтовикам из народной памяти.
Наверное, это правильно. Народная память устроена так же, как индивидуальная у человека, – и плохое забывает быстро.
Или, как водится, мифологизирует – так (это и я хорошо помню) солдаты великой войны дружно проклинали Никиту Хрущёва за отмену так называемых «денег за ордена», то есть выплат за боевые награды. Немало грехов было у Никиты Сергеевича, но здесь он вовсе ни при чём – на самом деле, выплаты были упразднены с 1 января 1948 года. Равно как льготы для орденоносцев в виде бесплатного проезда на городском транспорте и раз в год по железным и водным путям. В указе формулировалось: «Учитывая многочисленные предложения награждённых орденами и медалями СССР об отмене денежных выплат по орденам и медалям и некоторых других льгот, предоставляемых награждённым, и о направлении освобождающихся средств на восстановление и развитие народного хозяйства СССР».
У Сталина были свои резоны не доверять фронтовикам. Хорошо знавший историю, он помнил, разумеется, о декабристах. Лично наблюдал политическую роль фронтовиков в революции и Гражданской войне (и сам был солдатом-дезертиром в начале 1917-го). Были причины не слишком славить Победу (9 мая стал нерабочим днём только в 1965-м) – грандиозная военная, она оказалась не равна победе политической. Собственные соображения имелись и у Хрущёва – Победа, как ни крути, ассоциировалась с Иосифом Виссарионовичем. Никита Сергеевич был вовсе не прост (в отличие от позднейших своих, с 1985 года, преемников) и понимал, что ассоциация эта – навсегда. Словом, причины подобного отношения у двух вождей были сугубо политические, а вот Леонид Брежнев разбавил политику – лирикой. Ему были дороги воспоминания, не только героические, но и в гоголевско-есенинском духе: «о, моя юность, о, моя свежесть!».
И мы позволим себе немного лирики. Для иллюстрации природы национальных мифов. В нашумевшем сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» речь идёт о 1961-м, кажется, годе; принципиальный конфликт разворачивается вокруг обнаружившегося вдруг скандала: главный герой-любовник, киношник Виктор Хрусталёв, оказывается – «не воевал». Хотя, по возрасту, естественно, подлежал призыву.
Когда, интригами некоего нехорошего прокурора, история всплывает на публике (в виде фельетона в «Комсомолке» – вот эта деталь эпохи очень точна), приятель-фронтовик бьёт Хрусталёва по физиономии (безответно), мосфильмовское окружение, у которого отцы-братья полегли или стали инвалидами, подвергает тусовочному остракизму.
Всё бы ничего, сериал, натурально, не претендовал на документ эпохи, но вроде как воспроизводил аромат её – и сюжет с хрусталёвским элитарным дезертирством портил воздух именно на художественном уровне – вполне качественном, кстати. Поскольку был лжив – не потому, что «косить» от призыва, да ещё во время войны – это хорошо, а потому, что вопроса «где и чем вы занимались до сорок пятого года» в те ранние шестидесятые практически не звучало.
Хрусталёв мог работать на оборонном заводе (на любом заводе; да, получив бронь не без помощи влиятельного папы, но и в этом не было ничего зазорного). Мог учиться во ВГИКе – тоже возможная бронь: товарищ Сталин мастеров, настоящих и будущих, важнейшего из искусств, берёг и лелеял. Наконец, главная и горькая правда: окружение Хрусталёва не могло увидеть, увы, ничего противоестественного в том, что московский мальчик из хорошей семьи избежал фронта (да ещё при погибшем старшем брате).
Вернёмся от одного сериала к двум романам. Захар Прилепин назвал соловецкую жизнь (и власть) конца двадцатых «последним аккордом Серебряного века». Любопытно, что один из главных персонажей романа Солженицына «В круге первом», дипломат Иннокентий Володин, спустя двадцать лет переживает этот аккорд как откровение, при разборе бумаг покойной матери:
«И стопы, стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах: “Аполлон”, “Золотое Руно”, “Гиперборей”, “Пегас”, “Мир искусства”. Репродукции неведомых картин, скульптур (и духа их не было в Третьяковке!), театральных декораций. Стихи неведомых поэтов. (…) здесь были целые издательства, никому не известные, как провалившиеся в тартарары: “Гриф”, “Шиповник”, “Скорпион”, “Мусагет”, “Альциона”, “Сирин”, “Сполохи”, “Логос”».
(Можно представить, с каким наслаждением археолога и конквистадора, твёрдыми пальцами прищёлкивая, вставлял Солженицын эти логосы в книжку – не то в ссыльном Кок-Тереке, не то в «матрёниной» деревне Мильцево – первая редакция романа закончена в 1957 году.)
«Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами, в чёрном дождевике, вошёл по ордеру ЧеКа на обыск.
В пестроте течений, в столкновении идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц Россия десятых годов, последнего предреволюционного десятилетия, которое Иннокентия в школе и в институте приучили считать самым позорным, самым бездарным во всей истории России – таким безнадёжным, что не протяни большевики руку помощи – и Россия сама собой сгнила бы и развалилась».
И вдруг после этого сильного места – резко сбивается оптика и тональность, рассыпается преподавательским говорком:
«Да оно и было слишком говорливо, это десятилетие, отчасти слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стеблей! но какое расколосье мыслей!»
Интересно также, что главный поэт, регулярно упоминаемый в романах и Солженицына, и Прилепина, цитируемый подчас без кавычек, подобно фольклору, вызывающий неизменный настороженный интерес у «кумовьёв», – Сергей Есенин. (А кто здесь главный модернист – снова кивнем в сторону Д.Л.Быкова – вопрос открытый; там, где Глеб Нержин – солженицынское альтер-эго – в народнических традициях пытается «подсадить» на Есенина дворника Спиридона, Прилепин есенинскую подругу Галину Бениславскую делает прототипом главной героини – чекистки Галины Кучеренко, в которой женское, инфернальное и жертвенное сливается воедино. Да ещё заставляет её, как бы между прочим, пробросить в допросе: «“Афанасьев не рассказывал, встречался ли он с поэтом Сергеем Есениным накануне его самоубийства?” – спросила Галина»).
Есенин использовал в юности ситуацию русского декаданса для максимального самопиара, в поэзии его заветы одновременно перерос и архаизировал, а жизнь прожил по хмельным лекалам Серебряного века, и жизнь эта тоже может рассматриваться как своеобразный «последний аккорд». В чём, кстати, одно из объяснений постоянного присутствия поэта в ГУЛАГе. Стихи Есенина представлялись узелками на, казалось, безвозвратно разорвавшейся связи времён. «Единственный поэт, канонизированный блатным миром» (В.Шаламов) – точная констатация, но неточная маргинализация. Герои «Обители» и «Круга первого» уголовному сообществу враждебны, поэтому есть аргумент и посерьёзней: Есенин – Россия не уголовная и лагерная, а просто Россия, продолжающаяся в народном сознании как бы вне эпохи и Советской власти.
И кстати, о фольклоре. Пристрастие Солженицына к Далю общеизвестно и канонизировано, в «Круге» две поговорки можно признать сюжетообразующими лейтмотивами («Волкодав прав, а людоед – нет»; «Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой»).
У Прилепина рифмованными идиомами выражается персонаж довольно неожиданный – вечный терпила мужичок Филиппок, попавший на Соловки за убийство родной матушки. Любопытно, что его фольклорные находки менее императивны, более экзистенциальны: «Потяну лямку, пока не выроют ямку»; «дойдёт тать в цель – поведут его на рель».
Вообще, персонаж этот в романе Прилепина хоть и эпизодический, но яркий – актёр второго плана, который в какой-то момент «ушёл на первый план» (Борис Рыжий), поскольку в знаковых его обстоятельствах порой угадывается Александр Исаевич Солженицын, и вовсе не потому, что оба сыплют далевскими поговорками. (Хотя и поэтому – тоже.)
Филиппок (само имя – говорящая толстовская деталь, представляется русский мальчик в огромных валенках и с бородою) томится в Соловецком лагере, повторю, за убийство собственной матери. Солженицын, как многие аргументированно полагают, стал едва ли не главным убийцей Советской власти, шире – СССР и Революции. (Вспомним: Александр Исаевич планировал начать литературную карьеру с эпопеи «Люби революцию!»; замысел позднее трансформировался в циклопическое «Красное колесо».)
Отмечу, что есть в романе библейский мотив взаимодействия-противопоставления двух убийц: Филиппка, убившего мать, – отцеубийце Артёму, в котором, как я писал выше, угадываются мальчики Достоевского и молодые люди России, современной Прилепину. «“Юродивый” – подумал Артём раздражённо». «Артём непроизвольно сторонился мужичка. От слов его, будто бы помазанных лампадным маслом, воротило».
Пронзительные страницы «Обители» – о каторжных мытарствах Филиппка «на баланах»:
«Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артём с Афанасьевым, они ещё кое-как, чертыхаясь и семеня, помогли оттащить подальше от воды, а следующий балан мужичок выронил, Ксива заорал на него – тот сразу, как-то по-детски, заплакал:
– Я работал в конторе! – всхлипывал он. – С бумагами! А меня который месяц принуждают надрывать внутренности! Сил во мне не стало уже!»
«ГУЛАГовские» книги Солженицына – «Иван Денисович», «В круге первом», непосредственно «Архипелаг» – это палимпсест, сквозь который проглядывает личный лагерный опыт Александра Исаевича. Со всеми оправданными фобиями и комплексами. Одна из главных – боязнь общих работ.
В романе о шарашке ключевой выбор героя – продолжать воплощать бериевские опасные для цивилизованого мира техзадания, или быть списанным в морозные стихии ГУЛАГа – на изнурительный труд от забора до обеда и возможную погибель. Выбор, как бы автор его ни аргументировал, выглядит довольно надуманным – и дело не в стратегии «выживания любой ценой». Просто картина пронизывающего общество цинизма (и сообщества зэков в первую очередь – другое дело, что цинизм – их спасительное оружие) плохо – на литературном прежде всего уровне – монтируется с подвигом бессмысленной жертвенности.
Ещё одно из штрихпунктирных появлений Филиппка – в лазарете у доктора Али, в инвалидном состоянии, может быть прочитано как аллюзия на «Раковый корпус», из которого Александр Исаевич и не чаял выбраться…
Таким образом, Захар Прилепин включил своеобразную обратную перемотку судьбы классика XX века – больница – лагерь – миссия убийства матери-Революции.
Ещё одно лежащее на поверхности созвучие – в прототипах. Практически каждый заметный персонаж романа Солженицына о шарашке писался с конкретного человека – тут и тройка друзей-антагонистов Глеб Нержин (Александр Солженицын), Лев Рубин (Лев Копелев), Дмитрий Сологдин (Дмитрий Панин), и тюремное начальство, вставленное в книжку практически под собственными именами. Особо хотелось бы отметить писателя Константина Симонова, который в романе назван Николаем Галаховым и, между рефлексиями о застое в советской литературе послевоенного периода, выпив, подпевает собственному произведению – знаменитой песне фронтовых корреспондентов. «С лейкой и блокнотом».
Солженицын и здесь открывает важную традицию: прописывания Симонова в литературных персонажах; с тех пор Константину Михайловичу повезло, как никому другому из крупных советских авторов, сделаться регулярным литературным героем.
Повторюсь: я даже не о мемуарах, где Симонова множество, а именно о романах.
Два из них точно стали классикой – «В круге первом» и «Место» Фридриха Горенштейна, где он угадывается в образе Журналиста, когда-то любимца Сталина.
Есть ещё «Московская сага» и поздние романы Василия Аксёнова, где Симонов неизбывен, как радио.
Прилепинскую «Обитель» аналогично разбирают на прототипы – некоторых я уже упоминал, а вот свежее открытие: ведущий актёр соловецких театров, важная фигура одного из сюжетных поворотов романа – Шлабуковский, явно написан с Бориса Глубоковского. Артиста в западном смысле, когда говорят не о профессии, а о статусе – он был актёром, художником, беллетристом и драматургом, близким в начале двадцатых имажинистам. Арестован в ноябре 1924 года (по делу «Ордена русских фашистов» – был якобы министром иностранных дел в теневом кабинете организации). По тому же делу был в марте 1925-го расстрелян другой есенинский приятель – Алексей Ганин, Глубоковский же приговорен к десяти годам Соловецкого лагеря особого назначения.
Из дневников Галины Кучеренко:
«Вызывала Шлабуковского, который шёл по делу “Ордена русских фашистов”.
Шлабуковский хорошо знал Есенина, знает всю эту среду. Расспрашивала его целый час о Есенине и Мариенгофе. Он никак не мог понять мой интерес, но осторожно рассказывал, потом даже вдохновенно, расслабился».
А вот в несколько ином роде малоизвестный мемуар:
«Ночь, в кафе пьяная публика, и Сергей [Есенин], с разодранной рубашкой, кричит что-то несуразное, пьяное, больное; Глубоковский, замахнувшийся стулом, тоже пьяный, под кокаином, а перед Сергеем бросившийся на колени, протягивающий какую-то икону и вопиющий: “Серёженька, во имя Бога!..” – Клюев. Нет, не хочу вспоминать… Только пьяный угар и невменяемость могли довести до такого состояния этого хорошего, милого кудрявого поэта».[17]
Глубоковский в журнале «Соловецкие острова», в 1930 году, когда Есенин и на воле полузапрещён, опубликовал статью «Сергей Есенин: Спорады».
Освободился в 1932 году, досрочно, и – внимание – вернулся в Москву и вновь поступил в Камерный театр (!).
Все предыдущие совпадения были о времени, теперь – о пространстве.
СЛОН, как известно, размещался на территории главного, наверное, русского монастыря (и обыгрывание духовной географии – важный лейтмотив романа Прилепина, иногда сближения странны и ностальгичны для совершенно других поколений. Слон, выложенный из белых камней, засаженный редкими сортами роз, – это родной нашему поколению пионерлагерь. Отрядная презентация, из разноцветных песков и камушков, – вот откуда, получается, корни этих дизайнерских решений).
Марфинская шарашка располагается в здании бывшей духовной семинарии. Но, собственно, на этом пространственные параллели обрываются. Ибо роман «Обитель» – органически противоположен тюремно-лагерному замкнутому пространству с его сжимающими стенами, впивающимися углами и постылыми запахами – смесь пищеблока, беды, хлорки, параши и страхов. Тюремное амбре удивительно постоянно в России, и проницаемость его тотальна, почти радиоактивна.
«Обитель» же – роман распахнутый: много моря, вообще воды, крови, которая рифмуется цветом с соловецкими ягодами и льётся как вода. Много холода и огнестрельного огня, Севера как особой стихии, много разноцветного света, он гуляет по лицам, островам и лесам архипелага, стоит столбами, которые плавают и ломаются друг о друга. Чаек, их разрывающих криков; и даже пёс Блэк и олень Мишка, в отличие от морских свинок, кроликов, лис, – последних опекает бригадир Крапин – живность вовсе не тюремная, но прирученные курьеры стихий.
Есть ощущение, будто действие романа происходит не совсем на земле, а как бы на большом облаке, и облако это напоминает – как у Антона Чехова, который, по точному замечанию Сергея Боровикова, «любил сравнивать облака» – то монаха, то рыбу, то турка в чалме, то триумфальную арку. А подчас – льва и рояль одновременно.
А вот «В круге первом» – роман интерьерный, книга замкнутого пространства, не только тюремного. «Комната была невелика, невысока. В ней было две двери, а окно если и было, то намертво зашторено сейчас, слито со стеною. Однако воздух стоял свежий, приятный (особое лицо отвечало за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его). Много места занимала низкая оттоманка с цветастыми подушками» – так открывается роман в романе, роман-памфлет о Сталине, но вообще внимание к интерьерам повсеместно – кабинет министра Абакумова (с акцентом на портреты и размеры их), квартира прокурора Макарыгина (паркет, когда-то уложенный зэками, диван, и даже cigar room – «табачный алтарь»). Подробно описаны закутки и нычки шарашки, а споры заключённых в алтарной комнате, превращённой в арестантский кубрик, – открывать ли окно «на Эренбурга» (ширина книги) – это уже чистый дизайнерский глянец, предвосхищённый лет за сорок до его появления в России.
Именно в пространственных категориях, при всех зафиксированных нами прочих сходствах, самое принципиальное различие двух романов – как если сравнивать современную Москву с вневременной российской провинцией. Даже без учёта сегодняшней ситуации неоколониализма – когда метрополия относительно периферии воспроизводит колониальную модель, увы, не для чужого и далёкого, но собственного народа.
Провинциал Солженицын, сделавший в равной мере тюремный, но и сугубо московский роман – очередные парадокс и загадка Александра Исаевича. Впрочем, дантов «круг первый» уместно толковать и расширительно – если вышки и колючку тюремных стен перенести на границы Москвы. Равно как название «Обитель» Прилепин явно не собирался ограничить географическими Соловками.
Надо сказать, размышляй современная литературная критика не объёмами и жанрами (давно утратившими всякую определённость), и вообще немного вольнее, – аналогию «Обители», куда более точную, скорее нашли бы в «Иване Денисовиче». Этой – так уж сложилось – Библии отечественной лагерной прозы. Но ведь и впрямь эта маленькая повесть – одна из вариаций русской книги Иова.
Не случайно даже далёкие от богословия авторы размышляют о ней с применением священной символики и тональности: «“Иван Денисович” – книга без аналогов. Книга-мститель, книга-терминатор. Другой такой в истории человечества нет. Советские чудовища, сами вожди, их идеологи, их воспеватели, блудящие словом, не заметили, как вся убойная сила русского слова утекла от них к другому, ими выращенному чудовищу – или, скорее, чудищу. Драконы выращивают героев своими собственными когтистыми лапами! И я думаю, с этой книги Солженицын перешёл под непосредственное покровительство Михаила Архистратига, Господнего полководца…»[18]
И мощная библейская составляющая текстов – вовсе не странное сближение «Одного дня» с «Обителью»…
Есть и другие. Очевидное сходство в описаниях лагерного, именно «барачного» быта. Пошагово и чуть ли не любовно дан производственный процесс. Бьются и пресловутые пространственные замеры: заснеженные лютые поля, маленькие люди-муравьи; а сам возводимый в голых степях производственный корпус неясного назначения – не есть ли метафора монастырского строительства?
Иван Шухов, как и Артём Горяинов, окружен людьми с одной стороны – понятными (бригадир Тюрин, замбригадира Павло, Гопчик, Фетюков, были бы понятны «бандеровцы», но их вымарал Твардовский, зато остались братья-эстонцы и жила-латыш с табаком, понятен Шухову даже баптист Алёшка, тут, кстати, повторюсь, мощная параллель «Одного дня» и «Обители» в христианской проповеди, которая, будучи отторгаемой героем на внешнем уровне, на внутреннем побуждает его ко многим поступкам и юродствам). С другой стороны, публикой не слишком понятной – это интеллигенты, которые спорят, бывает, о каких-то абсурдно-далёких от каторги вещах – вроде эйзенштейновской коляски и пляске в личинах. Киношник Цезарь Маркович, кавторанг Буйновский, фельдшер-писатель Коля из санчасти…
Вот этот приём (в манере шкловского «остранения»), когда автор глазами среднего человека эпохи смотрит на её рулевых, демонов и орфеев, – очень роднит «Ивана Денисовича» с «Обителью». Как и общий генезис – советская литература двадцатых годов, с её запуском революционного логоса в русский космос.
Александр Твардовский, подписывая к публикации в новомирском номере (январском, 1963 года) «Матрёнин двор», говорил: «Вот теперь пусть судят. Там – тема. Здесь – литература».
«Там» – имелся в виду «Один день Ивана Денисовича», а тема была, понятно, лагерной.
На самом деле чуть ли не наоборот: «Иван Денисович» гораздо совершенней в литературном смысле, в нём ощущается близкое знакомство со школами и штудиями десятых – двадцатых годов, сказовой манерой («Толь-то проахал, дядя»), упомянутым «остранением» и даже ритмической прозой. Тогда как «Матрёнин двор» восходит к скучным урокам литературных передвижников конца XIX века, в диапазоне от Глеба Успенского до Владимира Короленко.
Твардовский, впрочем, угадал главное – свой эстетический идеал Солженицын нашёл в народнических публицистах с их лубочным реализмом, а никак не в революционных двадцатых. Собственно, далеко не случайна атака, предпринятая им в «Телёнке» против «Нового мира». Это был не один перечень «взаимных болей, бед и обид», а конфликт сугубо идеологический и стилистический, принявший странную форму, которая спустя годы кажется и вовсе шизофренической. Эдакий авторестлинг – если «Иван Денисович» залезет на «Матрёнин двор», кто кого сборет?
В своё время Виктория Шохина попросила меня ответить на вопросы для анкеты к ежегодным «Лакшинским чтениям». Я ответил, и некоторые соображения мне кажутся принципиальными в контексте данной главы.
Вопрос: «В 1975 году В.Лакшин в статье "Солженицын, Твардовский и «Новый мир»" вступил в спор с Солженицыным, который в книге "Бодался телёнок с дубом" описал "Новый мир" в неприглядных красках. Как Вам кажется, на чьей стороне была правда?»
Работа Лакшина «Солженицын, Твардовский и "Новый мир"» продолжает, на мой взгляд, оставаться актуальной и наглядной. Сегодня, может быть, даже принципиальнее те высокие человеческие и корпоративные («добрые нравы литературы» – Ахматова) смыслы, которыми наполнил Владимир Яковлевич свой ответ Солженицыну.
Правда, на мой взгляд, была за Лакшиным. Тогда и сегодня. Не только нравственная. Историческая и мировоззренческая тоже.
Владимир Яковлевич тогда сделал точное наблюдение: может быть, в большей степени Солженицын нападал на «Новый мир» не по личным, но идейным соображениям. Свою окончательно сформировавшуюся к концу шестидесятых ненависть к советской идеологии он проецировал на «новомирцев» – людей, по Лакшину, социалистических и демократических убеждений. Сторонников социализма с «человеческим нутром, а не только лицом».
По сути, власть, убрав с общественной сцены «Новый мир» Твардовского-Лакшина, уничтожила именно социалистическую альтернативу развития СССР, проскочила последнюю перед его запрограммированным крахом развилку, Александр же Исаевич, мысливший шире и глубже «вождей», в «Телёнке» подписал левой перспективе общегрупповой, цивилизаторский приговор. Явно намеренно и продуманно.
Бессмысленно сегодня гадать, по какому пути пошли бы тогдашнее общественное мнение, страна, литература, сохранись в том или ином виде «Новый мир» шестидесятых – очевидный прообраз политической партии. Ясно, однако, другое – солженицынское влияние на разрушительные процессы конца восьмидесятых – начала девяностых было очень значительно, и тут сбылись все прогнозы Лакшина – о звериной ненависти АИСа к советскому проекту, невнятности и фрагментарности его позитивной программы, опасных авторитарных тенденциях.
«Чего он хочет для России, чего ждёт от неё? Не знаю, не пойму. Судя по идиллическим его понятиям о нашем дореволюционном прошлом, ему кажется, что у России одно будущее – её прошедшее. Достаточно перечитать “Письмо вождям”: он не против самой крепкой и крутой централизованной власти, и даже самодержавность и великодержавность имеет для него в себе нечто привлекательное. “Вождям” надо было бы лишь послушаться доброго совета и расстаться со своей пагубной идеологией – всё стало бы на место. Да если б ещё вернуться к православию на национальной основе…»
Лакшин пишет об «Архипелаге ГУЛАГ»: «…пока история не найдёт более объективных летописцев и не произнесёт собственного суда над прошлым, пристрастный суд Солженицына останется в силе».
Что ж, объективные летописцы находятся – надо полагать, их будет всё больше, и уже самые преданные поклонники Александра Исаевича путаются в дефинициях и оговорках, призывая перестать воспринимать «Архипелаг» в качестве «обвинительного акта, прокурорской речи» (Лакшин).
А суд истории разыгрывается, как и положено, в фарсовом отчасти виде.
Вспомним недавнюю историю многодетной дамы из Вязьмы, стуканувшей в украинское посольство о передвижениях наших войск. В романе «В круге первом» аналогичные действия предпринимает, после цикла рефлексий, дипломат Иннокентий Володин, пытаясь предупредить американского военного атташе о том, что бериевские лазутчики вот-вот унесут из-под носов янки атомную бомбу. И тоже оказывается в Лефортово.
Отклонения от сюжета внесли сама жизнь, история, Россия, тендер… Не карьерный дипломат, член ВКП(б), а беременная на тот момент домохозяйка и член КПРФ, взяли не двух, а одну, не секретная ведомственная информация, а подслушанный в маршрутке разговор и наблюдения за передвижениями войск «из моего окна»…
Когда была премьера сериала «В круге первом» Глеба Панфилова с Евгением Мироновым в роли солженицынского альтер-эго Нержина, после финальной серии устроили дискуссию – проклятый предатель, мол, Иннокентий или право имел?
И, в общем, склонялись к праву, если у тебя страна-агрессор, а лидер – Сталин…
За освобождение Светланы Давыдовой привычно шумели либералы и правозащитники, а вот никто из статусных адептов Александра Исаевича голоса не подал.
Сюжет, если вдуматься, знаковый. Мог бы украсить книгу-дневник Захара Прилепина «Не чужая смута».
Закольцевать же рассуждения о двух писателях хочется даже не лагерной темой и не левой идеей, но премиальными делами, то есть откуда начали – с переживаний Анны Наринской относительно награждения «Обители» премией «Большая книга».
Как известно, «Один день Ивана Денисовича» Ленинской премии не получил.
А вот Сталинскую – при определённом стечении обстоятельств, сдвиге на волосок стыка эпох, некоторых личностных векторов и пр. – вполне мог бы взять.
Конечно, не первой степени, увы.
Наверняка второй. Как фронтовой офицер Виктор Некрасов («В окопах Сталинграда»), бывший зэк и гвардии инженер-майор в великую войну Анатолий Рыбаков («Водители», «Екатерина Воронина»); административно-ссыльный Николай Эрдман, автор «Самоубийцы» и сталинский лауреат за сценарий к фильму «Смелые люди».
Я нарочно, разумеется, назвал трёх знаковых, подлинной литературной величины, лауреатов. Всё же сценарии, когда Солженицын получает за «Ивана Денисовича» Ленинскую, затем печатает в «Новом мире» романы «Корпуса» и «Круга» и, ненатужно-лояльным, становится вровень с литературными генералами позднесоветского времени, кажутся мне слишком опереточными. Оскорбительными даже не по отношению к общественному темпераменту Александра Исаевича и его литературному дару, а к самому масштабу фигуры.
Что до умозрительности предположения о Сталинской премии «Ивану Денисовичу» – приведу запись Захара Прилепина о Леониде Леонове из «Не чужой смуты»:
«Вот Леонид Максимович Леонов, по которому в 1940 году ехал чудовищный критический каток прессы, так как его первая в истории русской литературы пьеса о репрессиях (!!!) “Метель” была признана решением ЦК (!!!) “идейно порочной”, а её даже успели поставить в несколько театрах.
(Прогрессивные люди наверняка не знают таких удивительных фактов, они ведь уверены, что впервые о репрессиях было сказано если не в журнале “Огонёк” в 1987 году, то как минимум в романе “Дети Арбата”. Нет, повторяю, тема была поднята в 1940 году. “Хитроумным”, как написала критик Наталья Иванова, Леоновым. Ну да, вот такой вот ушлый он был. Ему бы у шестидесятников поучиться смелости необычайной.)
В 1940 году разнос на уровне ЦК вполне ещё мог грозить внезапным ночным исчезновением, а не только “шабашом вокруг моего имени”.
Леонов – бывший, между прочим, белогвардеец – решил написать Сталину. И написал примерно так: "Театры понадеялись на моё литературное имя, прошу взыскать с меня одного". О как. Хоть в бронзе выбивай.
…Потом началась Отечественная война, Леонов за пьесу "Нашествие" (там, кстати, главный герой возвращается в дом из… лагерей, чтоб идти на войну за свою Советскую страну) – получил Сталинскую премию».
Обыватель и 37-й
АК: Захар, а ты как, извини за дурацкий вопрос, к Довлатову относишься?
ЗП: А чего дурацкого, хороший писатель. Мне, помню, твоя большая статья о нём понравилась.[19] Равный себе вполне и своей биографии. Есть у него один меня раздражающий момент, когда главный герой – журналист, и вокруг этого всё так вяло и пошловато крутится… А фанаты его и полагают эту пошлость из редакционного бара самой главной жизнью.
АК: Ну да, во многом от него пошла эта жирная линия современного производственного романа, про журналистов, или вот сейчас – про пиарщиков больше, политехнологов… Относительно свежий пример – роман «Чёрная обезьяна».
ЗП: Как говорит твой Высоцкий – «так было надо». Или, как Клуни в «От заката до рассвета» – «Я же не сказал: берите пример с меня».
АК Мне кажется, тут у тебя глубже, другим отношение продиктовано. Довлатовская повесть «Компромисс», где рассказчик как раз журналист, служит в эстонской версии «Правды», она же самая у него антисоветская, местами не по темпераменту и возможностям Сергея Донатыча – злобная…
ЗП: А я эту вещь плохо помню – ну, какой-то парень придумал интервью за иностранца, похоронили не того начальника – таких баек в каждой редакции по два ведра.
АК: Сейчас я буду тебя троллить. У прозаика Прилепина прозаик Довлатов звучит иногда. Вот в «Пацанском рассказе»: «Братик пришёл из тюрьмы и взялся за ум. "Мама, – говорит, – я взялся за ум. Дай пять тысяч рублей"». А у Довлатова персонаж регулярно пристаёт к родственнику: «Дядя, окажите материальное содействие в качестве трёх рублей. Иначе пойду неверной дорогой…» Интонация! Или вот в «Обители», когда десятник Сорокин свирепо лечит Филиппка дрыном, а тот вопит: «Не убей меня!», и Артёма удивляет кривая эта фраза. А в «Зоне» эпизод, когда казнят стукача, и он кричит: «За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть, ни за что» – та же кривизна отчаяния… Ну, и по мелочи: Шафербеков отправил куски жены посылкой, а Довлатов в той же «Зоне» говорит, что дружил с человеком, засолившим в бочке жену и детей… Но это я совершенно не в упрёк тебе говорю – мне как раз такие пересечения нравятся, «Обитель» как бы вбирает всех классиков «про тюрьму» – там и Солженицын, и Шаламов, и Довлатов. Я просто отчего о нём заговорил – днями общался с ребятами, которых ты называешь «прогрессивными человеками» и ещё по-всякому, опять нудный русский спор о репрессиях, палачах и жертвах. Опять о необходимости вселенского покаяния – очередной всплеск мазохизма. Но теперь, что интересно, сместились акценты – главная мразь уже не Сталин и его каты, а самый что ни на есть обыватель. Который в сталинские годы якобы написал, сволочь такая, четыре миллиона доносов, одобрял расправы, и сейчас, начнись они, тоже ещё как одобрит.
ЗП: А это как раз понятно, сегодня их главная эмоция – досада, да что там – ненависть к большинству. Социал-дарвинизм перешёл в какую-то новую стадию лютости к народу. Кто-то ещё скрывает её, кто-то уже нет… Ты не помнишь, на одном из московских шествий некий тип нёс плакатик с примерно таким текстом: «Главная беда России – 85 %!». Понимай как знаешь. И многие так понимают, что 85 процентов – это как раз русские, бьётся со статистикой по национальному составу.
АК И как раз эту цифру – в четыре миллиона доносов – дают с отсылом к Довлатову. Он, в свою очередь, ссылался на закрытый доклад Хрущёва на XX съезде, о культе личности, – но проверить недолго, и я там этих четырёх миллионов не нашёл. Да и не мог сказать Хрущёв ничего подобного – партийная стилистика не позволяла.
ЗП: Да пусть! Пусть будут четыре миллиона довлатовских доносов. Это, наверное, адекватная цифра, и европейским людям нравится. Но смотрим: население СССР перед войной, на январь 41-го, было, насколько я помню, почти 200 миллионов. То есть – если верить даже легендарной цифре в четыре миллиона – это сколько по выборке? Восемь процентов граждан, каким-то образом активничавших в терроре. А вот крупные мировые умы полагают, что право нации иметь своих негодяев и мерзавцев ограничивается десятью-двенадцатью процентами. В мирное время. А в стране случилась революция, две гражданских войны (одна из них – «великий перелом»), оставалась масса классовых противоречий, взаимного ожесточения и так далее. Так вот, не свидетельство ли эти четыре миллиона душевного здоровья народа, качества его? Нет?
АК: Слушай, сильно. А потом, зря они себя радикально от «обывателя» отрывают. Вот у нас, однажды в Саратове, осудили чиновника. Известного. С бэкграундом. Фольклорного такого типа. По беспределу и явному заказу. Фактура жиденькая у обвинения. Причём оно просит условно, а судья даёт реальный срок! Реакция либеральной журналистики – так ему и надо, пусть не за конкретно этот случай, так за всю жизнь его подлую, единоросскую. И только я и мои левые товарищи говорили о заказе, беспределе и необходимости милосердия. Но я не осуждаю… Они тут ведут себя как нормальные обыватели. А может, и большие. Он далеко не ангел, этот дядя. Но главный вопрос – а есть отличие беспредела в отношении «неангела» от беспредела в отношении «ангела»? Это ж главный либеральный постулат: нет отличий.
ЗП: Я давно пытаюсь от этой публики добиться оценки ельцинского дрянного времени (да и нулевых гнилых, чего там), хотя бы объективной. В ответ получаю нездоровые шумы. Все помнят разборки девяностых? Кровь, пальба, трупный конвейер. Сколько пассионарных ребят тогда полегло в своей единственной гражданской? Не знаю, существуют ли точные цифры, социологии по этому поводу наверняка нет. Но есть целые посёлки братковских захоронений на всех кладбищах всех городов России. Я и на сельских погостах видел. О таких некрополях писал Лимонов, его американская подруга, профессорша Ольга Матич, исследует эту особую эстетику. Думаю, в любом случае потянет на полмиллиона (а может, и куда больше), сопоставимых с расстрелянными в 1936–1938 гг. (Я, заметь, не говорю о стариках, которым реформы сократили жизнь на десяток лет минимум, о беспризорщине массовой, там тоже мало кто выжил, о сколовшихся парнях и девках не упоминаю.) Пусть будут только братки. Так что про них говорил и говорит нормальный обыватель? «Их война, их выбор, знали, что делят, куда идут, почему гибнут» и прочее, прочее. Да более того, и наши продвинутые, продолжающие жаждать «покаяния» от давно мёртвого, войну на своих плечах вынесшего советского обывателя, думают примерно так же, чего там.
АК: А ведь этот самый советский обыватель тридцатых потерял в кровавую кашу (две гражданских, как ты говоришь), где активно поучаствовали жертвы чисток условного 37-го, родственников, какой-то кусок земли, связанной с родовой памятью, Бога… Многое и приобрёл, но плохое нагляднее, воспринималось как вмешательство внешней злой силы. А потом, нравы бюрократии мало чем отличались, и обыватель традиционно ненавидит начальство, ворующее и жирующее. На пропаганду про «бешеных собак» народ, думаю, вёлся, как обычно, лишь отчасти, в остальном доверял своему мироощущению.
ЗП: Я сначала думал, что они, как люди умные-образованные, просто не желают неприятной правды и потому топчутся вокруг неправды, им чем-то приятной, ещё и дополнительно всё это новыми слоями полиэтиленовыми мифологизируя. Но в один момент понял: просто не могут мыслить в исторических категориях, да и в любых других объективных. Попытка объективно взглянуть на трудную историю, советскую в том числе, – она ведь не означает отрицания репрессий. Но с другой стороны, почему мы – дворняги, как говорил одни мой персонаж (конкретно ты, я, Бледный, Рич, Илюха), – должны жениться на чужих грехах? Призыв к новой волне национального садомазохизма и размазывания зелёных соплей по глянцу под одобрительными ухмылками мира (который сам ни на какое покаяние не спешит) – в чём тут продуктивность и прогресс? И, млять, правильно ты сказал – начни они сейчас сеанс покаяния, прилетит им в лоб таким бумерангом – мало не покажется…
АК: Да, такой выдающийся эксперт, как Павел Судоплатов, гроссмейстер разведки и контрразведки, об этом предупреждал в 1996 году. Я поищу это место.
P.S. «…Особо критически настроены по отношению к "страшной фигуре Судоплатова" почему-то именно те, кто те или иным образом обязан своей карьерой былым, достаточно тесным связям с советскими спецслужбами, – я имею в виду таких, как В.Надеин из “Известий” (активно “разрабатывавший” академика А.Д.Сахарова, как говорил мне заместитель начальника 5-го управления генерал-майор КГБ В.П.Шадрин), Н. Геворкян из “Московских новостей”, комментаторы из “Эха Москвы”. Остаётся только недоумевать, почему именно они так яростно осуждают мою персону. Я абсолютно искренен: ведь их родители – сотрудники советской разведки в Иране, Литве и во Франции – неоднократно в тридцатых – сороковых годах принимали участие в похищениях и ликвидации людей, неугодных советскому руководству».
Кому вы доверили писать о Соловках? «Антиприлепин» как идеология
У вышеупомянутого Владимира Лакшина – в бытность его культовым критиком «новомирских» шестидесятых – была статья «Иван Денисович, его друзья и недруги».
Год выхода романа «Обитель» – 2014-й – совпал с полувековым юбилеем лакшинской работы – она появилась в январском номере «Нового мира» за 1964 год и, апологетическая в отношении Александра Солженицына, стала ключевым звеном в полемике вокруг знаменитой повести.
Роман Захара Прилепина в несколько месяцев получил сопоставимое с «Иваном Денисовичем» количество и качество критических откликов.
Читательский интерес – столь же сопоставимый, с поправкой на обратную эволюцию «самой читающей» и актуальность историко-политического контекста. Публикация «Ивана Денисовича» попала в больной и живой нерв, «Обитель» подводит своеобразный итог русского XX века, который начался в 1914 году и, по определению, воспринимается, через поколения, на другом градусе эмоций. Однако у Прилепина есть то, чего не было у Солженицына, – социальные сети: «Обитель» блогеры рецензируют увлечённо и щедро, находя смыслы, упущенные профессиональными рецензентами.
Впрочем, у меня сейчас другая тема. Отталкиваясь от названия статьи Лакшина, я хотел бы посвятить настоящую главу «недругам» «Обители».
Необходимая оговорка: как правило, сегодняшние «недруги» – они не у романа «Обитель»; это – оппоненты самого писателя Захара Прилепина. Претензии к роману лишь камуфлируют неприязнь к автору.
Рецензия «Я учу вас о сверхчеловеке…» Яны Жемойтелите.[20] Критикесса атакует главного героя «Обители» – Артёма Горяинова («Да что ты за чмо такое, дорогой товарищ!» – пикантно звучит казарменная масть, продолженная партийным обращением, в устах филологини и «молодой писательницы Карелии»). Рецензент настаивает на ничтожестве Артёма, дабы эффектнее и злее сравнить с глыбой, матёрым сверхчеловечищем, «русским Леонардо», отцом Павлом Флоренским.
Волюнтаризм сравнения, и без того не шибко корректного, многократно усиливается тем, что г-жа Жемойтелите в обоих случаях слабовато знает предмет. Слышала соловецкий звон… «Но кто же такой Артём Горяинов? – искренне недоумевает она. – Чем занимался? Кого любил – в той, досюльней (э-э… кто бы ещё разъяснил читателю этот сюсюкающий эпитет. – А.К.), жизни? Что читал, что умел делать? Может быть, автор считает всё это неважным? Потому что в лагере прежний багаж абсолютно ничего не значит? Но разве могут внешние обстоятельства полностью стереть личность? Или же Захар Прилепин намеренно выбрал героем повествования человека, в сущности, невеликого?»
Артёму – 27 лет, то есть он – 1902 г.р. Москвич, дед его был купцом третьей гильдии. Трактиры и переулки Зарядья Артём видит и в соловецких снах; кстати, он земляк и почти ровесник другого прилепинского персонажа – классика русской литературы Леонида Леонова. По возрасту мог бы повоевать в Гражданскую, но не успел – формально «год не вышел». Гимназист, подростком, эпизодически, как и многие, занимался спортом: и боксёрские навыки не раз выручают его в лагере. Аналогично – опыт работы в артели грузчиков.
На негодующий вопрос Яны Жемойтелите о том, где, дескать, Серебряный век, а кто Артём Горяинов, можно ответить и повторить, что герой постоянно про себя цитирует знаковых для Серебряного века поэтов: Иннокентия Анненского, Валерия Брюсова, Фёдора Сологуба, Анну Ахматову (правда, строчки их мастерски зашифрованы Прилепиным, оцените, Яна: «Артём выждал ещё какое-то время, пытаясь читать про себя стихи, – но всякое бросал на пути, не добравшись после первых строк: ни до палача с палачихой, ни до чёрта, хрипящего у качелей, ни до кроличьих глаз, ни до балующего под лесами любопытного…»). То же самое с Багрицким, а есенинскими образами Артём просто мыслит. «В цилиндре и лакированных башмаках». В монастырской темнице вспоминает стихи Константинов – Бальмонта и даже Случевского.
Всё это есть непосредственно в тексте, кроме того, штрихпунктирно разбросаны воспоминания о долагерной весёлой жизни, сведения об отце и матери, так что читатель может и самостоятельно достроить биографию героя, сделать приквел. Только ведь не у каждого такая нужда, как и необходимость притянуть к рядовому соловецкому зэку о. Павла Флоренского. За рясу.
Яна Жемойтелите и сама понимает, что в огороде, пожалуй, бузина: «Попал он (о. Павел Флоренский. – А.К.) на Соловки чуть позже Артёма Горяинова, в начале тридцатых».
Но позвольте – время было такое, что каждую дату надо оговаривать, ибо соловецкая география не работает без истории. Артём летом 1930-го убит, отец же Павел этапирован на Соловки 1 сентября 1934 года – в совершенно другую историческую эпоху, после «съезда победителей» и на фоне мощного стартапа ГУЛАГа. Когда уже невозможно предложение покинуть СССР официально. Железный занавес захлопнулся – реальны только лазейки в виде побегов (братья Солоневичи – в «Обители» обобщённые в образе организатора лагерной Спартакиады Бориса Лукьяновича; чекистские бонзы Александр Орлов-Фельдман, Генрих Люшков) или невозвращений, вроде того, что предлагалось Бухарину в 1936 году, но Николай Иванович, съездив в Париж, возможностью не воспользовался.
Отцу Павлу Флоренскому действительно предлагался вариант с эмиграцией в Прагу, по линии Екатерины Пешковой, но не в 1934-м на Соловках (по версии Яны Жемойтелите), а после первой ссылки 1928 года в Нижний Новгород. Павел Александрович предпочел остаться в России.
Далее Яна сообщает: «…через Соловки прошли и Алексей Лосев, и Дмитрий Лихачёв, который во время отбывания наказания опубликовал в местной газете первую научную работу “Картёжные игры уголовников”».
Но Алексей Фёдорович, арестованный в 1930 году, отбывал вовсе не на Соловках, а в Белбалтлаге (знаменитый «Беломорканал»; строго говоря, и Павел Флоренский числился уже за Беломоро-Балтийским лагерем, ибо СЛОН был расформирован в 1933 году), и вышел на свободу через два года по ходатайству той же Екатерины Павловны Пешковой.
Что же до Дмитрия Сергеевича – критикесса слишком категорична, да и роман читала по диагонали (смешивает в одну кучу работы Артёма и соловецкую живность, разбросанную по разным лагпунктам); писатель Василий Авченко сразу опознал Лихачёва в одном из обаятельнейших персонажей «Обители» – питерском студенте Мите Щелкачове.