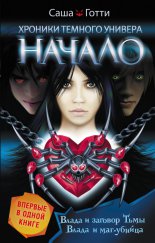Крест командора Александрова Наталья

После принятых приветствий и заверений в преданности князь писал: «Сиятельнейший граф, милостивый государь мой, по вашему запросу сообщаю, что в газете местной “Evening post” еще в 1732 году была помещена статья с неслыханными выпадами супротив державы нашей. Попытки мои узнать автора статьи оказались тогда безуспешными. Когда же обратился я к Роберту Уолполу, здешнему премьер-министру, коий правит Англией полновластно, ибо Георг II, будучи герцогом Ганноверским, бывает в Лондоне от случая к случаю, сей Уолпол ответил мне, что народ наш волен и нравом своим убеждается более о том говорить, что говорить запрещено. Что вольность здешнего народа так далеко простирается, что против своего собственного государя безо всякой опасности повседневно печатают. И подлинно англичане свободное печатание почитают за фундамент своей вольности, а потому никакого акту парламентского до сих пор сочинить было не можно противу издателей сатир и памфлетов. И приводит это к ещё большим бедам. В ноябре 1735 году появилась здесь книжка, в осмешку печатная в Париже на французском языке под титулом “Московитские письма”, о которой нужно мне показалося вашему сиятельству покорно донести, понеже насколько я не видел изданных до сих пор сатир, сия с крайней безстыдностью и предерзостию порекает двор, министров и весь народ российский, одну высочайшую Ея Императорского Величества и принцев крови особ выключая. С сожалением извещаю, что авторово имя снова утаено. Но только довольно обстоятельств в книге находится, которые в Санкт-Петербурге будучи известны, позволят легко его дознаться. Оный иностранец называет себя итальянцем под подложным именем Рокафорт. Приехал он в Санкт-Петербург в 1733 годе, где знаком был графу Савве Владиславовичу Рагузинскому, купцу Мариоти и профессору Делилю при Санкт-Петербургской академии, у которого и в доме жил. При отправлении профессоров в Камчатку в экспедицию, он с ними ехал до Казани, где от губернатора, яко спион французский, заарестован и прислан в Санкт-Петербург, где довольно держался…»
Остерман прищёлкнул языком от удовольствия: Кантемир попал в самую точку. Именно про этого клеветника, порочащего имена высших особ империи и в первую очередь самого герцога Бирона, тот и хотел получить известие.
Он снова углубился в чтение. Далее просил Кантемир совета, каким образом он должен поступать для опровержения сей опасной книги, которой издатель в приложенном предисловии грозит, если будет какая на него жалоба, то намерен он печатать особливую недельную газету, в которой всю желчь испустить имеет. Предлагал Кантемир через французского посла Шевиньи при лондонском дворе принести на сего издателя нужные жалобы кардиналу де Флери, а самого автора, коего истинное имя предположительно Локателли, через тайно посланных людей побить. «Нет недостатка в доказательствах, что все его сведения и рассуждения сплошная ложь в сочетании с клеветой. По отношению к нему не только право, но и долг каждого честного человека такого дурака просто отдубасить, чтобы дурак ответил за свою дурость! А нужно буде, готов Кантемир тут же прислать его портрет. Памфлетист сей – человек ростом не велик, лет около пятидесяти, ни сух, ни жирен, смугл собою, большой нос, черные глаза и широкие брови, и здесь продает разные медицинские секреты…»
– Ну, сыском пущай Ушаков занимается, – пробормотал Остерман и невольно оглянулся, произнеся фамилию начальника Тайной канцелярии. В России никакая должность: будь ты хоть самим канцлером, не является достаточной порукой, что не попадёшь когда-нибудь в длани заплечных дел мастеров. Немало примеров тому видел он за годы службы.
Остерман опять склонился над письмом и, перечтя последнюю страницу, сделал вывод, что пасквильная книга – происки французского резидента и его партии при российском дворе. А Лондон выбрали местом проведения атаки, чтобы следы запутать… Французы давно мечтают Россию с немцами поссорить. И это тоже придётся не по нраву Бирону, более ласкающему австрийцев.
Остерман довольно бегло просмотрел остаток депеши Кантемира. Там содержались и другие новости, не столь важные. К примеру, писал Кантемир, что парламент английский, усмотрев, что народ чрезмерно пьянству вдался, учредил в 1736м уставом своим наложить на крепкие питья высокую весьма пошлину и запретить всем кабатчикам продавать в розницу меньше двух галенков; таким образом отчасти чрезмерное употребление вина в Англии пресечено…
Остерман хмыкнул: «Русских никаким указом пить не отучишь! Впрочем, так же как говорить всякие вольности… Что уж вести речь о простолюдинах, которые на каждом углу в подпитии лают на власть и тут же орут друг на друга: “Слово и дело!”, ежели высший свет никак язык за зубами держать не научится!»
Известно Остерману из доносов секретаря посольства, что взялся Антиох Кантемир переводить вольнодумные «разговоры о множестве миров» Фонтенеля. До добра сие вольнодумство, не согласное с учением церкви, не доведет! – подумал Остерман и усмехнулся. Сам-то сын пастора больше, чем в Бога, верил златому тельцу да силе власти! Как тут не вспомнить вирши Кантемира:
- Вскинь глаза на прошлу жизнь мою и подробно
- Исследуй; счастье ко мне ласково и злобно
- Бывало, больше в своей злобе постоянно…
Как-то на досуге Остерман перечитал книги Кантемира. Оценки князя, рассыпанные в его литературных сочинениях, насторожили вице-канцлера. Ну что это такое: «Ум недозрелый, плод недолгой науки…»? О ком это он? Уж не обо всём ли российском дворянстве – детище преобразователя Петра? А может, того хуже – о самой матушке-импера…» – Остерман оборвал мысль незавершённой. Ещё более кощунственной представилась она, облеченная в слова, пусть и не произнесенные вслух…
Хотя что уж тут кощунственного? Кто-кто, а вице-канцлер знает истинную цену нынешней правительнице… Родной брат его Иоганн учил Анну немецкому языку перед затеянной Петром Алексеевичем свадьбой с несчастным герцогом Курляндским… Бился несколько месяцев, так ничего путного из сих занятий не вышло… Как не знала тогдашняя московская царевна немецкой грамматики, так до сих пор путается в спряжении глаголов… Властвовала в немецкой вотчине без малого девятнадцать лет, а так и не выучила язык своих подданных как следует. Да и русский за годы жизни в Митаве почти позабыла. Так и правит огромной империей на двух ломаных языках! Остерман по привычке опять огляделся: «Вот до чего доводит чтение писаний сего Кантемира!»
Да, дерзок князь, но покуда замены ему нет. Да и далеко он. Можно не обращать внимания на его словоблудие. Куда важнее разобраться с теми, кто находится здесь, поближе. «Политес – это и есть искусство компромиссов, а дворцовая дипломатия вся – сплошной компромисс…»
Остерман позвонил в серебряный колокольчик. На зов явился старый слуга в лиловой ливрее с галунами. Остерман приказал: «Пошлите за господином Бревеном».
Действительный статский советник Карл Бревен – секретарь императорского кабинета и протеже Остермана, явился так быстро, будто ожидал зова в приемной.
Остерман с удовольствием оглядел вошедшего человека средних лет, который всегда казался моложе своего возраста и обладал аристократическими манерами. Про таких французы говорят: «Un jeune homme de bonne maison[66]. Бревен в отличие от самого Остермана был щёголем и всегда одевался со вкусом. Нынче на нём был белый завитой парик, ароматизированный французскою водой, алый камзол и бежевые панталоны. Он широко улыбался, обнажая белые ровные зубы, всем видом демонстрируя преданность и готовность услужить своему патрону.
– Quel Charmant coup d'oeil[67], – Остерман тоже улыбнулся ему в ответ уголками губ и предложил присесть в кресло напротив. Вице-канцлеру показалось забавным, что из пяти языков, которыми свободно владел, для нынешней беседы он избрал именно тот, на котором изъяснялся автор упомянутого пасквиля, – французский. Бревену, привыкшему в последнее время видеть Остермана чаще хмурым и озабоченным, причины неожиданного благодушия были непонятны, но он улыбнулся ещё шире. Однако так, чтобы успеть сменить маску на лице, если настроение хозяина кабинета переменится.
Но Остерман действительно пришёл в благодушное расположение. Он был доволен тем, что пригласил к себе именно Бревена. Лучшего связующего звена для восстановления добрых отношений с Бироном отыскать было сложно. Год назад, именно благодаря стараниям Бревена, Бирон был наконец избран герцогом родной Курляндии. Кроме этого, Карл Бревен недавно женился на гоф-фрейлине Амалии Доротее, баронессе фон Кейзерлинг, двоюродной сестре барона Германа Карла – давнего сподвижника и земляка Бирона. Всё это гарантировало успех той непростой миссии, которую Остерман собрался возложить на плечи прилежного подчиненного.
Поскольку секретарь так же хорошо знал французский, разговор продолжился на языке Монтеня и Вийона. Говорили они так тихо, что припавший к двери кабинета дворецкий, много лет уже являющийся негласным наушником Тайной канцелярии, ничего не разобрал. Да и с французским у него быо плохо.
В последний вечер мясоеда 1740 года в доме кабинет-министра Волынского на Мойке собралась просвещенная кумпания[68].
Гости, пресыщенные обильным застольем, состоявшим из шестнадцати смен разнообразнейших блюд, перешли в обширную библиотеку, где хозяин дома – известный книгочей и собиратель фолиантов – потчевал их мозельским.
Ярко пылали, гроздьями оплывали свечи в бронзовых шандалах. Неровный свет падал на раскрасневшиеся лица гостей, на кожаные корешки книг в шкафах из мореного дуба. Шел оживленный разговор. В нём по праву главенствовал баловень судьбы, нынешний первый министр и вельможа «в случае» Артемий Петрович Волынский. Он держал в белой холеной руке, унизанной драгоценными перстнями, высокий бокал с искрящимся вином и витийствовал. Сидящие на диванах и канапе сенатор Новосильцев, президент Коммерц-коллегии Мусин-Пушкин, капитан-командор Козлов, морской инженер Соймонов и его коллега по горному делу Хрущов, секретарь императрицы Эйхлер и служитель иностранной коллегии Жан де ла Суда внимали, одобрительно кивали и поддакивали, не забывая прихлебывать мозельское, которое дворецкий Василий Кубанец щедро подливал в бокалы.
– Сам герцог вынужден был играть по моим правилам… – хвастался Волынский.
Речь шла о недавнем триумфе кабинет-министра – устроенной им для императрицы свадьбе шута Михаила Голицына, прозванного Кульковским или Квасником, с одной из придворных гофдевиц. Для сего зрелища между императорским дворцом и Адмиралтейством был выстроен огромный Ледяной дом с ледяной же опочивальней, куда новобрачных в клетке доставил поезд из трехсот человек и ста повозок. Не считаясь с затратами, Волынский собрал во дворе своего дома представителей всех инородцев, населяющих империю. Здесь же были лошади, козы, волы, олени, свиньи, верблюды… По замыслу кабинет-министра, всё это пестрое сборище людей и скотины должно было шествием перекочевать в манеж герцога Курляндского, где тот угостит за свой счет участников церемонии. Поскольку на пиру обещала присутствовать сама императрица, то скаредный Бирон не смог отвертеться и выложил на пиршество изрядную сумму. Это-то и вызвало нынче прилив веселья у собравшихся.
– Вы бы видели, как перекосило его светлость, когда я представил примерный расчёт блюд на сем обеде! – весело поблескивал глазами Волынский. – А его клеврет Липман чуть вовсе со стула не упал!
Мусин-Пушкин, который с недавнего времени помимо президентства в Коммерц-коллегии стал по протеже Волынского руководить ещё и коллегиями конфискаций и экономики, поддержал своего давнего приятеля:
– Сей гофкомиссар все норовит в чужую кису[69] залезть! Маклерует[70], деньги в долг дает с великим для себя прибытком, а после везет их в Лондон или в Париж… Государству Российскому от таких дельцов беда и поругание, а хозяйству разорение…
– Док-коле сии бироны да липманы б-будут нами, р-русскими дворянами, управлять? – воскликнул тайный советник Хрущов. Он был изрядно пьян и плохо артикулировал.
Новосильцев покосился на Эйлера и де Суда, которые сделали вид, что не заметили бестактности по отношению к себе в словах Хрущова, и произнес, наклоняясь к нему, вполголоса:
– Андрей Иванович, да будут уста твои тюрьмой для твоего языка… Неоглядчиво говоришь. Или страх потерял? Смотри, чтоб тебя за такие речи «кошками» не поласкали!
Неожиданно вступился Волынский:
– Давайте говорить начистоту: пора прекращать сие безобразие. Прав Хрущов, негоже, чтобы иноземцы владычествовали над русскими и русские у них в покорении были. А что до господ Эйлера и де Суда, так они такие же патриоты России, как мы!
Тут все заговорили, перебивая друг друга:
– Ныне пришло житье наше хуже собаки! Иноземцы во всём перед нами преимущество имеют!
– Государыня более верит гороскопам немца Крафта и француза Делиля, нежели здравому смыслу!
– Профессорам лучше бы математикой заниматься, чем в трубу на звезды глазеть!
– Эта бокумская[71] бестия вовсе перестал прислушиваться к кому бы то ни было, он приводит государыню в сумление, чтобы она никому верить не изволила и подозрениями была огорчена…
– На осину его, Иуду!
– А Миних-то, аника-воин, эким Ганнибалом себя почувствовал! Взял крепостцу, двух янычаров пленил и ужо – герой!
– О фельдмаршале вы напрасно так, господа! Хотин – вовсе не крепостца. Там сам сераскир, начальствующий надо всей турецкой армией, оборону держал. Сей штурм – вельми знатная победа!
Волынский возвысил голос, призывая к вниманию:
– Пора и нам, господа, подобно победителю турок, наступать по всему фронту! Пока Её Императорское Величество ко мне благосклонны, подал я на высочайшее имя прошение с указанием непорядков, творимых нынче в отечестве нашем. Готовы ли вы, каждый в своем месте, поддержать меня?
– Не сомневайся, Артемий Петрович! Мы всем обязаны дружбе с тобой! Живота не пожалеем за твоё высокопревосходительство!
– Я уже предпринял первые шаги, – горделиво сказал Волынский. – За плутовство отрешил от должности двух бироновских клиентов: шталмейстера Кишеля и унтер-шталмейстера Людвига. Оные, правда, в долгу не остались и попытались матушке про меня злобно напеть, дескать, на конских заводах Её Величества, что под моей опекой, непорядки. Однако государыня им не поверила…
– Неужто и впрямь перемены в России грядут! – мечтательно произнес Козлов. – Неужто Господь услышал наши молитвы…
– На Бога уповаем, командор, но победу нашу делами приближать будем, – торжественно заключил Волынский.
– А верно ли говорят при дворе, Артемий Петрович, что выволочку вы на днях устроили бироновскому прихлебаю – профессору элоквенции Тредиаковскому? – поинтересовался Соймонов.
– Было дело, господа…
– Расскажите, ваше высокопревосходительство.
– Особливо рассказывать нечего. Вызвал я сего пииту на «слоновый двор» и приказал ему написать вирши на свадьбу в Ледяном доме. Ан сей поповский отпрыск брыкаться надумал, мол, стихи рождаются во вдохновении… Ну и задал ему трепака!
– Виват, Артемий Петрович! Так и надо подлому горбуну!
– Ишь ты, вдохновения ему подавай! А сам-то сочиняет нескладно…
– А вы знаете, что Квасник с этим же Тредиаковским отчебучил? Тредиаковский поймал шута во дворце и обязал прослушать целую песнь из «Телемахиды». Шут мужественно вытерпел это. Но когда пиита спросил его, какие из стихов ему понравились, Кульковский ответил: «Те, которые ты ещё не читал!»
– Ха-ха-ха! Поделом виршеплету!
– Оскоромился кот Евстафий! – вскричала мышка в лапах у монастырского кота! Хо-хо-хо!
Веселье в доме Волынского продолжалось ещё долго.
Когда, уже под утро, гости стали расходиться, Фёдор Иванович Соймонов попросил разрешения остаться для конфиденциального разговора. Волынский, изрядно уставший, поморщился, но пригласил Соймонова пройти в кабинет.
Когда Кубанец затворил за ними двери, Соймонов сказал:
– Пришла мне на ум одна мысль, ваше высокопревосходительство… – то, что старый товарищ обратился к нему официально, значило, что дело и впрямь серьёзное, государственное.
Несколько лет назад Волынский всеми правдами и неправдами стал продвигать Соймонова по служебной лестнице в Адмиралтействе, которым руководил граф Николай Фёдорович Головин – креатура Остермана. Чтобы уравновесить влияние последнего в морском ведомстве, Волынский совсем недавно сумел добиться назначения Соймонова правой рукой Головина – генерал-кригс-комиссаром, то есть главным интендантом флота. И теперь предполагал, что его протеже поведет речь о своём ведомстве.
Соймонов и впрямь заговорил об адмиралтейских делах, стал жаловаться на Головина, который был гораздо моложе его, но начальником оказался неповадным – поблажки ни в чём не давал и всегда стоял на своём, даже когда Соймонов предлагал нечто дельное. Это недоверие оскорбляло Фёдора Ивановича, коего еще молоденьким лейтенантом приблизил к себе сам преобразователь Отечества. Соймонов негодовал:
– Пётр Алексеевич не считал зазорным советоваться со мной! Мне доверил идею поиска пути в Ост-Индию. Я государю и присоветовал, что нету надобности, подобно Христофору Колумбусу и Америкусу Веспуцию, рискуя кораблями, искать новую землю на закате или подобно голландцам плыть к полудню, обходя кап Боно Эсперанц[72]. Наша Восточная Сибирь и море, что за ней лежит, нас к искомой земле привести должны. Слова мои тогдашние государь прилежно слушать изволил и по ним велел изыскания чинить. А этот мальчишка Головин думает, что он самого покойного императора мудрей. Нет, я ему этого так не оставлю! Мы ещё разочтемся…
– Коим образом ты, Фёдор Иванович, расчесться со своим обидчиком собираешься, а? – спросил Волынский. – Ежели полагаешь, что через меня поста его лишишь, так сразу скажу, сместить с должности адмирала покуда не удастся, силы у нас ещё не те. Тут надо нечто похитрее придумать, чтобы сразу двух зайцев убить: и обидчику твоему отплатить, и покровителей его – Остермана с Бироном прищучить! Что ты об этом думаешь?
Соймонов пристыженно примолк. Волынский терпеливо ждал, наблюдая за работой мысли на его челе.
Наконец Соймонов, медленно подбирая слова, заговорил:
– Надобно свернуть все работы Камчатской экспедиции как не оправдавшие понесённых расходов. Тяжко мне сие предлагать, ибо Камчатская экспедиция есть детище покойного отца империи нашей, но иного пути наказать недоброжелателей не мыслю. Ибо нынешняя, вторая экспедиция – забота Головина и Остермана, а добро на её проведение давал сам Бирон. Значит, и ему дулю покажем, ежели сумеем убедить матушку-императрицу сию экспедицию прекратить!
– Ну а как воспротивится не один Головин, а вся Адмиралтейств-коллегия? – покачал головой Волынский. – Нам сие ни к чему. Может быть, просто сменим начальника экспедиции? Как там его?
– Капитан-командор Беринг, ваше высокопревосходительство…
– Опять немец…
– Датчанин.
– Один ляд. Есть у тебя на него что?
– Да, целый шкап доносов: и от командира Охотского порта, и от собственных офицеров…
Волынский потер ладони:
– Так что же тебя, Фёдор Иванович, держит? Замену нашёл?
– Есть один претендент. Капитан-поручик Шпанберг…
– Снова немчин… Что у нас, русских офицеров сыскать нельзя?
Соймонов вздохнул:
– Есть и русские. Токмо нынче Шпанберга было бы сподручней назначить. Он с успехом из японского вояжу воротился. К тому же никто нас после этого упрекнуть не сможет в нелюбви к иноземцам. Ведь распускают слухи, будто бы вы, Артемий Петрович, «русскую партию» при дворе создаете.
– Это, Фёдор Иванович, верно: нам нынче лишняя молва ни к чему. Сам знаешь: чем нелепее молва, тем ей больше веры…
Он прошёлся по кабинету, остановился напротив парсуны, на коей была изображена в парадном платье императрица, и вперился в неё взглядом.
Анна Иоанновна была как живая. Её одутловатые щеки были ярко нарумянены, низкое декольте открывало пышную грудь, глаза смотрели холодно и бесстрастно. Правой рукой правительница касалась Державы, что лежала на столике с ножками в виде древних наяд, в левой держала скипетр.
Волынский обернулся к Соймонову, заметил с явной гордостью:
– Получил сию парсуну в дар от Её Величества в знак особого расположения…
«Ох, погубит тебя, Артемий Петрович, твоя гордыня, – поймал себя на мысли Соймонов. – Погубит тебя и нас всех, к тебе привязанных».
Но сказать об этом старому другу не решился, спросил:
– Так как прикажете поступить, ваше высокопревосходительство?
– Ты о чём? Ах, да… об экспедиции. Что ж, готовь проект указа о замене Беринга этим… Шёнбергом…
– Шпанбергом…
– Им самым.
Герцог Бирон метался по кабинету, как пойманный барс. Он то усаживался за стол, то вскакивал и стремительно шагал от стены к стене. Внезапно остановился перед венецианским стеклом, оглядел себя с пристрастностью человека, делом жизни которого было нравиться не только повелительнице и окружающим, но и себе. На него взирал огрузневший, но всё ещё видный мужчина с высоким покатым лбом, массивным раздвоенным подбородком и плотно сжатыми тонкими губами. Дорогой парчовый халат и высокий парик подчеркивали значительность и высокомерность отражения. Встретившись взглядом с двойником, Бирон поёжился от пронзительного и отчаянного взора…
Не таким представлялась ему жизнь после триумфа, каким несомненно, стало получение герцогского титула. Бирон приложил к этому все старания, подкреплённые огромной суммой из государственной казны, и добился своего: гордые остзейские бароны, ещё несколько лет назад отказывавшие ему даже в простой дворянской грамоте, теперь единогласно признали его своим повелителем. Умасленный подарками, польский Сенат без всяких проволочек утвердил это решение, и король Август III в марте 1739 года в Варшаве передал диплом на курляндский лен, иными словами – трон, представителю Бирона Финку фон Финкеншейну.
Казалось, всё, о чём он мечтал, сбылось. Теперь можно пожить в своё удовольствие, управляя герцогством из Санкт-Петербурга. Право на это давал ему специальный указ польского монарха.
Однако почивать на лаврах оказалось некогда. Вокруг обнаружилось много желающих занять место фаворита при русском дворе. Ничего необычного в таком желании не было. Бирон по опыту знал: жизнь при дворе – постоянный поединок: выпад, укол, защита, выпад, укол, защита. Зазевался и – сталь войдёт в твоё сердце.
В молодости он хорошо фехтовал. Будучи студентом, участвовал в дуэлях. Однажды попал в неприятную историю. В митавском кабаке они с приятелями изрядно выпили и начали задирать посетителей, бить посуду. Хозяин вызвал ночную стражу. Завязалась драка. Стражник выхватил шпагу. Бирон обнажил свою.
Противник попался опытный, но Бирон умело отвёл удар, направленный в грудь, и нанёс ответный укол. Шпага вошла в горло стражника. Он захрипел и отдал Богу душу. Бирона скрутили и посадили под замок. Дело закончилось бы верной каторгой. Только заступничество Рейнгольда Левенвольде, в ту пору – камергера и фаворита российской императрицы Екатерины I, и выкуп в семьсот талеров, заплаченный за него тогдашним благодетелем – обер-гофмейстером курляндского двора Петром Михайловичем Бестужевым, спасли Бирона. Однако из университета его исключили.
Бирон впоследствии по достоинству отплатил своим спасителям, поочередно удалив каждого из них от власти. Впрочем, разрыв со старшим Бестужевым не помешал ему и ныне поддерживать добрые отношения с его сыновьями: Алексеем Петровичем и Михаилом Петровичем. Оба подвизались по дипломатической части: один – российским резидентом в Дании, другой – в Швеции. Именно при их помощи намеревался Бирон уменьшить влияние своего давнего конкурента Остермана на российскую внешнюю политику.
С подачи Михаила Бестужева, тайными агентами герцога – капитаном Кутлером и поручиком Левицким в Силезии, близ Христианштата, было организовано убийство шведского майора Цинклера. Майор вёз из Константинополя подлинные обязательства покойного Карла XII перед Оттоманской Портой. Получение этих бумаг могло поставить точку на намечавшемся союзе Порты и Швеции, как убеждали Бирона братья Бестужевы. Однако вышло всё вопреки их предсказаниям. Убийство шведского офицера вызвало международный скандал. Европейские газеты обвинили в убийстве российский двор. А враждебные России соседи незамедлительно заключили союзнический договор. Обо всём этом Остерман не преминул попенять Бирону перед императрицей, которая неожиданно приняла сторону вице-канцлера:
– Вашей светлости не должно вторгаться в международный политик. Сие дело Андрея Ивановича Остермана…
И вот теперь эта старая гнида Остерман предлагает ему союз против Волынского. Известия об этом принёс нынче утром секретарь Бревен, которому недоверчивый Бирон, как ни странно, доверял. Однако он сразу ничего не ответил Бревену, ибо давно изучил все вольты[73] придворной жизни. Здесь, как и в манеже, одно неверное движение грозит падением со скакуна, а то и переломом шеи…
Когда озадаченный Бревен покинул кабинет, герцог дал волю чувствам. Нервно вышагивая из угла в угол и взметывая бумаги на столе, он тем не менее не утратил способности размышлять холодно и здраво.
Конечно, вице-канцлер прав: задаваку Волынского давно надо проучить. Плохо, когда собака начинает лаять на своего хозяина или конь пытается лягнуть наездника копытом.
Ведь как Бирон старался помочь сему Волынскому закрепиться при дворе! По протекции Салтыкова сделал его генерал-лейтенантом и начальником дворцовой Конюшенной канцелярии. Добился для него должности обер-егермейстера. Изображая преданность, как только не уничижался тогда перед ним сей конский охотник, какие письма верноподданнические писал…
Бирон открыл ларец и среди пачки писем отыскал нужное. Развернул и прочел: «Увидев столь милостивое объявленное мне о содержании меня в непременной высокой милости обнадёживание, всепокорно и нижайше благодарствую, прилежно и усердно прося милостиво меня и впредь оные не лишить и, яко верного и истинного раба, содержать в неотъемлемой протекции вашей светлости, на которую я положил свою несумненную надежду, и хотя всего того, какие я до сего времени Её Императорского Величества паче достоинства и заслуг моих высочайшие милости чрез милостивые вашей светлости предстательства получил, не заслужил и заслужить не могу никогда, однако ж от всего моего истинного и чистого сердца вашей светлости и всему вашему высокому дому всякого приращения и благополучия всегда желал и желать буду и, елико возможность моя и слабость ума моего достигает, должен всегда по истине совести моей служить и того всячески искать, даже до изъятия ума моего…»
Бирон отбросил письмо и выругался грязно, как конюх. Сей «верный и истинный раб» напаскудил ему в последнее время немало. Кроме того, что тёмными терминами, тут прав Остерман, норовит кредит Бирона в глазах императрицы подорвать, так ещё и действия поперечные предпринимает. Это ведь его, Волынского, усилиями разрушилось сватовство сына Бирона Петра к племяннице императрицы Анне Леопольдовне. Это Волынский уговорил Анну Иоанновну выдать мекленбургскую принцессу замуж за это ничтожество – брауншвейгского принца Антона Ульриха, а брачные намерения Бирона посмел сравнить с деяниями Бориса Годунова. И самое обидное, что сия инсинуация вызвала одобрительную улыбку государыни. Так недолго и до обвинения в попытке государственного переворота!
«Если нынче я не добьюсь его ареста, то завтра Волынский арестует меня… – сделал неутешительный для себя вывод Бирон. – Но только как отыскать для этого необходимый повод?» Он перебрал в голове все последние провинности кабинет-министра, известные ему, и ничего, что было бы веским аргументом в разговоре с императрицей, не нашёл.
Как всегда, когда собственные раздумья заводили его в тупик, вспомнил о человеке, на мудрый совет которого мог всегда смело рассчитывать.
Герцог кликнул дежурившего в приёмной камергера Фабиана и приказал немедленно доставить к нему гофкомиссара Липмана.
Моисей Липман был одним из тех незаметных, невзрачных, но совершенно незаменимых людей, без которых во всяком деликатном деле никак не обойтись.
Как и при каких обстоятельствах он появился при дворе, Бирон не помнил. Но с первой же минуты их знакомства почувствовал в этом сгорбленном и неопрятном на вид комиссионере родственную душу: цепкий ум, изворотливость, беспринципность и жёсткость. Без этих качеств в политике, равно как в банковских операциях, успеха не достичь.
Уже после Бирон узнал, что люди, подобные Липману, есть при каждом европейском дворе. В Германии – это Самсон Вертхеймер, без подсказок коего ни один из трёх последних императоров Габсбургской династии ничего серьезного не предпринимал. При прусском дворе подвизались братья Гумперты, взявшие на себя всю торговлю табаком. Советником герцога Вюртембергского много лет является некий Йозеф Оппенгеймер… Словом, есть такие негласные советники и кредиторы при любом уважающем себя правителе. Они хорошо знают друг друга и поддерживают между собой связи. При их посредничестве устраиваются всяческие торговые и политические сделки, а порой и происходят государственные перевороты. При этом все упомянутые гофкомиссары и финансовые агенты, советники и банкиры всегда остаются в тени, нигде и ни при каких обстоятельствах не демонстрируют своего влияния…
Липман пользовался безграничным доверием Бирона и был его постоянным кредитором. К нему одному Бирон мог в любое время обратиться просто и прямо:
– Gibt mir ghelt![74] – и никогда не получал отказа.
Липман, в свою очередь, вел себя весьма благородно: никогда не напоминал своему протектору о кредите, давно перевалившем за двести тысяч рублей. Напротив, при каждой встрече предлагал новые займы. О причинах, по которым банкир так непрактичен, Бирон не задумывался. С высоты своего положения считал, что всякому смертному надо почитать за честь угождение его герцогской светлости. Липман всячески поддерживал в Бироне это убеждение, чем конечно же ещё более располагал герцога к себе.
Появившись в кабинете Бирона, Липман, ласково взирая на герцога выпуклыми оливковыми глазами, в которых чудилась герцогу скрытая печаль его вечно гонимых соплеменников, заговорил, картавя, мягко и обволакивающе:
– Всё возвратимо в сем мире, ваша светлость. У нас говорят, есть две вещи, которые никогда не возвращаются, – это потраченные сбережения и жены, сбежавшие от надоевших мужей…
– Извольте изъясняться понятнее! – Бирон, несмотря на ласковую интонацию банкира, несколько насторожился, уловив намёк на некоторое охлаждение к нему императрицы. Ища подтверждение своим мыслям, пристально воззрился на гоф-комиссара. Лицо Липмана выражало полнейшую преданность.
– Любовниц, да простит мне ваша светлость, – загадочно говорил он, – любят тем больше, чем дороже они обходятся. То же самое и с подданными. Последние всегда больше почитают тех правителей, которые с них больше спрашивают!
Бирон всё ещё не понимал, куда клонит гофкомиссар, и уже начал уставать от его двусмысленностей.
Липман продолжал ласкать его взором и вкрадчиво излагать свои соображения:
– Сегодня ваш недоброжелатель, ваша светлость, потратил все свои кредиты. Да, да, он очень удачно провел шутовскую свадьбу, получил благодарность от Её Императорского Величества… – Липман закатил глаза к потолку. Выдержав паузу, он продолжал ещё вкрадчивей: – Но Волынский позабыл одну мудрость: нет такого хорошего дела, которое нельзя было бы испортить! Сейчас, когда Волынский считает себя победителем, он утратил осторожность и совершает одну ошибку за другой…
– Что за ошибки? – во взгляде Бирона промелькнул живой интерес.
Липман сладко улыбнулся:
– Нельзя писать государыне письма с советами, как будто она токмо взошла на трон… Что допустимо с Анной Мекленбургской, то недопустимо с государыней всероссийской…
Бирон просиял:
– Верно замечено!
Липман поклонился:
– Государыня, насколько мне известно, очень щепетильна в вопросах этикета. Ваш противник, напротив, в них неразборчив. Он также неразборчиво берет взятки и не одними токмо лошадьми… Поверьте, Липман знает, что говорит… Этим можно воспользоваться, да простит мне ваша светлость сие замечаньице…
Липман замолчал, а после обронил как бы невзначай:
– Вашей аудиенции несколько дней добивается профессор элоквенции Тредиаковский…
– Что хочет этот фигляр?
Липман пожал утлыми плечами, покачал лобастой, шишковатой головой:
– Чего хотят русские? Справедливости, ваша светлость. Одной лишь справедливости!
Бирон усмехнулся: Липману ли не знать, что справедливости в мире нет?
– В чем его дело? – поинтересовался он.
Липман изогнулся в поклоне и протянул герцогу прошение.
Бирон не взял бумагу и приказал Липману:
– Прочтите.
Липман снова поклонился и с выражением прочел:
– «В покоях вашей светлости его превосходительство Волынский, не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам перед всеми столь немилостиво по обеим щекам; а при том всячески браня, что правое ухо моё оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема…»
Бирон поморщился:
– Вам-то какое дело до сего академического шута, господин Липман? Он что, ваш должник?
Липман неожиданно широко улыбнулся, показав ряд мелких и неровных зубов:
– Сей плачевный случай был бы вовсе неинтересен вашей светлости, ежели бы не происходил в вашей приемной, коия находится совсем рядом с апартаментами Её Императорского Величества… А сие…
– …Сие уже пахнет оскорблением матушки-императрицы!
– Тут, ваша светлость, впору кричать: «Слово и дело!» – личико Липмана просто светилось от удовольствия: кажется, он в очередной раз сумел угодить патрону.
Липман пробыл у Бирона ещё около часа. Сообщил ещё несколько важных сведений о том, как неосмотрительно вёл себя в последнее время кабинет-министр Волынский. Бирон всё больше приходил в доброе расположение духа.
В конце аудиенции он одобрительно потрепал Липмана по плечу, чего прежде себе не позволял. Довольный Липман, пятясь и кланяясь, выскользнул из кабинета так же стремительно, как появился.
Через четверть часа после его ухода Бирон уже при всем параде – с голубой Андреевской лентой через правое плечо – вышел из своих комнат и решительно направился к покоям императрицы.
– Он не чист на руку, Ваше Величество… – Бирон не был так неотразим и обаятелен с того памятного вечера в двадцать седьмом году в Митаве, когда заскучавшая после отъезда старика Бестужева-Рюмина повелительница впервые позволила своему молодому, статному камергеру остаться в её покоях.
За прошедшие тринадцать лет, казалось, он хорошо изучил Анну Иоанновну, её привычки и характер, сумел вовремя устранить всех конкурентов и претендентов на высочайшее внимание. Устранил и успокоился, мол, теперь ему ничего не угрожает. Ан когда с тобой рядом не обычная женщина, а могущественная владычица огромной империи, всегда надо держать ухо востро, чтобы в мгновенье ока не утратить её расположение…
Бирон бросил быстрый, изучающий взгляд на императрицу. Она сидела неподвижно, как кукла. Свет падал на её лицо, и он увидел то, что старался не замечать прежде, – как Аннет постарела. Морщины собрались у глаз мелкой сеточкой, и частые седые нити поблескивают в некогда иссиня-чёрных волосах. Увы, следы времени, безжалостного и к владычицам, и к простолюдинкам, не могут скрыть ни румяна, ни белила… Что-то похожее на нежность, смешанную с жалостью, шевельнулось в нём, но сейчас не до сантиментов. Куда важнее – добиться возвращения сердечной привязанности императрицы. Без этого лишишься всего!
– Он не чист на руку, Ваше Величество, – вкрадчиво, невольно повторяя интонацию Липмана, снова произнес Бирон.
Анна Иоанновна тяжело вздохнула:
– Ах, ваша светлость, сие в отечестве нашем бедствие неискоренимое. Мой венценосный дядюшка в Сенате однажды приказал Павлу Ивановичу Ягужинскому, чтобы тот написал указ, мол, ежели кто что-то украдет, сразу чтоб и веревку покупал, ибо без всякого следствия повешен будет. Генерал-прокурор отложил перо в сторону и смело ответствовал, что, дескать, в таком случае, вы, государь Пётр Алексеевич, останетесь вовсе один, без служителей и подданных, ибо все воруют, с тем лишь различием, что один более, другой менее…
– Но поверьте, государыня, Волынский переходит всякие границы, – Бирон говорил с такой верноподданнической убежденностью, будто сам никогда не получал подношений. – Однажды я спросил у господина кабинет-министра: не боится ли он брать взятки, за коие грозит виселица? Он дерзко засмеялся в ответ и заявил: нынче, дескать, есть время брать, а будет же мне, имеючи страх быть повешенным, такое упустить, то я никогда богат не стану, а ежели нужда случится, так смогу выкупиться…
Анна Иоанновна неожиданно рассмеялась:
– Ловок министр, ничего не скажешь. Однако ж что мне с того, что он взятки берет? Всё одно, что ни есть в России, – всё моё. Коли захочу, мигом украденное верну.
Её лицо снова приняло величественное выражение.
Бирон склонился в галантном поклоне:
– Истинно так, Ваше Величество. Все мы – ваши вечные рабы. И всё же смею заметить, что господин Волынский не просто берет подношения, но и смеет усомниться в правильности политики, проводимой кабинетом Вашего Величества.
Анна Иоанновна чуть приподняла брови, давая этим знак герцогу, чтобы он продолжал.
– Мне попал в руки сочиненный министром проект «Рассуждения о приключающихся вредах особе государя и обще всему государству и отчего происходили и происходят». В сём прожекте Волынский много судит о непорядках в стране и предлагает всё переменить: расширить состав Сената, ввести винную монополию, сократить армию…
Анна Иоанновна снова тяжко вздохнула и промолвила с легким раздражением:
– Надобности в реформаторах не имею…
– Тогда прикажите арестовать его… – напрямую предложил герцог.
Императрица задумалась.
Герцог выждал время:
– Смею заметить, Ваше Величество, этот человек – не тот, за кого себя выдает. Он не реформатор, а сотрясатель государственных устоев и смутьян, вознамерившийся узурпировать власть…
Анна Иоанновна сидела с непроницаемым лицом, но пальцы её держащие веер, подрагивали.
– Когда третьего дни рассматривали требования поляков о компенсации убытков, понесённых при прохождении наших войск через их земли, кабинет-министр единственный возражал против этого, – припомнил Бирон ещё одну обиду, – он доказывал, что поляки приняли сторону турок и не имеют права ни на какую компенсацию. Когда я возразил ему, ссылаясь на государственный интерес нашего альянса с Польшей, он дерзко отвечал, что, не будучи вассалом сей республики, не находит ни малейших причин ласкать и щадить её… Вы понимаете, моя императрица, на что намекал сей вольнодумец? Он посмел меня назвать вассалом Польши! Да, герцогство Курляндское принадлежит польской короне, но сердце моё принадлежит вам, Аннет…
Анна Иоанновна продолжала безмолвствовать. Ни один мускул не дрогнул на её лице, но в глубине глаз промелькнул знакомый Бирону отблеск.
«Кажется, попал», – Бирон пошел ва-банк и выложил козырную карту:
– Но это ещё не всё, Ваше Величество… Как преданный слуга, не могу утаивать от вас, что кабинет-министр говорит во всеуслышание, что он ведёт свой род от великого князя Дмитрия Михайловича, что его род древнее, чем Романовы…
Щёки Анны Иоанновны в мгновение побагровели, веер в руках хрустнул. Бирон понял, что достиг своей цели: теперь Волынского уже ничто не спасет.
Он тут же перевёл разговор на другое и выразил своё неудовольствие по поводу того, что Остерман затягивает переговоры о союзе с Англией. Это был ловкий ход: не заостряя больше внимания на Волынском, нанести удар ещё по одному сопернику.
– Граф Остерман воображает, что кроме него все глупы и ничего не видят у себя под носом! – скорчив гримасу, которая сделала его похожим на вице-канцлера, сказал он. – Пусть лучше докажет делами, что у него есть совесть и религия, что он верен вам, Ваше Императорское Величествоо, как верен я! Знаю этого интригана: опять явится, упадет к вашим стопам и станет всхлипывать, что ни в чем не повинен. А ежели припереть его в угол, начнёт снова жаловаться на подагру. С ним, государыня, ни о чем нельзя говорить серьёзно. Он начинает разговор об одном и тут же переводит его на другое, всегда прячет глаза или закатывает их к потолку. И, простите, Ваше Величество, от него всегда так дурно пахнет, будто он никогда не мылся в бане…
Бирон брезгливо поморщился и прошёлся перед Анной Иоанновной, изображая шаркающую походку Остермана. Она милостиво улыбнулась, погрозила пухлым коротким пальчиком:
– Перестаньте злобствовать, мой друг. Вам это не идет. И потом, так вы меня вовсе без придворных оставите, ревнивец эдакий… Полноте об этом. Граф Остерман верен мне. Пусть себе отводит глаза в сторону, лишь бы дипломатию мою блюл. А в этом он пока равных себе не имеет…
Она зевнула, давая понять, что устала говорить о делах.
Бирон насупился.
Заметив это, Анна Иоанновна произнесла голосом капризного ребенка:
– Ну, перестаньте дуться, ваша светлость. Лучше расскажите что-нибудь интересное!
…Вечером того же дня Волынский по приказу императрицы был взят под караул. Сначала он содержался в своём доме, но уже через два дня оказался в Петропавловской крепости в застенке генерал-аншефа Ушакова. Там на очных ставках встретился и со своими приятелями: Мусиным-Пушкиным, Соймоновым, Эйхлером и Хрущовым…
Последнего допрашивал его дальний родственник Николай Иванович – секретарь Тайной канцелярии. Посулив горному инженеру Хрущову сохранение живота, Николай Иванович построил розыск так искусно, что арестованный признался во всем: и в умышлении на государственный переворот, и в вольнодумских беседах…
На дыбе эти слова подтвердили Еропкин и Соймонов. А трясущийся дворецкий Василий Кубанец не только выдал все служебные преступления своего хозяина, назвав, сколько, когда и от кого получил кабинет-министр подношений, но и свидетельствовал о неуёмном желании Волынского сделать свою партию и всех к себе преклонить, а кто не склонится, тех, дескать, и убить можно…
Когда ему вывернули руки, понёс Кубанец сущую нелепицу:
– У нас немец огнадысь холеру по ветру пущал. С трубкой, значит. Возьмёт наведёт на звёзды и считает. Сколько сочтёт, столь народу русского и помрёт сразу. Потому у кажного своя звезда на небе имеется. А ему, немцу тому, такое указание от самого их светлости герцога Бирона вышло, чтоб русских людей до смерти уморить. Вот он сполнять и должон. А его высоко превосходительство господин Волынский смилостивился над народом и по штафете приказал, чтобы всех немцев из Рассеи гнать в три шеи надобно…
В конце следствия Кубанец совсем свихнулся и сгинул где-то в каземате.
Дрогнули и просвещённые собеседники Волынского. Сенатор Новосильцев и генерал-прокурор Трубецкой, приведенные к присяге, дружно свидетельствовали, что они в самом деле ходили в гости к кабинет-министру и вели пространные разговоры с ним. Но суть этих разговоров была в том, кто у матушки-государыни в милости, а кто нет, кто будет на какой пост назначен, где какая вакансия есть. Трусоватый от природы Новосильцев, едва увидев щипцы и когти, тут же признался и покаялся, что, будучи при делах в Сенате, взятки брал, но токмо вином, лошадьми, сукном, а деньгами никогда, что ни в какой политике не повинен и книг крамольных никаких не читал.
Императрица пожурила этих сановников за то, что вовремя не донесли на Волынского, и тут же смилостивилась – назначила их в состав следствия по делу кабинет-министра и его кружка, где те и приложили все усилия для скорейшего получения признательных показаний от своих бывших собутыльников.
Волынского тоже пытали.
Под жестокой пыткой он всё же признался, что заставлял Эйхлера переводить для себя сочинение Макиавелли «Государь» и что де Суда перевел для него историю Иоанны – королевы Неаполитанской. Так же не стал отпираться, что в сей книге, на полях делал пометки «она», подразумевая императрицу Анну Иоанновну. Но он наотрез отказался признать обвинение в подготовке государственного переворота и свои поползновения на свойство с родом Романовых.
– Умысла, чтоб себя государем сделать, я подлинно не имел, – в кровь разбитыми губами шептал он.
Никакие истязания не смогли его в этом упорстве переменить.
Впрочем, это было уже не важно. Опальный министр и его ближайшие друзья были обвинены в оскорблении Её Величества и других тягчайших государственных преступлениях, за которые полагалась смертная казнь. Императрица колебалась: Волынский хотя и заслужил опалу, но лишать живота его ей не хотелось. Тогда Бирон бросил на весы последний аргумент:
– Ежели вы, Ваше Величество, пощадите этого бунтовщика, я буду вынужден немедля уехать в Курляндию…
И стареющая Анна Иоанновна сдалась.
…Ещё не был построен новый эшафот для аутодафе, ещё герцог Бирон не устроил бал во дворце в честь своей победы над соперником, как вице-канцлер Остерман неожиданно снова выздоровел и попросил Бревена доставить указы кабинета, принятые в его отсутствие.
Перебирая ворох бумаг, он наткнулся на приказ о назначении капитана Шпанберга главным начальником над Великой Камчатской экспедицией.
Остерман вызвал адмирала графа Головнина, показал ему решение кабинета и поинтересовался:
– Сие сделано с вашего ведома, Николай Фёдорович?
– Нет, ваше сиятельство, я о том извещён не был.