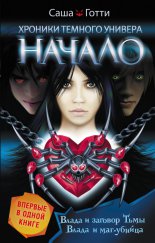Крест командора Александрова Наталья

– Чего вдруг?
Дементьев долго молчал, прежде чем выдавил из себя:
– Без неё жить не хочу!
– Без кого? – Овцын внимательно поглядел на друга, понимающе покачал головой. – Влюбился никак…
Он бережно взял из рук Дементьева пистолет, отложил в сторону, уселся напротив него на скамью, попросил:
– Ты расскажи. Облегчи душу.
Когда Дементьев окончил грустное повествование о своей любви к Екатерине Ивановне Суровой и её смерти, Овцын произнес сочувственно, но в то же время строго:
– И ты решился из-за этого душу свою навек погубить? Вспомни Осу…
Дементьев вскинул на него взгляд, полный невыразимой тоски, и замер, припоминая.
…Всю осень тридцать третьего года и часть зимы тридцать четвёртого они вместе с остальными членами экспедиции провели в Новоникольской или Осинской слободе, в реестре городов российских числившейся пригородом Казани. Однако отстоял сей пригород от города почти в пятистах верстах.
Довольно хорошо укреплённый острог был построен на левом берегу Камы, в том месте, где в неё впадала шустрая речка Осинка. Острог служил наблюдательным и опорным пунктом для отражения набегов немирных башкирцев. Эти набеги с каждым годом становились всё реже, и острог перестал быть только крепостью, начал обрастать посадом. Ко времени прибытия экспедиции этот посад разросся уже на полторы версты. Слобода была густо населена. Жители занимались производством рогож, кулей и верёвок, резным деревянным промыслом и пчеловодством. Не мало споспешествовала росту Осы и местная пристань, с которой вверх и вниз по реке ходили дощаники, тяжело гружённые рожью и льном, овсом и смолою, пенькой и пиленым лесом.
Жизнь в Осе текла медленно и ровно, как воды матушки-Камы. Так же тянулись дни у членов экспедиции, ждущих наступления весны и сухой погоды, чтобы встал санный путь на Екатеринбург, иначе тяжёлый обоз из нескольких сот саней не пройдет.
А пока, слушая нудные песни дождей, а после – завывания вьюги и волков, морские офицеры проверяли оборудование, настраивали градштоки, квадранты, коротали время за разговорами о предстоящей дороге в неведомое. Играли в карты и в шахматы, ходили на званые обеды к местному гражданскому воеводе Лямзину. Когда метель затихала, отправлялись на охоту на лосей и косуль, которых в округе было немало, совершали пешие и санные походы по окрестностям. Видели горы Белую, Острую и Титешную. Старожилы рассказывали, что богаты эти места медной рудой и скоро станет строиться поблизости казённый завод…
Однажды, когда Дементьев и Овцын возвращались из дальней прогулки, около местного кладбища увидели странную процессию. Четыре гренадера несли на плечах грубо сколоченный деревянный ящик. За ними двигалась молодая женщина в долгополом салопе и черной шали. За руку она вела ребёнка лет пяти, который плакал и упирался. Поодаль плелись несколько ротозеев. Процессия остановилась у ворот кладбища. Но внутрь не вошла. Проваливаясь в сугробах, гренадеры понесли ящик в сторону полузасыпанной снегом ямы за оградой погоста.
Дементьев приказал Фильке остановить сани, они с Овцыным вышли и подошли поближе.
– Что происходит? – спросил Овцын одного из зевак.
Тот перекрестился и сказал:
– Смертоубийцу хоронят. Прапорщик здешнего гарнизона Щуплецов, вчерась в удавку голову сунул…
Говорящий недоверчиво оглядел незнакомых офицеров, но не утерпел, выложил новость:
– Грят, баба его загуляла. Грят, с самим воеводой… А Щуплецов этот не стерпел сорому… Такой вот фортель выкинул…
Тем временем гренадеры опустили ящик в яму, начали заступами тяжело крошить промерзшую землю и сгребать в яму. Ни священника, ни воинского караула. Особенно поразило Овцына и Дементьева то, что в неровный холм над могилой один из гренадеров вместо креста вбил осиновый кол.
Стараясь не глядеть на рыдающую вдову, воротились к саням.
– Женщины жестоки к страданьям тех, кого не любят… – задумчиво молвил Овцын, садясь в розвальни и запахивая полу епанчи. – Припоминаю я этого Щуплецова, видел его как-то у того же воеводы: невзрачный такой, тихий… А пил изрядно…
Дементьев тоже припомнил усопшего. Познакомились в местном кружале. Щуплецов рассказал, что служил некогда сержантом в столице в одном из гвардейских полков и в захудалый гарнизон был переведён по крайней бедности, так как не смог справить себе мундир к парадному расчёту. «Наверное, этот переезд пришёлся не по нраву супруге, вот и задурила», – подумал Дементьев.
Об этом и сказал Овцыну.
– С женой Щуплецова все ясно: журавль в небе показался дороже синицы в кулаке… – согласился тот. – Не зря же говорят, что баба задним умом живёт, она пока с печи летит, семьдесят семь дум передумает… Одного не пойму, Авраша – про воеводу здешнего. С виду такой приличный человек, семьянин и хозяин хлебосольный, и в церкви Божьей все заутренние выстаивает…. Да и в летах уже… А тоже, гляди, на блуд потянуло…
– Что Лямзин? Не токмо он один, – глубокомысленно изрек Дементьев, – я вот в бытность…
Он запоздало прикусил язык, понял, что чуть не выдал себя. Ещё в тридцатом году по заданию Тайной канцелярии он разбирался с делом астраханского губернатора генерал-майора Менгдена, который при живой жене вступил в связь с молоденькой попадьей Пелагеей, а от мужа её попа Андрея, проведавшего это, откупился пятьюдесятью рублями… Генеральские амуры так и остались бы незамеченными, если бы после скорой смерти батюшки губернатор не поместил любовницу прямо у себя в доме и не стал с ней жить открыто. Тамошний епископ увещевал его, но безрезультатно, о чём и сообщил в Тайную канцелярию. Эту историю и хотел рассказать Овцыну. Выкрутился, вспомнив слышанную от Фильки присказку:
– Сколько не мой гагару, белей не станет!
Овцын не заметил оговорку Дементьева:
– Кол-то как забили в могилу! – он всё ещё переживал похороны самоубийцы.
– Ужо не восстанет, не будет по ночам бродить… – со знанием дела подтвердил вездесущий Филька, выполнявший в поездке роль возницы. – У нежити своего облику нету, она в чужих личинах ходит, то девкой молодой прикинется, то старичком дряхлым. Токмо ни души, ни плоти у ней нету. Вид один. Словом, воинство сатанинское, архангелом Михаилом свергнутое…
– Цыц, хам, не встревай, пока не спросят! – прикрикнул на слугу Дементьев.
…Всё это вспомнил он теперь. Покачал головой, соглашаясь и не соглашаясь со словами Овцына о пропащей душе.
– Mea culpa[76], – сказал он, – но жить не хочу, confiteor[77]!
– Что ж, и мне прикажешь пулю в лоб пустить, ежели меня чина лишили? – неожиданно рассердился Овцын.
– Чин твой, Дмитрий, к тебе возвратится, рано или поздно, а она ко мне – никогда!
Овцын поднялся и сверху вниз поглядел на Дементьева:
– Погибели ищешь? Так просись с нами в плаванье. Вернёмся оттуда или нет, одному Господу ведомо. Если не суждено будет воротиться, так хотя бы встретишь смерть по-флотски, зная, за что жизнь отдал!
Дементьев тоже встал, вдруг просветлел лицом и порывисто обнял Овцына.
Когда отстранился, увидел, что Овцын улыбается. Улыбка была по-детски открытой и такой доброй, что Дементьев не удержался от ответной улыбки и спросил уже вполне добродушно:
– Над чем изволишь смеяться, сударь?
– Да над предстоящим тебе выбором, Авраам Михайлович.
– Что-то не пойму, поясни-ка.
– Если хочешь увеличить вероятность своей героической погибели, так просись на «Святого Петра», где за капитана наш капитан-командор… Ты же знаешь, я глубоко уважаю Витуса Ивановича и многим ему обязан… Но, как говорили древние: Платон мне друг, но истина дороже…
– Опять загадками говоришь!
– Никаких загадок, одни факты. Когда шли в Авачу Первым Курильским проливом, командор явил всё своё корабельное искусство. Семь дней водил нас от скалы к скале, ежечасно меняя галс… Даже Ваксель, что был у него вахтенным помощником, и тот растерялся от его команд. Знай молился да клялся, что за всю жизнь не подвергался такой опасности… Как на рифы не сели, до сей поры не ведаю. Шлюпку потеряли… а могли бы и живота лишиться! И это заметь, Авраам Михайлович, в каботажном плавании! Что же будет в открытом море?
– Нет уж, лучше я к Алексею Ильичу Чирикову в команду попрошусь…
– А что так? Неужто помирать расхотелось?
Глава вторая
Главный столоначальник Тайной канцелярии Николай Иванович Хрущов собрался выходить в отставку. До желудочных коликов надоело ему многолетнее сидение в присутственном месте, перекладывание бумаг с угла на угол, чтение премерзостных доносов и столь же неприятных объяснений. Зело опостылело ведение протоколов на допросах с пристрастием, где рвут сердце на части крики пытуемых, к коим так и не привык за годы службы. Уж больно разочаровывает в человеческом роде однообразное зрелище неутоленной людской гордыни, телесной слабости и душевной тщеты.
По летам ему уже в самый раз – сидеть с удочкой на берегу речки в собственном именьице, что в Ингерманладнской губернии. Оно досталось ему по наследству после суда над приверженцем Волынского, придворным архитектором Еропкиным. Ловил бы пескарей да грел на солнышке зябнущее тело… Но тяжки вериги земные, как любит повторять преосвященный епископ Амвросий Вологодский. Епископ – ровесник Хрущова, частый гость в Тайной канцелярии, без его духовного благословения в последние годы не вершится ни один суд над государевыми преступниками. А ещё любит Амвросий с устатку выпить с генерал-аншефом Ушаковым мозельского, а после с Хрущовым отпить «сатанинского зелья» – кофея, коий варить мастер. Неспешно, по-стариковски, ведут они долгие беседы, из которых Хрущов черпает для себя некоторые полезные сведения по службе, а епископ узнаёт подробности светской жизни. От архипастыря набрался Хрущов библейских истин, даже увлёкся чтением Екклесиаста – древнего мудреца с царственными корнями, изрекшего, что всё – суета сует!
И то правда. В последние месяцы, как на каторгу, являлся он в свой кабинет с потёртыми стенами, массивным шкапом, тяжёлым дубовым столом и узким окном-бойницей. Нехотя принимался разбирать утреннюю почту. Это был целый ритуал, в котором с давних пор всё оставалось неизменным, а теперь ещё и обрыдлым.
Сперва смотрел доносы от дворцовых и посольских служителей. Этих всегда было с избытком. Нынче соглядатаи доносили, что повадился к великой княжне Елизавете Петровне с визитами французский посланник Шетарди, а герцогиня Бенигна Бирон устроила выволочку придворному художнику Вишнякову, посмевшему написать её портрет так натуралистично, что стали видны оспины на высочайшем лике. Особый тайный агент при дворе фаворита сообщал, что их светлость герцог Курляндский после рождения 12 августа сего 1740 года наследника престола Иоанна Антоновича сделался так задумчив, что никто к нему и подойти не смел. Как не вспомнишь тут Екклесиаста, что советовал: «Даже в мыслях не злословь царя и в спальной комнате своей не злословь богатого, потому что и птица небесная может перенести слово твое, и крылатая – пересказать речь твою». «Будто вчера писано», – удивился Хрущов. Отложил отдельно донос про Бирона и взялся за полицейские сводки.
О ватагах беглых крестьян сообщали из Казанской и Воронежской губерний. В Кинешемском уезде в вотчине отставного поручика Бестужева-Рюмина крестьяне «миром» повязали местных батюшку и дьячка, которые после обедни разругались и стали перед прихожанами обвинять друг друга в разбое, чем себя и выдали. И уж совсем из ряда вон выходящее сообщение – каптенармус Лабоденский со своими людьми в июле сего года напал на усадьбу своего соседа, отставного прапорщика Ергольского. Как пишет доноситель, «умышленно скопом приступали ко двору его в селе Которце с огненным ружьём, с дубьём и с кольём, и сам он, Лабоденский, по нём, и по жене, и по дочери его из пистолета стрелял многократно, а крестьянин его Ермолай Васильев из фузеи палил. От такого стреляния дочь его, Ергольского, девица Мария, со страху едва жива осталась…»
Хрущов покривился, дивясь эпистолярным талантам полицейских чинов: им бы трактаты об амурах писать, а не служебные реляции, и перешел к стопке бумаг с пометкой: «Академия наук». Здесь более всего было сообщений от президента Иоганна Шумахера. Академик этот был немец, но не из «фонов»[78], хотя в России всякий инородец нынче себя «фоном» корчит. Он давно вызывал у Хрущова подозрения частыми встречами с прусским и саксонским посланниками, чрезмерной старательностью в обличении недостатков сотрудников академии. Слишком уж это напоминало поговорку: злые люди доброго человека в клети поймали! Были у Хрущова сведения, что не без содействия Шумахера пропадают из академической библиотеки секретные карты, старинные фолианты, ученые трактаты. Несколько раз предлагал Хрущов Ушакову привести лукавого академика в канцелярию под конвоем и здесь испытанными приемами узнать всю правду.
На эти призывы Ушаков отвечал уклончиво:
– Что ж, ай, детина, может, и впрямь сей Шумахер – сущий негодяй, но арестовывать его мы не станем.
– Отчего же, ваше высокопревосходительство?
– Больно хорошо карты рассчитывает! Нынче доброго картографа во всей Европе не сыщешь…
– Какой же он картограф, ваше высокопревосходительство, ежели по академической ведомости математиком числится? – удивлялся Хрущов.
Ушаков, обычно терпеливо выслушивающий его, тут рассердился:
– Много на себя берешь, ай, детина! Приказано сего Шумахера пока не трогать, пусть даже и шпионит он в пользу иностранного потентата!
Хрущов только руками разводил и продолжал еженедельно читать доносы Шумахера на членов академии. Впрочем, и сведения о самом Шумахере складывал в отдельную папку: и то – утешение, ежели ничего иного предпринять не волен.
Нынче Шумахер переслал донос адъюнкта Стеллера на капитан-командора Беринга. Стеллер, отправленный в экспедицию два года назад, успел перессориться со всеми офицерами, но более всего негодовал на самого начальника. «Во всём принят не так, как по моему характеру принять надлежало, но яко простой солдат и за подлого от него Беринга, и от прочих трактован был, – писал он, – и ни к какому совету я им, Берингом, призван не был…»
Далее Шумахер сообщал, что имеет сведения об астрономе Людвиге Делакроере, дескать, тот устроил в экспедиции запрещённую торговлю табаком, а на вырученные деньги беспробудно пьянствует. К доносу прилагалась копия письма к астроному, где Шумахер, выгораживая себя, писал: «Мне досадно входить в такое неприятное дело, которое вы себе навязали. Если бы вы позаботились с большим усердием о ваших академических занятиях, то, может быть, теперь не имели бы неудовольствия быть в раздоре с людьми, которые могут вам повредить. Берегитесь, чтобы Академия не начала против вас судебного преследования, потому что вы пренебрегаете ею. Позволительно ли это не писать в Академию в продолжение шести лет? Где ваши наблюдения? Поверьте, что сумею заставить вас дать отчёт в ваших работах…»
Хрущов усмехнулся. Он догадался, против кого направлен донос Шумахера. Ходили слухи, что президент академии был в крайне неприязненных отношениях с двоюродным братом Делакроера – Жозефом Делилем, ещё одним иноземцем, много лет обретающимся в российском парадизе. Сей ученый француз тоже был у Хрущова на суспиции, сиречь на подозрении. Да никак не удавалось его подцепить на крючок, ибо был Делиль скользок, как угорь или те самые устрицы, коими парижане любят полакомиться.
«Очевидно, академики что-то не смогли поделить промеж собой, но сие забота ученого совета, а не моя», – Хрущов отодвинул письмена Шумахера и открыл последнюю папку – адмиралтейскую.
Здесь оказались два письма, которые пришли в канцелярию из Охотска. Одно от лейтенанта флота Плаутина, другое, долгожданное, от флотского мастера Дементьева.
Хрущов начал с доноса Плаутина, оставив письмо своего протеже напоследок.
Плаутин сообщал заслуживающие внимания известия о том, что жена капитан-командора Беринга якобы едет из Сибири с большой партией незаконно купленных там мехов, а ещё что везет она с собой какие-то важные бумаги от капитана Шпанберга к некоему неизвестному иноземцу… Впервые за нынешний день глаза у Хрущова заблестели – наконец-то что-то настоящее, имеющее касательство к государственным интересам, к той задаче, которую и должна решать Тайная канцелярия. Старый служака, предвкушая удовольствие, с каким выслушает сие известие Ушаков, даже потёр ладонь о ладонь. С таким же надеждами распечатал письмо Дементьева, надеясь из него почерпнуть достоверные сведения о том, что творится в экспедиции.
Он начал читать, по-детски шевеля губами. По мере чтения лицо его принимало всё более недовольное выражение. Дементьев просил в своем письме о каком-то геодезисте Гвоздеве, невинно осуждённом, а по сути своего задания не писал ничего, даже малой догадки не выдвинул.
«Что за пентюх бестолковый! – вознегодовал Хрущов. – Я ли тебя не учил, в чём секрет нашей службы, я ли не говорил тебе, что надобно, подобно курице, кучу дерьма перерыть, прежде чем золотое зёрнышко отыщешь! Ведь не раз и не два, аки щенка слепого, носом в лужу тыкал! Всё без толку! Где это видано, чтобы какой-то сторонний флотский офицер выведал больше, чем особый служитель Тайной канцелярии?..»
Он ещё раз перечёл письмо Дементьева и в сердцах махнул рукой: «Ну, не за что глазу зацепиться, чтобы Ушакову хоть что-то дельное о работе тайного агента доложить! Эх, Авраша, Авраша! Еще и государева преступника Гвоздева приплёл, заступаться надумал! Ну, точно, без царя в голове…»
Давно ведь замечал Хрущов, что сынок его закадычного друга Михайлы Арсентьевича Дементьева немного не в себе, вроде как не от мира сего. Полагал, что сие произошло в нём от раннего сиротства. Взял под своё крыло, помог с продвижением по службе. Но и здесь особого толку от молодого Дементьева не добился. Не единожды заставал его праздно уставившимся в окошко канцелярии, одергивал:
– Что ты всё мечтаешь, голубчик Авраам Михайлович, ровно какой-нибудь подьячий… Уединение и раздумья пристойны монаху, но не чиновнику Тайной канцелярии. Запомни: кто с усердием пачкает пергамент чернилами, тот не способен на настоящий поступок! А служба – это, прежде всего, поступок! Посему послушай старика: дурными мыслями голову себе не забивай. Служи! А наперед выучи-ка куплет, что я от одного копииста слыхал:
- Прочь вы, перья, прочь бумага,
- Пала в сердце мне отвага.
- Из подьячих вон я рад,
- Лучше буду я солдат!
Отправляя Дементьева в экспедицию, Хрущов надеялся, что настоящее дело переменит его. «Ни одно учение не обходится без огорчения и потерь, – думал он. – Важно, чтобы неудачи не приводили к унынию, а успехи к самонадеянности».
Теперь, спустя годы, Хрущов вынужден признать, что Дементьев не оправдал возлагаемых на него надежд. Но Хрущову очень не хотелось, чтобы об этом узнал Ушаков. Да и сына друга было по-отцовски жаль.
Он напялил на лысую, угловатую голову высокий парик, бывший в моде ещё при императрице Екатерине, и, поджав и без того узкие губы, задумался, что станет докладывать нынче генерал-аншефу.
Ушаков доверял ему, как опытному и преданному служаке. Хрущов хорошо знал, что важно начальнику. Текущие полицейские доносы из провинции Ушакова мало интересовали, а вот всё, что касалось императорского двора и людей, близких к нему, тех, от коих может зависеть судьба империи и, более того, судьба его самого, он никогда не пропускал. Так же подробно начальник интересовался всем, что связано с иностранными резидентами и с государевыми секретами.
Значит, очень кстати будут сведения о жене командора Беринга, полученные от Плаутина. Однако вопреки привычке – не смешивать личное со служебным, Хрущов нынче решил представить сии сведения заслугой Дементьева: «Так иль не так, Ушаков не станет дознаваться, коли факты найдут подтверждение. А телку неразумному – Авраше добро сделаю напоследок, пока ещё могу… Не нами ведь придумано: не тот писарь, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо подчищает».
С этими настроениями он и отправился на аудиенцию. Пока шёл по длинному коридору, продумал краткие предложения, которые по традиции ждёт от него Ушаков в конце каждого доклада. Относительно жены Беринга они были просты и действенны: в Тобольске опечатать вещи командорши, под конвоем препроводить в Москву, где секретарю Московской конторы Тайной канцелярии Василию Казаринову надлежит опечатанный багаж вскрыть и досмотреть уже по всей строгости, сделав упор на поиск секретных бумаг…
Ушакова он застал на пороге кабинета. Генерал-аншеф был при полном параде, с голубой Андреевской лентой, но вид у него был встревоженный. Он жестом остановил Хрущова, мол, недосуг, обронил:
– Буду во дворце… – и широко зашагал к выходу.
Хрущова едва не сбил с ног метнувшийся за Ушаковым адъютант, шепнул:
– Матушку-императрицу нынче удар хватил… – и помчался вслед за начальником, бренча шпагой.
Хрущов возвратился к себе. Стащил с головы парик, утёр взмокший лоб, глянул на вечный стенной календарь Фосбейна и нашёл на нем нынешний день – 5 октября 1740 года от Рождества Христова.
– Одна занавеска китайская, шитая шёлком по алой канве с зелёным подзором, подержанная… Одна жаровня китайская тож, изготовленная из красной меди, новая… – монотонно оглашал название всякой вещи, извлекаемой из сундука, офицер таможенной сибирской стражи. Он осмотрел жаровню со всех сторон, как покупатель в лабазе, переложил её в отдельную кучу, к уже осмотренным пожиткам семьи командора Беринга. – Один чайник китайский финифтяной, другой серебряный… Одна кукла медная китайская, на пружинах…Одне клавикорды, подержанные… Шесть ящичков лаковых с чернилами китайскими… Белье, скатерти, салфетки… Девять кукол китайских и одна с острову Япон…
Анна Матвеевна, скорбно поджав губы, исподлобья наблюдала за происходящим. Поначалу она билась за своё добро, точно львица за детенышей:
– Я – жена капитан-командора Беринга, начальника экспедиции! Я буду жаловаться адмиралу Головину! Я до самого регента, его высочества сиятельного герцога Курляндского дойду! – кричала она.
– Опоздали, госпожа командорша. Нет более регента Бирона… – сухо сказал другой офицер в преображенском мундире, сидевший в углу избы и в осмотр вещей не вступавший.
– Как нет? Где же их светлость? – опешила Анна Матвеевна.
– Бывший герцог низложен, арестован и сослан в Пелым на вечное поселение. Вот манифест государя нашего императора Иоанна Антоновича, прочтите! – он протянул пергамент.
Анна Матвеевна прочла осевшим голосом:
– «Сей Бирон дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать и притом с употреблением публичных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которыми не только любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. Посему нашли мы себя по усердному желанию наших верных подданных духовного и мирского чина оного герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оное правительство поручить нашей государыне-матери…»
Она растерянно вернула манифест офицеру. Мысли её путались: «Неужто теперь грудной младенец Россией управлять станет? Ловко устроилась великая княгиня Анна Леопольдовна… А мне-то что делать?»
– Вы все поняли, сударыня?
Она кивнула.
Второй офицер прекратил рыться в сундуке и спросил:
– Имеете ли вы бумагу на иноземные товары?
Она достала из дорожного сундучка бумагу, протянула её офицеру в зелёном мундире, в котором определила старшего.
– Господин офицер, здесь справка из Якутской таможни, в которой показано, что все вышеописанные товары куплены на домовую нужду, а не на продажу. И приобретены оные мужем моим капитан-командором Берингом за полученные из казны блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Императорского Величества жалованные деньги…
Офицер читать справку не стал, заметил иронично:
– А не многовато для казённой зарплаты ваш супруг барахлишка-то прикупил? Одного серебра на двадцать восемь фунтов набралось, три четверти пуда, почитай!
Анна Матвеевна, не моргнув, заверила:
– Всё наше, потом и кровью нажитое.
– А не имеете ли вы перевозить с собой неких государственных секретов? – неожиданно упёрся ей в глаза старший офицер.
Ноги у нее сами собой подкосились, она опустилась на скамью и зарыдала. Анна Матвеевна плакала долго и так безутешно, что могла бы растопить и ледяное сердце. Однако, поднося к лицу ажурный платочек с кружевами и утирая слезы, она не упускала случая бросить пытливый взгляд на то на одного, то на другого офицера.
Они оставались безучастны.
«Что за мужчины пошли? Куда подевались среди них романтики, готовые ради амора на поступок? Бесчувственные, деревянные чурки! В глазах – ни жалости, ни сострадания… – внезапно её пронзил страх. – Значит, они ищут карту! Этого мне токмо не хватало!»
Но, как не раз бывало, именно страх и заставил её взять себя в руки. Она поняла, что бояться особенно нечего: карту с начертанием Япона и побережья Ламского моря, полученную от Шпанберга, она, следуя неясным предчувствиям, успела спрятать среди детских вещей ещё на подъезде к Тобольску. Их, по счастью, досматривать не стали.
Она вытерла слезы и даже рискнула перейти в наступление:
– Пока вы, господа офицеры, здесь с хрупкой женщиной воюете, мой супруг жизнью рискует, дело государственной важности выполняет!
Старший офицер никак не среагировал на слова командорши, а младший ответил официально, давая понять, что разговор окончен:
– Мы действуем по инструкции. Приказано составить опись вашего багажа, опечатать и доставить оный под конвоем в Москву.
– Может, и меня под конвоем? – улыбнулась она.
Офицер остался строг:
– О вас, сударыня, ничего не сказано. Токмо о багаже.
– Так я могу быть свободна?
– Вас никто более не задерживает…
Она встала, вздёрнула голову и, не удостоив офицеров даже взглядом, резко повернулась и вышла из избы.
В доме местного пастора, выходца из числа пленных шведов, где она с детьми остановилась, Анна Матвеевна дала волю чувствам.
Оттаскала за косу якутскую девку Наталью, которая верно прислуживала ей уже много лет, строго наказала расшалившихся детей и успокоилась лишь после того, как выпила пару рюмок казёнки, настоянной на местных травах, поднесённых ей сердобольной хозяйкой.
Придя в себя, Анна Матвеевна задумалась, что делать дальше. Коли пока миновала угроза быть задержанной с секретной картой на руках, на первый план выступала другая задача – вернуть себе арестованные вещи и не заплатить налоги за вывозимые из Сибири иноземные товары и ценную рухлядь. Для того, считала она, хороши все средства.
Анна Матвеевна кликнула Наталью, протянула ей монетку:
– На! И вот что, Наташка, поди-ка ты к таможне. Дай там денежку, чтобы медный котел для варки еды тебе вернули. Скажешь, мол, детям барыни суп варить надобно. А заодно разузнай, где сундуки наши хранят и много ли стражи? Но гляди, денежку отдашь, если котёл вернут. Не прежде того! Уяснила?
Через час Наталья вернулась без котла и без монетки, которую, по её словам, стражники отобрали.
– Барыня, не браните меня! Вырвали из рук, псы цепные…
– Ладно, шут с ней, с монетой. Где вещи наши?
– В амбаре, что у Прямского взвоза. Вход двое охраняют… Старый да малый…
– Значит, инвалиды из Тобольского полка. Это хорошо, – кивнула Анна Матвеевна. – А амбар, ты говоришь, у взвоза? То есть за пределами Кремля? И это – кстати.
Последнее обстоятельство более всего обрадовало её: значит, нет надобности кремлевскую стражу подкупать. Да и не удалось бы незаметно ничего из Кремля вывезти…
Она обвела горницу просветлевшим взглядом, задержала его на резном графинчике с казёнкой и, довольная, отпустила прислугу:
– Ступай, Наташка. Позову, если что!
Вечером у таможенного амбара появилась весёлая компания. Четверо изрядно подгулявших мужичков устроили на полянке игру в свайки. Брали в кулак гвоздь и резким броском втыкали его в землю, пытаясь попасть в лежащее кольцо. Поскольку все были навеселе, получалось это у них несуразно и вызывало приступы смеха у наблюдавших за игрой караульщиков.
Один из мужиков взъярился:
– Чо, служивый, рот-от раззявил! Гы-га да гы-гы! Сам бы попробовал поначалу попасть…
– Да проще простого! – завелся караульщик. Он передал свою пищаль и бердыш товарищу и вступил в игру.
– Только, чур, по совести играть, не жилить!
Следом за ним незаметно втянулся в игру и второй охранник. Играющие разделились на две группы. Поставили на кон магарыч. Когда игра закончилась, послали одного из проигравших к целовальнику за выпивкой.
Он споро приволок две четверти медовухи. Победители и побеждённые на радостях побратались, напились до зелёных соплей и уснули здесь же, у ворот.
Вскоре к амбару подкатило несколько подвод. С одной из них раздался тонкий свист.
Мужики, что играли в свайку, мигом протрезвели. Один из них зажег масляный фонарь, подошёл к первой подводе:
– Все исполнено, барыня, как вы велели.
– Открывай амбар! – приказала Анна Матвеевна.
Ключами, снятыми с пояса караульщика, не мешкая, открыли замки на воротах, вошли внутрь. Анна Матвеевна тут же отыскала свои сундуки. Не моргнув глазом, взломала таможенные печати на них и приказала подручным:
– Перегружайте всё в мешки! А в сундуки положите камни, что на второй подводе лежат!
Когда всё было исполнено, она опечатала сундуки своей печатью. Ворота амбара закрыли. Ключи возвратили на место, и подводы укатили.
При утренней смене караула ничего обнаружено не было. Хватились, что на сундуках другие печати, только при погрузке в обоз, едущий в Москву.
Капитан Ушаков провёл суровое дознание и вышел-таки на дежуривших в ту ночь караульщиков. Один из них, солдат Кондин, при допросе с пристрастием признался, что нарушил инструкцию и на посту играл в свайки, но причину подмены печатей на сундуках не ведает.
Допросили пастора, у коего квартировала командорша. Он твердил одно, что ни о каких сундуках с вещами не слыхивал, в глаза их не видывал, а жена капитан-командора Беринга вместе с детьми уже неделю как уехала в Санкт-Петербург. Ничего с собой из поклажи не взяла и наказала, чтобы багаж после проверки был доставлен в её дом в Морской слободе по известному адресу.
Ушаков выругался и отпустил пастора. Тем же днем, вслед самоуправной Анне Матвеевне, полетело в столицу секретное донесение о случившемся, адресованное грозному родственнику капитана, и при новом правлении сохранившему свой пост начальника Тайной канцелярии.
Маскарад в доме французского посланника Иохима Жака Тротти маркиза де ля Шетарди был в самом разгаре. Мерцали сотни свечей в позолоченных люстрах и изысканных канделябрах. Звучал струнный оркестр. Гости, скрывая лица масками, развлекались: танцевали, играли в шахматы. Эта мудрёная игра снова возвратилась в салоны после смерти Анны Иоанновны и низвержения Бирона, более предпочитавших карты.
Сам хозяин дома с одним из гостей уединился в кабинете, расположенном на втором этаже и выходившем большим окном в танцевальную залу. Сняв маски, они пили игристое вино и вели неспешную беседу.
– Как говорил старик Монтень, люди ни во что не верят столь твердо, как в то, о чём они меньше всего знают. Не сердитесь, mon ami[79], это напрямую относится к вашим астрономическим прогнозам. Хотя я хорошо понимаю вас: говорить полную правду о будущем небезопасно. Особенно если прогноз адресован сильным мира сего…
– Если вы вспомнили Монтеня, мне куда ближе, господин маркиз, его высказывание о философии… – сказал гость, внимательно разглядывая крупный бриллиант на своем кольце.
– Какое именно изречение вы имеете в виду, мсье Делиль?
– В основе всякого мудрствования лежит удивление, развитием его является исследование, а концом – незнание…
Маркиз сделал глоток вина из высокого резного фужера и покачал головой, увенчанной двурогим париком:
– Милый Делиль, это высказывание вовсе не противоречит тому, что мы с вами прекрасно знаем: польза от любой философии не доказана, а вред… – он сделал многозначительную паузу, – очевиден!
– Но только в том случае, если она не приносит материальной выгоды…
– О какой выгоде вы говорите? Конечно, когда один глупец произнесет какую-нибудь глупость, всегда найдутся другие глупцы, которые постараются превратить её в реальность. Свет всегда был таким, таким и пребудет вечно… – маркиз отодвинул тяжёлую штору, приглашая собеседника подойти к окну. – Вы видели, сегодня у меня на машкераде в гостях весь Санкт-Петербург? Вон тот господин, в маске орла, это не кто иной, как генерал-фельдмаршал Миних – победитель самого турецкого паши и… герцога Курляндского. Истинный орел! Узнаете?
– Верю вам на слово, господин маркиз. А кто с ним так оживленно беседует?
– Этот очаровательный принц со стройными ножками – вовсе не принц, а великая княжна Елизавета Петровна. А вот эта скромная фигура в вороньей маске и черном плаще, что наблюдает за ней, её новый паж и фаворит…некто Иван Иванович Шувалов… Il fait des passions…[80]
Маркиз вздохнул:
– Ах, если бы княжна была не столь легкомысленна, она бы далеко пошла… Наш с вами земляк и лейб-лекарь Елизаветы Арман Лесток сетует, что она меняет амантов еженедельно…
Делиль осторожно не согласился:
– Советую вам, господин маркиз, внимательнее присмотреться к сей любвеобильной дщери Петровой. Она – вовсе не так проста, как кажется. Тем более принцесса Елизавета, как никто другой при нынешнем дворе, ориентирована на французскую моду. А это несомненно нам на руку и очень может пригодиться, особенно теперь, когда новая правительница так откровенно заигрывает с Саксонией и Пруссией… – Делиль мило улыбнулся собеседнику, пытаясь сгладить менторский тон своего замечания.
Маркиз не стал спорить:
– Да, вы правы, дорогой Жозеф, принцесса Елизавета – наш единственный шанс. Анна Леопольдовна по отношению к королю Людовику ведёт себя как belle-mйre – мачеха из сказки Шарля Перро… И это обстоятельство играет на руку врагам Франции и совсем не нравится нашему сиятельному монарху. Скажу более, в своём послании Его Величество попросил меня кардинальным образом повлиять на ориентацию российского двора…
– Для этого мы здесь и пребываем, чтобы недругов делать друзьями, – снова мило улыбнулся Делиль. Его нарумяненное лицо выражало полное восхищение хозяином, и комплимент не заставил себя ждать. – Для вас, господин маркиз, с вашим известным красноречием и умением расположить к себе, мне кажется, ничего невозможного нет…
Лесть была столь прямолинейна, что казалась правдой. Довольная улыбка скользнула по тонким губам де ля Шетарди. Он знаком пригласил гостя к столику с вином и фруктами. Налил ему и себе, и они продолжили беседу.
– Заметьте, дорогой Делиль, красноречие не всегда признак удачливости, – всё ещё не остыв от комплимента гостя, заметил маркиз. – Например, в Древнем Риме оно процветало больше всего, когда дела шли хуже, а именно в моменты войн и восстаний рабов. Не напоминает ли вам это картину невозделанного и запущенного поля, где пышно разрастаются сорные травы?
– Male herba cito crescit – плохая трава быстро растет. Вы, господин маркиз, совершенно правы, утверждая, что толпа подобна сорнякам. Она точно так же не знает удержу…
– Но, мой ученый друг, у толпы есть и положительные качества: ей свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками речей политиков, как моряки пением сирен…
– Да, ваша светлость, по счастью, толпа управляема.
– Как тут опять не сослаться на нашего Монтеня: кто расшатывает трон, чаще всего первым гибнет под его обломками. Плоды смуты никогда не достаются тем, кто её вызвал: они только всколыхнут и замутят воду, а ловить рыбу будут уже другие. Тут лишь бы не промахнуться и не поссориться ненароком с будущими победителями…
– Я думаю, вам, милый маркиз, такое обстоятельство никогда не грозит. Вы – само олицетворение мудрости, соединенной с обаяньем, – Делиль в очередной раз умильно улыбнулся и кокетливо заморгал подкрашенными ресницами.
Шетарди не успел ему ответить.
Музыка в зале стихла. За дверью кабинета послышался шорох.
– Qui ici? Кто здесь? – насторожился маркиз и походкой стареющего фавна, неслышно ступая по толстому персидскому ковру мягкими туфлями на высоких красных каблуках – атрибутом последней парижской моды, подкрался и резко распахнул дверь.
За нею никого не было. Маркиз выглянул в коридор.
По длинному арочному проходу, ведущему к лестнице, быстро удалялось какое-то непонятное существо с непомерно большой головой, короткими ножками и ручками.
– О, исчадье Сатаны! Он подслушивал! Уже в своём доме нельзя ни о чем говорить спокойно! – вскричал маркиз. Благодушного настроения у него как не бывало.
– Кто это был, господин маркиз?
– Карла, шут! Наушник! У русских просто повальная мода на этих жалких выродков. Каждый мало-мальский вельможа норовит завести себе с десяток карликов и шутих. И каждый второй из них находится на содержании у этого ужасного генерала Ушакова… Что за манера всюду таскать с собой уродов!
Делиль торопливо закрыл дверь в коридор и принялся успокаивать Шетарди:
– Вовсе не обязательно, что сей гном – чей-то шпион. Может, карлик просто заблудился в вашем дворце и случайно зашел на галерею…
– Я не верю в случайности, мой друг, тем более в этой чертовой стране, где каждый – ищейка Тайной канцелярии!
Маркиз с трудом взял себя в руки и уже вполне спокойно, как и полагается человеку высшего общества, резюмировал:
– Впрочем, даже в дикой России, слава Всевышнему, никто ещё не отменял дипломатической неприкосновенности. Если Ушакову приспело знать, о чём мы говорили, пусть знает! Большее, что нам грозит, так это – скорейшее возвращение в наше милое отечество. А это было бы совсем неплохо…
Делиль склонил голову, соглашаясь с хозяином, но оптимизма маркиза не разделил:
– С русскими надо всегда держать ухо востро, – впервые за вечер серьезно произнёс он. – Никогда не знаешь, что у них на уме. Когда я гляжу на любого из них, у меня, господин маркиз, постоянно возникает такое неприятное ощущение, что предо мной некая пружина. На неё можно давить, сжимать, но только до определённого предела. И горе тому, кто попадёт под удар, когда пружина разожмётся!
– Об этом удивительном свойстве русских лучше помнить не нам с вами, а господам Миниху и его приятелю герцогу Брауншвейг-Люненбургскому. Это они изо всех сил жмут на эту, как вы выразились, пружину… А мы? Мы только наблюдаем.
– Пока живем в этой унылой стране, забывать об осторожности и нам не резон…
– Ах, давайте оставим. Неужели не найдём тему интересней?
– Что может быть интересней новостей? Я припас для вас несколько самых свежих, – Делиль снова оживился и с видом фокусника, извлекающего из рукава цветные платки, принялся излагать всё то, что ему стало известно. – Во-первых, нынче начата распродажа имущества опального Бирона. Доложу вам, дорогой маркиз, там есть много занимательного. Настоятельно рекомендую полюбопытствовать и побывать на аукционе в Шлиссельбургском дворце. Уверен, вы сможете пополнить вашу коллекцию китайского фарфора… А другая новость касается вашего коллеги – английского посланника лорда Финча. Он вдруг воспылал к свергнутому регенту такой же ненавистью, как совсем недавно пылал горячей любовью. Не далее как вчера в беседе с князем Шаховским, бывшим обер-полицмейстером, Финч позволил себе об этом недвусмысленно заявить, чем привел князя, и так ожидающего опалы, в полную растерянность и испуг.
– Какая же это новость? Все знают, что лорд Финч меняет свое мнение так же быстро, как меняется направление ветра на Ла-Манше…
– О, эти англичане всегда так непостоянны, хотя сами считают себя истинными приверженцами традиции.
Маркиз усмехнулся: