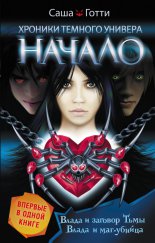Крест командора Александрова Наталья

– Мне сие обстоятельство не известно, ваше превосходительство.
– А мне всё ведомо! – Ушаков встал из-за стола, подошел к Дементьеву, навис над ним, как неотвратимое возмездие. – Посему, ай, детина, врать мне не сметь!
Дементьев был готов разрыдаться:
– Да я, разве, я… И не помышляю, ваше пре… – голос его осекся.
Ушаков вернулся за стол и спокойно, уже безо всякого нажима, спросил:
– Знаешь ли ты Беринга, ай, детина?
– Чести быть представленным капитану Берингу не имел, – едва справляясь с собой, произнес Дементьев, – но о делах его славных наслышан.
Ушаков хмыкнул:
– Так ли уж славных?
Дементьев, к которому опять вернулось самообладание, отвечал уже более твердо:
– В «Санкт-Петербургских ведомостях» писано академиком Герардом Миллером, что экспедиция под началом господина Беринга изобрела пролив между северными и восточными морями. Сей пролив позволит водяным путем из Лены до Япона, Хины и Ост-Индии беспрепятственно добраться. И называется сей пролив Аниан, ваше превосходительство…
– Ага, молодец, ай, детина! – похвалил Ушаков. – В географии ты силен и ведомости читаешь. А такие читывал ли?
Он поднял со стола большие желтые листы:
– Ну-ка, глянь!
Дементьев уставился на незнакомые буквы, как баран на новые ворота:
– Не по-нашему писано, ваше превосходительство. Я по-немецки обучен, аглицкую грамоту разбираю. Но такой язык мне не ведом…
Он осторожно положил газету на край стола.
Ушаков снова усмехнулся:
– То-то и оно, что не ведом. Сия ведомость из Копенгагену – датского парадизу. Мне она, ай, детина, тамошним российским корешпондентом прислана. И перевод приложен. Так вот, сообщает сия ведомость все подробности плавания упомянутого Беринга, коий, да буде тебе известно, датчанин по происхождению. Заметь, всё в датской газетке есть – количество судов, построенных на Камчатке, широта, где пролив, поименованный Анианом, обретен. А ведь оная экспедиция была сугубо секретной, в чём её участники руку приложили. Скажи, откуда у чужеземцев такая осведомленность? Чего это им так знать охота, что в нашем Отечестве деется?
Дементьев не знал, что ответить.
Это не понравилось Ушакову. Он нахмурился, но продолжал говорить ровно:
– Сие есть большой политик, и ясно, что не твоего ума дело. Но скажу, а ты запомни: нет в Европе друзей у Отечества нашего. Все, кто нынче к нам лабзится, завтра нож в спину воткнуть норовят. Спокон веку так, с самых незапамятных времен. Потому и должно нам бдить! Намедни была перехвачена депеша голландского посланника барона Зварта. Кажись дружественная нам держава, ан курьер на дыбе сообщил, что направлен к грифферу, сиречь хранителю тайн тамошнего правительства. Записку, цифирью тайной писанную, выдал. Над цифирью, ай, детина, голову наши копиисты поломали изрядно и всё же прочли. Так вот, голландский борзописец извещает, что господин Беринг предложил ему, при соблюдении всяческой предосторожности, копию карты, которую составил в путешествии. Зварт же намеревается вставить на место русских названий голландские и переслать оную карту в Амстердам …
– Прикажете арестовать капитана? – глаза Дементьева заблестели, как у гончей, почуявшей дичь.
– Горяч ты, ай, детина! Кабы всё так просто было. Всё куда запутанней. В Адмиралтейств-коллегию еще год назад поступил рапорт от капитана Чирикова, бывшего помощником Беринга в экспедиции. Он не токмо упрекает начальника своего в неисполнении инструкций покойного государя нашего Петра Алексеевича, но и докладывает о мошенничестве с казенным хлебом, в котором повинны, дескать, капитан Беринг и лейтенант Шпанберг. Чириков, по отзывам, моряк знатный, человек справедливый и к лукавству не склонный. Уже по рапорту его надлежало бы сих иноземцев, пребывающих на службе морской, к разделке привести. Однако нашлись у них защитники. На самом верху… – Ушаков со значением воздел глаза к низкому потолку и умолк.
Подождав, пока Дементьев уразумеет услышанное, продолжил:
– Беринг, очевидно, боясь следствия по делу о хлебных закупках, успел представить правительству прожект под названием: «Предложения об улучшении положения народов Сибири». Тут же следом подал записку о второй Камчатской экспедиции. Эти прожекты перевел на немецкий язык тот самый академик Герард Фридрих Миллер, статью коего ты, ай, детина, поминал. Обер-секретарь Сената господин Кирилов, большой охотник до разных путешествий, передал сии бумаги обер-камергеру Бирону. А тот, на радость Берингу, их поддержал. В мае прошлого года кабинет Ея Императорского Величества принял решение об улучшении управления Охотским краем и Камчаткою. Более того, нынче на подписи у государыни находится указ о снаряжении новой экспедиции на Камчатку, и начальствовать над нею, как ведомо мне, вновь будет Беринг. Не сегодня-завтра последует высочайшая резолюция… Понятно, ай, детина, что теперь нельзя сего капитана арестовать?
– Что прикажете, ваше превосходительство? – преданно глядя в лицо начальнику, спросил Дементьев.
Ушаков про себя усмехнулся: экое всё-таки дитя, но сказал веско:
– Отправишься на Камчатку вместе с Берингом. Будешь в его экспедиции моими глазами и ушами. Выяснишь доподлинно, кто государевы секреты ворует, награжу щедро. Проморгаешь – кишки выну, – он окинул ещё раз Дементьева взглядом с головы до ног и заключил: – Да, заруби себе на носу, ай, детина, не тот вор, кто ворует, а тот, кто ворам потакает! Отправляйся, с Богом! Остальное тебе Хрущов растолкует!
Когда за Дементьевым закрылась дверь, Ушаков долго сидел в задумчивости, выстукивал пальцами барабанную дробь и гадал: ошибся или не ошибся он в своём выборе.
– Э, голубчик, да на тебе лица нет! – заметил Хрущов, когда Дементьев возвратился к нему.
Сам секретарь в этот момент пил кофе, по-стариковски причмокивая и отдуваясь. Предложил и Дементьеву:
– Садись, попей-от кофею, Авраша. Согрей душу!
Он усадил Дементьева, который от пережитых треволнений и впрямь был сам на себя не похож, за стол. Поставил перед ним стакан зелёного стекла, плеснул туда кофе из видавшего виды кофейника. Придвинул стул и уселся рядом.
Увидев, что Дементьев не пьёт, спросил:
– Ну что, голубчик?
– Ваше высокоблагородие, Николай Иванович, за что мне сия немилость? – простонал Дементьев и неожиданно разрыдался, как мальчишка.
– Ну, полноте, голубчик, полноте… – Хрущов засуетился, не зная, как его успокоить, и вдруг рявкнул: – Встать! Шпагу из ножен!
От неожиданности Дементьев вскочил, схватился за эфес. Слёзы мигом высохли.
– Так-от оно лучше, голубчик! А то ишь, чиновник для особых поручений, а мокрое дело развел, словно девка на выданье, что первый раз суженого увидала. Да отпусти шпагу-то, не ровен час меня заколешь али себя пырнешь… – почти ласково произнес Хрущов.
Дементьев вложил шпагу в ножны, и Хрущов повторил приглашение:
– Ты кофею попей, Авраам Михайлович. Полегчает…
Пока Дементьев, обжигаясь и давясь, пил отдающий гарью напиток, Хрущов выговаривал ему:
– Страшен кус на блюде, а съестся, так слюбится… Счастья своего ты не разумеешь, голубчик! Великий талан тебе выпал: от «самого» поручение поимел. А что на край света посылают, так не горевать, а радоваться надобно: больше на виду будешь. В парадизе-то – катавасия: куртаги да машкерады, а там – дело живое, новое. Где, как не в таком деле, молодому человеку отвагу свою и преданность порфироносной правительнице нашей явить, а? Словом, пока молод, послужи-ка в дальних краях, голубчик, в столице наживешься ещё…
– Нет на то моей воли, ваша милость, – промямлил Дементьев.
– Ах, Авраам Михайлович, всякий из нас невольник либо обстоятельств, либо страстей. Ну да хватит, прекратим препирательства, – оборвал Хрущов.
Он встал, прошёл в угол комнаты, открыл дверцу неказистого шкапа и извлёк с полки пергамент. Вернулся к столу, спросил:
– Ты ведь, голубчик, кажись, учился в морской академии?
Дементьев кивнул, пытаясь разглядеть, что за бумага. Ничего не разобрал, кроме того, что бумага китайская, дорогая, с водяными знаками.
– А теперь отвечай, да не скрытничай! Ты был отчислен по невозможности родителя собрать денег тебе на прокорм и одежду? – спросил Хрущов.
Дементьев покраснел и пробурчал что-то невразумительное.
– Ты не мычи, рапортуй по регламенту! – вместо участливого старика, только что потчевавшего его со всем радушием, на Дементьева взирал гневный начальник.
– Точно так, ваше высокоблагородие, – вытянулся Дементьев. – После академии переведен был в Московскую навигацкую школу, что в Сухаревой башне. Оную так же не окончил по причине смерти батюшки моего…
– Это поправим, голубчик, – уже ласковей сказал Хрущов, протягивая пергамент. – Сей именной рескрипт на твоё имя об окончании математическо-навигацкой школы и присвоении тебе чина флотского мастера.
– Зачем сей подлог? – покраснел Дементьев.
– Иноб ты не знал, а то ведь сказано: закрывом идешь – ни одна душа о тебе догадки иметь не должна. Подлога же по чинам и вовсе нет, флотский мастер твоему статскому званию равен. В нашем ремесле так ведётся, что негоже пренебрегать никакой малостью! С кем учился в морской академии, помнишь?
– Как сие забыть! Конечно, помню. Михайло Гвоздев, Димитрий Овцын… Последний самый добрый приятель мой был, а преподавал нам науку мореходную унтер-лейтенант Чириков Алексей Ильич. Тот самый, что с Берингом ходил!
– Вот и ладно, – довольно потер руки Хрущов. – Чириков как раз людей для новой экспедиции подбирает. К нему и отправишься поутру в Адмиралтейство. Заодно и с приятелем своим Овцыным повидаешься. Пусть походатайствует. Да памятуй: будь осторожен с тем и с другим, себя не выдай. На землю плюнешь, обратно плевок не подымешь! Нарочно нынешний день тебе оставляю, дабы морской устав заново перечёл и то, чему в школе навигацкой учили, вспомнил. От завтрашнего дня весь успех твоего поручения зависит. Я, разумеется, постараюсь помочь, но более на себя полагайся, голубчик! Возьми вот на прощание подарок от старика, – Хрущов достал из кармана сюртука крошечный карманный пистоль, повертел его на ладони, похвастался: – По особому заказу изготовлен, с пяти шагов трехдюймовую доску прошибает! Держи, голубчик, авось пригодится, – он протянул пистоль Дементьеву.
У порога они с Хрущовым обнялись, троекратно расцеловались. Дементьев вышел из присутственного места и направился к себе на квартиру.
У самых ворот крепости услышал, как на колокольне ударили к заутрене, и подумал: «Надо же, всего час прошел, как из дому, а уже вся жизнь наперекосяк!»
Горькие мысли не покидали Дементьева весь день. Давно позабытые науки не лезли в голову. Он злился на Хрущова, на Ушакова, на Беринга с этой его дальней экспедицией. Злился на весь белый свет. Со зла, видать, и накушался казёнки, которую верный Филька в долг раздобыл в соседнем кружале. Но и казёнка не спасла от тяжких дум: что ждёт в грядущем?
Спал Дементьев плохо. Его мучили кошмары, и наутро он встал ещё боле не в духе, чем накануне. Однако выбора не оставалось. Он перекрестился на икону Николая Чудотворца, надел белую рубаху, натянул свой старый гардемаринский кафтан: канифасный, чёрного цвета. Потянулся. Нитки под мышками затрещали, но ткань выдержала.
– Раздались вы, барин, в плечах, возмужали! Новый бы мундир справить… – подал голос Филька.
– Справим, коли живы будем! – буркнул Дементьев.
– Может, рассольчику, барин, принесть? – не унимался Филька.
– Отстань, дурак!
Дементьев надел долгополый офицерский плащ, треуголку. Глянул на себя в зеркало:
– Машкерад… – и вышел из дому.
Адмиралтейство встретило его разноголосым гулом, топотом сапог и башмаков, хлопаньем десятков дверей. Он не был здесь с петровских времен. Теперь во флоте, ежели верить рассуждениям знакомых моряков, многое переменилось: корабли стоят у прикола, гниют в бездействии, а в море не выходят. Но здесь, в Адмиралтействе, пока перемены не ощущались. Пахло смолой и пенькой, морские служители переносили из залы в залу оружие, парусину, топоры, лопаты, ядра. Без конца входили и выходили курьеры.
Дементьев отвык от подобной сутолоки и даже поначалу растерялся. Он застыл на первом этаже посреди приёмного зала и потерянно озирался по сторонам. Вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.
Оглянувшись, встретился глазами с красивой барыней, стоящей у высокого окна. Сколько ей лет – тридцать пять или сорок, он не разобрал. Заметил только яркие румяна, черные брови вразлет и богатую меховую пелерину.
Неожиданно барыня улыбнулась ему, приподняв насурменные брови, и тут же погасила улыбку, но томных глаз не отвела.
Щёки у Дементьева полыхнули.
– Вот так фря…
– Важная, видать, особа… – послышалось за спиной.
Дементьев обернулся. Мимо проходили два морских служителя. Они, так же как он мгновение назад, поедали глазами красивую барыню. Перехватив взгляд Дементьева, матросы умолкли, но, отойдя чуть в сторону, продолжили разговор:
– Знаешь, кто такая?
– Да, супружница нашего…
Дементьев напряг слух, но так и не разобрал, чья же жена эта незнакомка.
Его окликнули:
– Здорово, брат Дементьев, ты как здесь?
Он увидел протискивающегося к нему сквозь толпу улыбающегося офицера:
– Овцын, ты?
– Я, а кто ещё?
Они обменялись рукопожатиями и обнялись. Когда Дементьев снова поглядел в сторону окна, красавицы барыни там уже не было.
Глава вторая
В пыточной избе пахло горелым. Тяжёлые капли медленно срывались с низкого потолка, гулко шлепались о грязный пол. Лениво потрескивали лучины в поставце, синеватыми огоньками перемигивались остывающие уголья в закопчённом железном лотке, где вперемежку лежали орудия для истязаний: щипцы, крючья, клейма.
Дюжий кат, отбросив в сторону окровавленную плеть, тяжко отдуваясь, вытер пот с лица рукавом пропревшей насквозь рубахи. Выжидательно уставился на дьячка, сидящего за неструганым столом, – поодаль, там, где в обычных избах красный угол. Худосочный, похожий на сморщенный гриб дьячок пристально разглядывал кончик гусиного пера, только что извлеченного из обшарпанной чернильницы.
– Акинфий, ты тараканов в чернила натолкал? Я уже второе перо загубил… А оно нынче дорого стоит… Чего молчишь? – дьячок перевёл прищуренный взгляд на ката.
Акинфий, высунув обрубок языка, промычал что-то нечленораздельное и ткнул пальцем в сторону человека, висящего на дыбе.
– Брось болтать! Энтот тараканов в чернила не насуёт, у него – все тараканы в башке! Эвон выдумал: мол, никому неведомую матёрую землицу оне сыскали… Ну-ка, всыпь ему, чтоб врать было неповадно! Кака така землица, где она?
Кат поднял кнут, замахнулся, но ударить не успел.
Гулко бухнула входная дверь. Что-то громыхнуло в сенях. Вслед за седыми клубами морозного воздуха, низко пригнув голову в треуголке, в пыточную ввалился начальник Охотского порта Скорняков-Писарев. Не удостоив дьячка даже кивком, он прошёл к столу и, едва не смахнув допросные листы, скинул с себя суконный плащ, остался в поношенном, без знаков отличия преображенском мундире – зелёном, с широкими красными обшлагами – словно по локоть в крови.
Оробевший дьячок подскочил с лавки и застыл в поклоне, не зная, как приветствовать вошедшего. Говорят, новый начальник прежде громадную власть имел, но после утратил. Здесь, в Сибири, оказался. В Сенатском-то указе ничего не сказано о возвращении ему генеральского чина и звания многих орденов кавалера. Диковинно сие: сам ссыльный, а над всеми государевыми людьми командир! Впрочем, в прежние лета и не такая ажиотация случалась. Знающие люди сказывали, что сам светлейший князь Меншиков в Москву голодранцем пришёл, с одной денежкой за щекой, а как вознесся… Светлейший, опять же по слухам, нынешнему начальнику первейшим дружком приходился. По дружбе, видать, и упёк Скорняка на край земли… Сюда, в Охотск, прямо из ссылки он и назначен… Не от того ли и зол, как пёс цепной? Да куда до него псам? При нем даже местные собаки хвосты поджимают, чуют – лютый, загрызть может!
Дьячок осторожно приподнял голову и снова застыл в позе, выражающей самое большое почтение. Начальник, передвинув шпагу (ой, не по чину, повешенную на перевязь!), уселся на лавку, поморщился – ну и вонь! – и рявкнул:
– Говори!
Дьячок торопливо доложил:
– По обряду, каким обвиненный пытается, ведём допрос сего геодезиста Гвоздева Михайлы… Не винится никак.
Он перевел дух и, оправдываясь, добавил:
– Тисками персты сего злодея зажимали, лили на темя студёную воду. Голову веревкой стягивали, пятки берёзовым веником палили. Всё – без толку. Нынче добываем истину на дыбе…
– Довольно, – остановил дьячка начальник: перечисление пыток ему явно было не по нутру. «Знать, на своей шкуре испробовал», – догадался дьячок и внутренне подобрался – битый пёс злее становится.
Начальник помолчал какое-то время, потом перевёл стылый взор с дьячка на ката, а с того на дыбу. Спросил угрюмо:
– В чём повинен?
– Взят по доношению Кольши Денисова, ссыльного из матрозов, обретавшегося при поварне. Гвоздев в кружале в изрядном подпитии сказывал, будто хаживал к неведомой Большой земле, напротив Чукотского носу. И, дескать, землица сия знатная. И так, мол, оная схоронена в море-окияне, что туда, прости Господи, антихристово племя вовек не доберетца. Нету там, мол, ни господ, ни ампиратрицы, а Гвоздеву будто бы путь известен и карта имеется…Тут Кольша и вскричал: «Слово и дело государево». Обоих и повязали…
– Под пыткой слова поносные подтвердились?
– Матроз хлипкой оказался… Всё пересказал, еще до дыбы. Но по обряду должно было трижды его к потолку подтянуть. Так он на второй виске преставился… – дьячок боязливо умолк, ожидая, что скажет начальник. Но тот молчал, и дьячок продолжил:
– Помереть ему, ежели разобраться, и не мудрено было: Акинфий с пятого удара мясо до костей сдирает, а с десятого, случается, и до станового хребта пересечёт… А энтот, – кивнул он на пытаемого, – покрепче, двенадцать плетей получил, а молчит, ну, вылитый Акинфий, хо-хо. Кат-от у нас с некоторых пор не болтлив – язык у него урезан…. – дьячок сдержанно хохотнул и снова, испугавшись, придал физиономии постно-преданное выражение.
– Молчит? А ежели он неповинен, что тогда? Ежели, согласно обряду, и после третьей дыбы не окочурится и донос не подтвердит, ужели отпустишь? – начальник пристально взглянул на дьячка.
– Как прикажет ваше превосходительство, – бывший титул начальника вырвался из уст дьячка невольно, будто бы сам собой, но произвёл необходимое действие. Угрюмое лицо Скорнякова-Писарева немного размякло. Заговорил он странно и непонятно:
– Пытка не есть испытание истины. Она скорее испытание терпения, ибо утаивает правду и тот, кто в состоянии пытку вынести, и тот, кто не в состоянии… Боль заставит признать и то, что есть, и то, чего не было. Уразумел?
Дьячок кивнул слишком торопливо, чтобы это было правдой.
Начальник заметил, усмехнулся:
– Э, видать, сии мыслительные экзерсисы не для тебя. Ладно, дьяк, продолжай, ищи истину! Авось отыщешь…
Он встал, накинул плащ и перед тем, как уйти, распорядился:
– Допросные листы принесёшь ко мне. Почитаю…
Посещение пыточной разбередило душу Григория Григорьевича. Столько лет таил он под неприступным видом разгневанную гордыню. Усердно топил в вине приступы совести. Думами о страшной мести изводил в себе остатки человечности. Ан нет – живучая тварь, душа – не сгинула, встрепенулась, заныла…
И хотя, говорят, что прежде всего вспоминает человек личные обиды, на этот раз память не стала изводить его картиной правежа над ним – потомком древнего панского рода, чьего предка Семёна Писаря сам великий князь Василий Васильевич за верную службу пожаловал многими вотчинами. Не напомнила, что вершился сей неправый суд по воле бывшего разносчика пирожков с требухой, лепшего «камрада» по потешным игрищам, а ныне – светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Не заставила сжаться сердце воспоминанием, как на посмешище толпе на его спине взбугрились и остались навсегда страшные кроваво-синие рубцы…
Нет, память явила совсем иное: обнажённые дебелые руки и пышущие жаром щеки отставной царицы Евдокии Фёдоровны, когда её, прямо с пуховой постели, в одной сорочке привели к нему на допрос в Суздальском монастыре.
Что и говорить, не по монастырским канонам жила новообращённая монахиня: и платье носила мирское, и по-царски ела и спала. Даже на новое имя Елена, данное при постриге, не откликалась, требовала величать её государыней и матушкой-царицей. И всё это творилось при попустительстве ростовского епископа Досифея, ярого противника реформ. Он даже закрыл глаза на то, что у Евдокии появился полюбовник – амант, некий майор Глебов, голубоглазый и златовласый красавец. Он прибыл в Суздаль для набора рекрутов, да задержался – себе на погибель! При каких именно обстоятельствах удалось сему Глебову познакомиться с царицей-монахиней, и после пытки осталось неведомо. Но, видать, был он в амурных делах не промах, а Евдокия, истосковавшаяся по мужской ласке, оказалась крепостью, готовой к сдаче. Тут, трезво рассудил Григорий Григорьевич, когда б не Глебов, так другой кто сыскался…
Скорняков-Писарев даже поймал себя на мысли, что майору было трудно устоять перед столь вызревшей красотой. Всё тело царственной монахини дышало такой разбуженной женской силой, что Григорий Григорьевич едва сдерживал вспыхнувшее желание рвануть ворот тонкополотняной сорочки и здесь же, в покоях игуменьи, где проводилось дознание, овладеть Евдокией. Она, очевидно, тоже почувствовала его потаённый мужской порыв, напряглась, стала ещё желанней. Ан сдержал он себя, не посмел нарушить приказ Петра Алексеевича: голосом устрашай, правду выпытывай, а руками не тронь!
С Глебовым и Досифеем, напротив, велено было не церемониться. Григорий Григорьевич и не церемонился: сам, в роли ката, пытал, ломал кости, жёг грешную плоть нечестивцев калёным железом, покуда не вырвал у обоих признание в совершившемся прелюбодеянии и потворстве ему. Майора и епископа четвертовали, а Евдокию, отрицавшую всё, упрятали для покаяния теперь уже в настоящую келью. Но хотя и посадили бывшую царицу на хлеб и воду, а жизни всё же не лишили: как-никак, а она – мать государева наследника.
Думал ли тогда Скорняков-Писарев, что и самого царевича Алексея ему доведется пытать, когда лукавым обещанием полного прощения вернёт его отец в Россию после побега за границу…
Не думал не гадал, а пришлось. Расценил он и это царское поручение как проявление высочайшего доверия…
И здесь действовал Григорий Григорьевич ничтоже сумняшеся. И подпись свою под смертным приговором Алексею смело поставил рядом с подписью Меншикова. А следовало бы поостеречься, когда светлейший под чем-то подписывается…
Позже выяснилось, что это он, Меншиков, побег царевича и спотворил, выдав ему и полюбовнице его – девке Ефросинье заграничные паспорта и тысячу рублей взаймы. Тогда бы уже призадуматься Григорию Григорьевичу: с чего это расщедрился бывший пирожник, никогда щедростью не отличавшийся, а всё норовивший собственную мошну за чужой счёт пополнить? Расчищал ли место для другого наследника, малолетнего Петра Петровича – сына Екатерины, сиречь Марты Скавронской, пассии своей бывшей, а ныне первой заступницы за него перед государем, или куда подальше заглядывал?
Лишь после смерти императора сумел прозреть Григорий Григорьевич давние замыслы светлейшего князя самому править Россией. А тогда, в восемнадцатом, и впрямь в измену Алексея Петровича поверил, в правоте творимого над ним суда не усомнился. Вместе с Меншиковым и удавили они царевича в каземате Петропавловской крепости, выполнив невысказанную вслух царскую волю.
Государь по достоинству оценил эту веру в правоту любого его повеления. Скорняков-Писарев получил чин полковника гвардии, ему был поручен надзор над работами по строительству Ладожского канала и заведование морской академией. Оба назначения сулили новый взлёт по служебной лестнице. Но тут удача от него отвернулась: ни с тем ни с другим делом он не справился. Старался, да, видно, перестарался. Установил в морской академии такой строгий порядок, что избалованные дворянские дети, не вынеся регламента, чуть ли не каждый четвёртый в бега подались. И на канале работы застопорились. Тут опять подкузьмил князь Александр Данилыч: деньги казённые взял, а поставку работных людей не обеспечил…
Петр Алексеевич нерасторопности да разгильдяйства ни в каком деле не терпел. Строительство тут же перепоручил иноземцу Миниху, а морскую академию – Нарышкину. Самому Григорию Григорьевичу досталась иная «награда» – в мастерской механика Нартова отходил его государь дубинкой и назначил состоять при Минихе в помощниках. Тут еще, совсем не ко времени, всплыла ссора в Сенате с тогдашним вице-канцлером бароном Шафировым, и ещё доброхоты донесли государю о недавнем попустительстве Скорнякова-Писарева в расследовании дела о незаконных поборах князя Меншикова. К стене припер Петр Алексеевич своими вопросами, что, мол, скажешь в своё оправдание? Но не предал Григорий Григорьевич старого товарища. Всю вину взял на себя. Князь в долгу обещал не остаться, коли всё с рук сойдёт. Везунчику Меншикову и впрямь сошло, а Скорнякова-Писарева разжаловали в солдаты и лишили всех имений.
Но государь был горяч да отходчив: умел карать, но не забывал и миловать. В мае 1724 года от Рождества Христова высочайшим указом Григорий Григорьевич был по всем статьям прощён, вновь приближен к императору и оставался при нём до самой его кончины, когда в числе ближайших сподвижников удостоился чести нести гроб с телом упокоившегося преобразователя Отечества.
Ежели бы и князюшка Александр Данилович обладал таким же благородным сердцем, как покойный государь, так и сегодня пребывал бы Григорий Григорьевич в чести да почёте. Но откуда взяться благородству у пирожника?
В двадцать седьмом году, после кончины Екатерины Алексеевны, когда решался вопрос о престолонаследии, окончательно разошлись их с Меншиковым пути-дорожки. Скорняков-Писарев вместе с полицмейстером столицы генералом Антоном Девиером примкнул к партии, желавшей воцарения одной из двух цесаревен – дочерей Петра, а светлейший князь в последний момент сделал ставку на императорского малолетнего внука – сына казненного Алексея. Рассчитывал, что при нём станет в России полновластным хозяином, и снова не ошибся – сумел одержать верх.
По заведенной традиции всех переворотов, сразу после победы светлейший расправился с противниками: лишил их чинов, имений, подверг пыткам и сослал в Жиганское зимовье, что в восьмистах верстах от Якутска. Правда, и сам недолго удержался у власти, через год был свергнут Долгорукими, сослан в Берёзов, где вскоре и почил в бозе.
Впрочем, от новости этой, когда она спустя два года доплелась до якутской глухомани, Скорнякову-Писареву легче не стало: на его судьбе ни торжество Долгоруких, ни их крушение, ни приход к власти курляндской герцогини Анны Иоановны поначалу никак не сказались. Более того, новая правительница, занятая судом над «верховниками», попытавшимися ограничить её власть, вопреки обычаю – прощать обиженных – прежним правителем не стала. Вступив на трон, как будто забыла о них…
Долго тянулись в ссылке дни, а тем паче – ночи. Многое передумал Григорий Григорьевич в убогой избушке, зимой – заметённой по самые оконца, а летом – плотно окутанной болотными испарениями. Он то пил горькую, злясь на судьбу. То раскаивался и жил тверёзо. Думал: может, и впрямь ссылка – расплата за то, что прежде грешил – судил, наказывал, живота лишал? Каялся Григорий Григорьевич, а после злился на себя и на собственное раскаянье. Потом сызнова раздумывал, как было бы, если бы поступил иначе, в том или другом случае. Крутил, вертел, а в итоге выходило, что по-иному и быть не могло: как говорили древние, жестокое время, жестокие нравы – не будешь ты гнуть других в бараний рог, самого согнут! Да ведь и не свой суд он вершил, а выполнял волю помазанника Божия. Выполнял беспрекословно: по-иному и не положено слуге государевому. За что же тогда сия кара?
В мае тридцать первого года последовал указ о назначении ссыльного Скорнякова-Писарева командиром Охотского острога. Сей указ доставили в Жиганское зимовье лишь в ноябре. Но только в канун следующего Васильева дня прибыл Григорий Григорьевич к новому месту ссылки чуть ли не в кандалах. Иначе и не скажешь, ведь чести-то ему так и не вернули, не накрыли плечи полковым знаменем и шпагу офицерскую, в боях за Отечество отличившуюся, не вручили. Он сам другую в Якутске у старьевщика купил, сам уже здесь, в Охотске, её себе на перевязь, на свой страх и риск, повесил – до первого приехавшего из столицы ревизора, который может за самоуправство под суд отдать. Словом, как был опальным, так им и остался…
Григорий Григорьевич захватил пригоршню снега, обтёр запылавшее лицо, точно хотел стереть всё, что вспомнилось, и тяжело зашагал по узкой тропинке, ведущей сквозь сугробы к командирской избе, ничем не выделявшейся среди других почерневших от времени строений острога.
Зайдя в избу, не раздеваясь, прошел в горницу в красный угол, бухнулся на широкую скамью, позвал:
– Катя!
Никто не отозвался. Григорий Григорьевич громче повторил зов:
– Катерина! Где тебя носит?
Послышались легкие шаги. В горницу вошла молодая светловолосая женщина. Одетая в грубый камлотовый сарафан, она двигалась с той грацией, за которой чувствовались высокая порода и благородное воспитание. Подняв глаза на Скорнякова-Писарева, тотчас склонила голову. Но и в этой позе не было ничего от рабской покорности.
– Сапоги сними! – приказал, вытягивая ноги.
Она молча преклонила колени и по очереди стянула с него ботфорты. Поставила их тут же, под лавку. Он остался в полосатых чулках. На одном из них сквозь дырку проглядывал большой палец с синеватым ногтем. Скорняков-Писарев тупо уставился на него. Перехватив взгляд, женщина кротко сказала:
– Я заштопаю, Григорий Григорьевич, нынче же…
Он поднял на неё глаза, окинул с головы до пят, будто никогда прежде не видел, и внезапно отмякшим голосом произнёс:
– Поди ко мне!
Она чуть-чуть подалась назад, прошептала:
– Ведь глядят…
– Кто? – не понял он.
– Образа… – она перевела взгляд на божницу, откуда и впрямь сквозь пламя лампадки на них с укоризной взирали Спаситель, Николай-угодник, Пресвятая Богородица.
Григорий Григорьевич сперва нахмурился, а после усмехнулся:
– Пущай глядят! Богу – Богово, а человеку – человечье! – крепко взял её за руку и властно притянул к себе.
Дождавшись, когда Григорий Григорьевич уснёт, могучим храпом сотрясая избу, Катя осторожно выбралась из-под его руки. Сунула ноги в коты и, накинув на плечи суконную шаль, тихо ступая, вышла на крыльцо. Полной грудью вдохнула студёный воздух и подняла глаза к выстывшему небу. Там ярко, словно вспышки фейерверка, сияли звёзды. Совсем как в родном Санкт-Петербурге, в те ночи, когда небо было свободно от туч. Правда, такое случалось нечасто. Зато шутихи вспарывали небеса почти еженощно, невзирая на капризы погоды. Государь Петр Алексеевич, его царственная супруга Екатерина Алексеевна, а пуще того, светлейший князь Меншиков любили огненные забавы.
Из родительского садика, разбитого позади дома, маленькая Катя часто наблюдала за фейерверками, взлетавшими над построенным на Васильевском острове дворцом Александра Даниловича – самым крупным строением новой столицы. В перерывах между вспышками салюта и треском крутящихся шутих она с замиранием сердца прислушивалась к вою встревоженных волков в соседнем лесу. Няня рассказывала ей, что недавно волки загрызли лакея, зазевавшегося на крыльце княжеского дома, а у литейного двора напали на задремавших караульных. Но ещё страшнее были её рассказы об оборотнях:
– Кто в лесу гладкосрубленный пень найдет, да ножик вострый-превострый в него воткнёт, да через ножик тот перекувырнётся, тут же волком-оборотнем станет…
– А как же ему снова обернуться в человека? – вздрагивая, спрашивала Катя.
– Надобно к тому самому пню с другой стороны зайти и снова через ножик перекувырнуться.
– Что же будет, когда нож кто-то другой выдернет? – хлопая густыми ресницами, звонким шёпотом вопрошала Катя.
– Свят, свят, свят! – быстро крестилась няня. – Тогда этот оборотень навеки волком останется!
Думала ли Катя в ту пору, что придётся ей жить в настоящем волчьем краю – в дикой Сибири?
Ничто не предвещало подобной судьбы.
…Катя родилась вскоре после Пасхи, через три года после того, как в 1700 году от Рождества Христова на Заячьем острове государем Петром Алексеевичем была заложена Петропавловская крепость. Катя появилась на свет как раз тогда, когда на другом берегу Невы вокруг пахнущей свежей смолой верфи поднялись дома первых горожан – одноэтажные, деревянные, но раскрашенные на голландский манер – под кирпич. Да и сама новая столица империи представляла собой в ту пору не один, а как бы два города, стихийно растущих на противоположных берегах. И хотя государь приказал переселять тех горожан, кто побогаче, на Васильевский остров – вопреки его воле настоящим центром нового парадиза всё же оставался левый берег, где помимо Адмиралтейства возвышались мазанковые двухэтажные здания Сената и Гостиного двора. Тут же до самой Мьи[7], в наскоро срубленных домишках, селились морские офицеры и басы – корабельные мастера. При этом все иноземцы строились по правую руку от Адмиралтейства, а русская слобода располагалась слева. Здесь жили и родители Кати.
Её отец Иван Суров был тверским дворянином-однодворцем. Он, кроме одноэтажного деревянного дома в отцовской деревне, не имел ни душ, ни угодий и по бедности своей никогда бы не выбился в люди. Закончил бы век приживальщиком у какого-нибудь именитого родственника или же тиуном в имении у богатого соседа. Но начатые царём преобразования открыли дорогу для таких, как он, молодых людей, пусть и не имеющих богатства, но неглупых и жаждущих послужить Отечеству. После окончания навигацкой школы Суров был назначен штурманом на малый корабль на Балтике. В строящейся столице на одной из ассамблей он познакомился с будущей матерью Кати – Марией, дочерью такого же небогатого дворянина, служащего при Адмиралтействе. Вскоре они повенчались в единственной на ту пору Троицкой церкви. И хотя Суров никакого приданого за Марией не взял, женитьба самым нечаянным образом помогла его продвижению по службе.
Двоюродная сестра Марии – Елизавета была замужем за Антоном Девиером. Он ещё юнгой познакомился с Петром Алексеевичем на верфях в Амстердаме и, приехав вслед за царём в Россию, сделал здесь стремительную карьеру. Будучи моложе Сурова на несколько лет, Девиер уже носил чин генерал-адъютанта и исправлял должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга. К тому же Елизавета была внебрачной дочерью светлейшего князя Меншикова.
По протекции новых родственников получил Иван Суров под начало галеру и честно прокомандовал ею более десяти лет. На ней вступил в очередную кампанию со шведом. Жена и дочь со слезами проводили его в поход, точно предчувствуя, что никогда больше не увидят. Поговорка: жди с моря горя, а беды от воды, оказалась пророческой. В знаменитом сражении при острове Гренгам в конце июля 1720 года лейтенант Иван Суров геройски погиб при абордаже шведского фрегата. В честь доблестной победы русского галерного флота была выбита медаль, на коей значилось излюбленное выражение Петра I: «Прилежание и храбрость превосходит силу». Медаль сия была вручена государем вдове и дочери погибшего, но послужила слабым утешением их горю.
Матушка Кати ненадолго пережила своего Ваню, вскоре начала чахнуть и через год отдала Богу душу. Только и остались Кате от родителей, что светлая память да песня, которую любила напевать матушка:
- Иван да Марья в реке купались.
- Где Иван купался,
- Берег колыхался.
- Где Марья купалась,
- Трава колыхалась…
Осиротевшую Катю взяли в свой дом супруги Девиеры, у которых собственных детей не было. Жилось ей у родственников не сказать, чтобы худо, но всё же не как в отчем доме. Тетушка Елизавета, конечно, жалела её, а дядюшка, напротив, был сдержан и даже суров. И вовсе не потому, что был он злым человеком. Просто Антон Эммануилович Девиер более всех людей любил канареек. Этих певчих птах он выписывал из-за границы, не жалея никаких денег. Мог часами наблюдать за диковинными птицами, кормил их, менял в блюдечке воду. И если о чем-то заговаривал с осиротевшей племянницей, так о своих канарейках.
– Слышите, ma chere[8], как они поют? – мешая русские и французские слова и покручивая смоляную прядь парика, с придыханием говорил он. – Эта золотистая oiseau[9], не смотрите, что так мала, может звенеть серебряным колокольчиком, а вот эта, зеленая, заливается овсянкою. Но дороже всех обошелся мне вон тот желтый красавчик. Он умеет свистеть и дудкой, и россыпью. О, сие настоящий пернатый Орфей! Charmant[10]!
Катя с неизменной улыбкою выслушивала дядюшкины восторги. Она еще не знала, какую злую шутку сыграет с ней его любовь к райским птичкам…
А пока она жила, так же как канарейки, – в золотой клетке, не ведая ни особого сочувствия, ни особых печалей. Со временем притупилась боль от потери родителей, и вскоре Катя начала выходить в свет.
Фортуна ей благоволила. Природные грация, красота, живой ум, да и близость дядюшки ко двору – всё это немало способствовало ее успеху. В восемнадцать лет Катя стала любимой фрейлиной императрицы Екатерины Алексеевны. Она ловко танцевала, без жеманства выслушивала комплименты, умела поддержать светскую беседу на французском и немецком. Придворные щёголи наперебой ухаживали за ней на ассамблеях и куртагах, но сердце её оставалось пока свободным от стрел Амура.
Известие об опале Девиера и предстоящей ссылке прозвучало для Кати как гром среди ясного неба. Предшествовавшая этому смерть Екатерины Алексеевны лишила её могущественной покровительницы. Следуя законам двора, мгновенно отвернулись от неё все прежние волокиты и куртизаны. Можно было, конечно, пасть в ноги к победившему в придворной интриге светлейшему князю Александру Даниловичу – как-никак родственник. Но отречься от опальных Девиеров и остаться в Санкт-Петербурге, как делали жёны и дочери некоторых ссыльных, Катя не смогла. Да и что были бы её просьбы, если Меншиков не пощадил собственной дочери и зятя.
Дядюшке, лишённому всех чинов и состояния, светлейший разрешил, точно в насмешку, взять с собой из всей челяди только одного слугу, а из имущества – канареек. Слуга на пути в Якутск подался в бега, а заморские пташки, привыкшие к неге, не выдержали суровой дороги: умерли одна за другой. Все кроме дядюшкиного любимца – жёлтого кенаря. Следом за птичками в первую же ссыльную зиму ушла из жизни и тётя.
Дядюшка тогда пристрастился к казёнке, пытался на дне бутылки найти утешение. А когда он напивался, так искал развлечение в картах. Официально запрещенная в столице азартная игра, очевидно, воспринималась им, как некий протест против опалы, да и время, что ни говори, скрадывала. Интересант, то бишь компаньон, в этих двух занятиях сыскался тут же – его товарищ по несчастью, бывший генерал-майор и обер-прокурор Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Какое-то время они были просто не разлей вода.
В один из вьюжных вечеров собутыльники засиделись в избе у Девиера. Они продымили всю низкую горницу трубками, громкими выкриками и препирательствами не давали Кате уснуть.
Играли в ломбер – новую игру, коей, по дядиным словам, незадолго до ссылки научил его по секрету французский резидент в Санкт-Петербурге Жан Маньян. Игра сия, как дядя узнал от соотечественника, в прошлом году в Париже была самым что ни на есть любимым развлечением знати, и французские аристократы проигрывали за ломберным столом целые состояния.
– А мы, генерал, с тобой ужели х-хуже пар-рижан? – икая, вопрошал Девиер у сотоварища. Как ни странно, когда дядюшка пьянел, то значительно лучше говорил и понимал по-русски. Хлебнув казенки, он продолжал: – Б-у-удем играть на деньги!
– Ладно… – кивнул гость. – Токмо у тебя, Антон, в одном кармане – блоха на аркане, а в другом – вошь на цепи…
– Как это вошь? Никакой вошь у меня нет и блёха тем паче!
– Коли нет ни тех ни этих… Что же мы поставим на кон, mon ami[11]? У меня вот часы есть… – Скорняков-Писарев извлек из кармана камзола огромную, как его кулак, часовую луковицу. Щелкнул крышкой, поднес к уху: – Аглицкие. Слышишь, ходят!
– Не слышу, но часы – хороший ставка…
– Хорошая. А ты что поставишь? Канарейку своего? Давай, ставь свою птицу! – гость и хозяин одновременно перевели взгляд на клетку, сиротливо висящую в заиндевевшем углу. В ней на жердочке, нахохлившись, сидел кенарь.
– Non! Нет! – вскричал Девиер и даже привстал с лавки. Он обвёл мутным взглядом избу: поставить на кон и впрямь было нечего. Внезапно остановил тяжёлый взор на Кате, на свою беду выглянувшей из-за перегородки, и ткнул в неё скрюченным перстом. – Её ставлю на кон!
– Дядюшка, опомнитесь! – пролепетала Катя.
Заявление Девиера потрясло даже видавшего виды Скорнякова-Писарева:
– Помилуй, Антон! Сия девица – не вещь твоя, а племянница! Ты за неё перед Богом в ответе, перед памятью покойной супруги… – трезвея, воскликнул он.
Но Девиер уже закусил удила:
– Я отвечу хоть перед Богом, хоть перед самим дьяволом! Тебе что, не нравится ставка? Смотри, какая красота! Станешь играть? Банкую!
Что было после, Катя помнит плохо. В памяти осталось только, как подошёл к ней Григорий Григорьевич и, пряча в карман серебряные часы, сказал:
– Ты, Екатерина Ивановна, вольна остаться здесь, ежели пожелаешь…
– Я здесь более не останусь, – потупилась она и добавила неожиданно по-немецки: – Erbarne dich mir![12]
Этим языком Григорий Григорьевич владел не хуже нее. Он загадочно поглядел на неё и сказал:
– Ich wollte das gerade … [13]
Она залилась краской. Все смешалось в ее душе: обида на дядюшку, ради которого пожертвовала столичной жизнью, а он не только не оценил её благородный порыв и потерянные в ссылке лучшие молодые годы, но ещё и поступил с ней так жестоко; чувство, что её жизнь кончилась, что она раздавлена, растоптана, предана, что ничего хорошего с нею уже не случится, что, значит, она только этого и достойна, если с ней поступают именно так. Ко всему этому примешивался какой-то необъяснимый страх: как она будет жить рядом с этим чужим, грубым человеком. Тут же пришли на память страшные истории, как молодые девушки оказывались содержанками жестоких стариков, с каким позором они заканчивали свою жизнь. Но она не была бы дочерью морского офицера, если бы показала, что боится. Да и лишённая всех сословных привилегий, принужденная жить, как простая крестьянка, Катя, несмотря ни на что, в душе продолжала оставаться дворянкой, которая когда-то царила на ассамблеях. И в пристальном взгляде Скорнякова-Писарева было что-то такое, что пробуждало в ней ту самую Катю, юную, окрыленную, заставляло вспомнить, как ей говорили комплименты, как почитали за честь получить согласие на контрданс. Этот взгляд словно побуждал её побороться за себя, за свое счастье, пусть даже оно и кажется сейчас невозможным…
Этой же ночью она перешла жить к Григорию Григорьевичу.
Проспавшись, пришел к нему в избу Девиер. На коленях выпрашивал он у Кати прощение, умолял вернуться. Лицо его было бледным, губы судорожно подергивались. Катя н слова не сказала, просто вскинула на него свой глубокий синий взор и повернулась, чтобы уйти. Дядюшка схватил её за руку и рванул к себе, но тут подоспел Григорий Григорьевич. Он вытолкал вчерашнего собутыльника взашей. Девиер сопротивлялся, грозил двери избы дёгтем вымазать, а Григория Григорьевича вызвать на поединок, но больше к ним не являлся, а встретившись на единственной улице Жиганска, торопливо переходил на другую сторону.
Что же касается дёгтя, так и тут поспешил дядюшка с обвинениями. Невенчанной женой Григория Григорьевича Катя стала не сразу. Поначалу жила в его избе просто как домоправительница, которой за неимением прислуги пришлось заниматься всем, что простые бабы знают с малолетства: печь топить, кашеварить, воду бадейками из проруби таскать, полоскать мужские портки и рубахи. Впрочем, Катя, живя в ссылке, уже привыкла к такому труду, притерпелась. Некогда изнеженные руки её огрубели, стали крепче. Порой даже казалось, что вся прежняя жизнь с плезирами и машкерадами, с ассамблеями и фейерверками ей просто пригрезилась. Что всегда жила она в этом диком краю и так же всегда был с нею рядом Григорий Григорьевич – жесткий, грубый с окружающими людьми, но всегда снисходительный к ней.
Постепенно привыкнув к нему, она стала думать, что любит его – умного, сильного, но несчастного, оболганного, сосланного в глушь, где нельзя проявить ни один из его многочисленных талантов, например, талант инженера. Ведь он такой необычный, не похожий на всех остальных, даже книгу сочинил: «Практика художества статического или механического. Краткое некоторое истолкование оного художества; пространное же истолкование истолковано будет впредь сочинившейся полной сей науки книге. Здесь же за краткостью слов оставлено, дабы в науку художества сего вникающим многословием охоты не отнять». Она наизусть, как «Отче наш», выучила мудреное название этой книги. Думала, сколько бы еще полезного для просвещения Отечества написал Григорий Григорьевич, если бы не ссылка? А может, и на самом деле полюбила…
Иногда ночью она подходила к лавке, где он спал, и подолгу разглядывала его большую, седую, лобастую, как у волка, голову. В такие минуты ей хотелось погладить его по жестким и колючим, как стерня, волосам, пожалеть, приголубить. Однажды Григорий Григорьевич простыл, его била лихоманка-костотряска. Катя легла к нему, чтоб остановить озноб. С той поры и стали жить они, хотя и без церковного благословения, но как настоящие супруги. Потому-то, когда Григория Григорьевича перевели в Охотск, Катя, не раздумывая, отправилась с ним…
Так почему же теперь, когда она глядит на бескрайнее звездное небо, такой грустью наполняется сердце? Откуда в горле этот судорожный ком: от сострадания ли к Григорию Григорьевичу или от жалости к себе, а может быть, от сочувствия ко всему свету, такому прекрасному и такому несправедливому?..