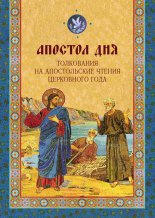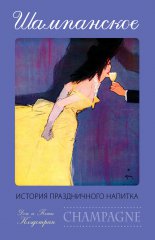О тех, кто в МУРе Вольфсон Семен

– Значит «Е. К.», паспортные данные. «Мы, нижеподписавшиеся: гр. Жирков В.И., паспортные данные, и гр. Самойлович Л.З., паспортные данные, подтверждаем, что на наших глазах у вышеуказанных граждан были изъяты две шоколадные конфеты, изготовленные… (тут Горевой заглянул на обратную сторону коробки и переписал дату выпуска). О чём и свидетельствуем своими подписями». Так. Это и есть самая трудная часть оперативной работы.
– В чём же трудность?
– А не все пускают в квартиру без ордера на обыск, как вы, например, а это разрешение не так просто получить, – усмехнулся Горевой, аккуратно складывая лист бумаги и пряча его в карман.
– Ладно, вы тут чаевничайте, а я пойду, себя в порядок приведу, скоро гости должны прийти: у нас медовый месяц.
– Товарищ майор, с вами бывало такое? Вчера вечером, часов в девять, после двух бокалов шампанского так в сон потянуло, будто бутылку водки выпил. Сегодня проснулся в двенадцать часов, и жена тоже. Что за шампанское?
– Со мной и не такое приключалось, один раз после стопки водки под столом оказался: жулики клофелину подлили. Однако засиделись мы у вас, спасибо за чай.
Горевой положил две конфеты в полиэтиленовый пакетик и сунул его в карман.
– А дверь, уважаемый, надо сначала на цепочку открывать: мало ли кто ходит.
Внизу их ждал уазик, присланный Григорьевым.
– А здорово вы их раскрутили, Леонид Семёнович. Это всё из-за той бумажки, которую в машине нашли?
– Правильно мыслишь, Лёвчик. Иной человек за такую улику кучу денег выложит, не моргнув. Только та ли эта корзиночка – вопрос. А сейчас – в управление, мне ещё к эксперту-криминалисту надо.
Капитана Владимира Александровича Осокина из-за моложавости все звали просто Володей. Горевой застал его за микроскопом в окружении множества пробирок и колбочек.
– Здорово, Володя! К тебе Григорьев заходил?
– Здорово! Был час тому назад. Срочной работы подкинул. Почти всё уже сделал, не знаю только, как с этой корзинкой из-под конфеты поступить. Отпечатков пальцев с неё не снимешь, сорт конфет определить не берусь, хотя на дне обнаружены микрочастицы шоколада.
– Вот я как раз по этому поводу, – Горевой вытащил из кармана полиэтиленовый пакет, а из него – два предполагаемых, пахнущих шоколадом вещдока. – Можешь сказать, из одной они коробки или нет? Одну возьмёшь себе в знак благодарности.
Володя почесал за ухом.
– Из одной ли коробки, точно определить не могу, зато скажу, одной ли сортности и свежести конфеты.
– Сколько тебе нужно времени?
– Часа два хватит.
Выходя в коридор, Леонид Семёнович чуть не столкнулся с оперативником из своего отдела.
– Пошли в столовую, а то всё съедят!
Горевой вспомнил, что с утра кроме двух бутербродов и чашки кофе ничего не ел, почувствовал голод, взглянул на часы и отправился вслед за коллегой.
В столовой Григорьев, стоявший в очереди, указал рукой на только что освободившийся столик:
– Садись, потолкуем. Тебе взять как всегда?
– Да.
Народу было много, все столы оказались заняты, и к ним присоединились два сотрудника, разговаривавших между собой, – беседы наедине не получилось.
– Серёжа, пойдем кофейку выпьем?
– Спасибо. Не хочу, в кабинете целый термос стоит.
– Тогда я к тебе часика через полтора зайду.
В буфете, в углу, за свободным столиком он увидел Николая Фомича.
– Разрешите, товарищ полковник?
– А, Леня! Садись. Что накопал, Шерлок Холмс?
– Только косвенные улики. Боюсь, следователю будет трудновато, нужны еще доказательства.
– С тобой Григорьев ездил?
– Да.
– С чего это замначальника следственного отдела выезжает на самое ординарное преступление? Решил в опера податься?
– Сказал, ему со мной работать интересно.
– А-а-а. Ну, это его дело, – Власов встал из-за стола.
Через некоторое время Горевой сидел в кабинете над старым делом, взятым в следственном отделе.
Таких «висяков» в его столе было несколько, но он не спешил сдать их в архив, втайне надеясь, что вдруг появится какая-нибудь зацепочка или ниточка, потянув за которую, можно распутать весь клубок.
Прочитав до конца, Леонид Семенович закрыл папку, убрал ее в стол и подумал:
– Дотошный и неглупый этот Капустин, вел дело логично и последовательно, бросил, когда уперся в непреодолимое препятствие – отсутствие улик.
Наконец, прошли назначенные два часа. Эксперт-криминалист сидел за столом, жевал бутерброд и отхлебывал маленькими глотками чай из фаянсовой кружки.
– Ну как, Володя?
– На, читай. «Представленная для экспертизы корзиночка от конфеты с места происшествия идентична образцам по форме и материалу. Обнаруженные в ней микрочастицы шоколада полностью совпадают с образцами по составу и по свежести. Подпись: эксперт-криминалист В. А. Осокин».
– Спасибо, Володя! Одну конфетку съел?
– Как договаривались, вместе с чаем. Вкусная.
– На здоровье! Ладно, не буду мешать.
И Горевой направился к Григорьеву.
– Вот что у нас есть. Первое: акт изъятия шоколадных конфет в корзиночках у супругов Воробьёвых. Второе: заключение экспертизы, на основании которого можно сделать вывод, что Воробьёва была в машине убитого. Третье: Воробьёв утверждает, что после выпитых двух бокалов шампанского проспал с вечера до двенадцати часов следующего дня, и что было ночью, не помнит. Четвертое: слепки следов женской обуви. А у тебя?
– Есть кое-что: в крови убитого обнаружен клофелин, на фломастере найдены отпечатки большого и указательного пальцев его правой руки, экспертиза набранного нами снега показала, что в сугроб была вылита водка без посторонних примесей.
– Да, неплохо. Но без обыска в их квартире не обойдёшься.
– Хорошо, а сейчас хотелось бы твою версию послушать. Не зря же ты ходил чай пить?
Горевой хмыкнул:
– Версия у меня есть. Во-первых, это убийство, а не самоубийство. Мотив – ревность, желание отомстить. По-моему, было так. Наталья Воробьёва, в девичестве Белявская, в старших классах по уши влюбилась в Колю Резакова. Не знаю, что у них было, только, когда его в армию забирали, она обещала ждать и дождалась. Отслужил Коля положенный срок, вернулся и через полгода закрутил с другой, из хорошей семьи. Я так понимаю, что его родители Наташкины не устраивали: чем такие в жизни помочь могут? А Наташке каково? Любовь-то, видно, не прошла. Вот и решила наказать своего бывшего. Раздобыла где-то клофелин, подлила вечером мужу в шампанское, а, когда он уснул, пошла в гараж, зная, что в это время Резаков будет там наверняка. Прихватила из дома бутерброды, несколько шоколадных конфет, по дороге купила бутылку водки, видимо, два пластиковых стакана, так и не найденные нами, и явилась к Николаю. Не знаю, о чем они говорили, но, видно, ни до чего хорошего не договорились. Тогда, улучив момент, она подлила Резакову в водку клофелин, дождалась, когда тот уснет, завела двигатель автомобиля, выключила свет, плотно закрыла ворота гаража и пошла домой. Да, забыл сказать, во время разговора с Николаем она съела шоколадную конфету, а скомканную корзиночку машинально засунула между сиденьем и спинкой. На всё, включая их разговор, ушел от силы час, и в начале одиннадцатого она была дома.
– Пока всё складно рассказываешь. А откуда четыре строчки следов на снегу?
– Элементарно, Ватсон. Промаявшись дома около часа, она снова оказалась на улице, и по свежему снегу, оставляя следы и не задумываясь об этом, опять проникла в гараж. Не знаю, что толкало её…
– Я уверен, Лёня, – месть: желание убедиться, что всё идет, как задумано. Вспомни хотя бы её угрозы Николаю.
– А, может быть, Серёжа, она захотела спасти своего бывшего любовника? Увидела его, стянула телогрейку, свитер, футболку и лихорадочно начала делать искусственное дыхание, как учили в медицинском колледже, однако, её усилия не увенчались успехом. Тогда она наспех натянула на него одежду, написала предсмертную записку, вылила в сугроб у ворот оставшуюся водку, завела машину, стёрла свои отпечатки с ключа зажигания, с бутылки и фломастера, вложила их по очереди в руку Резакова, выключила свет и выбежала на воздух, закрыв за собой ворота. В ужасе от содеянного, еле дотащилась до дома, приняла большую дозу снотворного и проспала вместе с мужем до 12.00.
– Не могу с тобой полностью согласиться. Я тоже уверен, что это не суицид. На самоубийство часто толкает глубокая депрессия, раскаяние, вызванное неблаговидным поступком, неизлечимая тяжёлая болезнь: можно назвать много причин. А Резаков – здоровый парень, у него хорошая невеста, и в следующем месяце свадьба. Ему до суицида дальше, чем от Москвы до Южного полюса. Мотив же Воробьёвой в нашей литературе десятки раз описан.
– Ну, что, Серёжа, повесткой будешь вызывать?
– Да. Второй раз к ним без санкции на обыск не пойдёшь. Думаю, на послезавтра. И ты, Лёня, в кабинете посиди, как фактор неожиданности. Пока всё, работы много.
Когда Наташа обнаружила в почтовом ящике повестку на Петровку, сердце у неё ёкнуло от нехорошего предчувствия.
Тем не менее, в 11.00, как было указано в повестке, она явилась в кабинет Григорьева, где сбоку возле стены на стуле сидел Горевой.
– Проходите, гражданка Воробьёва, присаживайтесь!
– Не узнаете меня, Наташа? – спросил Горевой.
– Узнаю. Так вот, значит, где вы работаете.
– Не догадываетесь, зачем вас вызвали? – Григорьев резко встал из– за стола и подошел к ней. – Вы подозреваетесь в убийстве Николая Резакова.
Наташа изменилась в лице.
– А разве его убили?
– Что это вы так побледнели? Я в точку попал?
– Да нет, просто вы меня ошарашили. А зачем мне это было нужно?
– Об этом потом поговорим. А эту корзиночку от конфет узнаёте? Вы её засунули между сидением и спинкой в машине Резакова, когда вместе с ним водку пили.
Наташа молчала.
– А картонку с вашей надписью? Запомните текст и перепишите печатными буквами на такую же, чистую, как можно быстрее.
Когда задание было выполнено, Григорьев стал сравнивать надписи на обеих картонках.
– Для графологической экспертизы подойдёт. А вас мы временно задерживаем до выяснения обстоятельств.
Воробьёву увели, и Григорьев обратился к приятелю:
– Если графологическая экспертиза установит совпадение, у нас будет повод просить санкцию на обыск. Спасибо, больше ты мне сегодня не нужен.
– Тогда я пошел, – и Горевой поднялся со стула.
Между тем, Воробьёва переступила порог тюремной камеры. Навстречу ей поднялась плотного телосложения баба лет тридцати пяти.
– Кто такая будешь? По какой статье чалишься?
– Зовут меня Воробьёва Наталья Афанасьевна. Статью не знаю, но обвиняют в убийстве.
– Ого! – раздался чей-то голос. – Сто пятая у нас редкая.
– Меня Голубкой зовут. Кто хочет в нашей хате прописаться, должен мою красавицу поцеловать.
Она подняла юбку и оголила довольно пухлый зад.
– Ну, что стоишь, целуй!
– Счас, – ответила Наташа, – выламывая иголку из заколки для волос. Потом зажала ее зубами и изо всей силы вонзила в мягкое место Голубки.
– А-а-а, – заорала та, – да, я тебя, стерву, в порошок сотру, а-а-а!
Все повскакали с нар, готовые наброситься на Наташу.
– Не трогать, лярвы! Девчонка наших кровей. Проходи сюда, девонька, потолкуем, – раздался хриплый голос.
Наташа прошла мимо охающей Голубки, у которой соседки вытаскивали из задницы иголку, к окну, где на нарах сидела женщина лет пятидесяти с грубым лицом и чёрными, пронзающими насквозь глазами, придававшими ей некоторую таинственность.
– Ну, давай знакомиться, тебя я знаю, как зовут, а меня Марией кличут. Слыхала, цветок такой есть – Иван-да-Марья. Я, Марья, здесь смотрящей поставлена, а Иван мой на зоне парится. В крытке до этого была?
– Где-где?
– Вижу, что не была. Тюрьма это по-нашему, девонька. Рассказывай, что тебя к нам занесло. Да, давай, всё начистоту, может, что присоветую…
– Так, – сказала она, выслушав рассказ Наташи, акт изъятия ты зря подписала.
– Так они же хитростью.
– А ты ментам не верь, не имей такой привычки. Они такие штуки придумывают, бывалые люди и то иногда попадаются. Что тебе скажу, девонька, проведут у тебя обыск, найдут клофелин. Ты его, кстати, где достала?
– Отец мужа применял, я и взяла несколько ампул.
– Стало быть, найдут твои отпечатки на упаковке. Но это все – косвенные улики, а графологическая экспертиза и корзиночка из-под конфеты – это серьёзно. Выстроят они на суде цепочку доказательств, и получишь ты лет десять – двенадцать. У тебя муж из богатеньких?
– Сам он нет, а у родителей деньги есть.
– Пускай найдут хорошего адвоката, а тот на слезу давит. Мол, сама себя не помнила из-за ревности, а суд проси из присяжных. Может, и скостят тебе лет пять. Ладно, становись в очередь за баландой и хлебом.
– А вы как же?
– Не волнуйся, мне принесут.
Дальше всё произошло, как предсказала Марья. Графологическая экспертиза дала 80 % совпадений. Григорьев получил ордер на обыск, в ходе которого были изъяты те самые ботинки на каблуках, оставившие отпечатки на снегу, и коробочка с клофелином с отпечатками пальцев Наташи.
В одном только ошиблась старая воровка. Когда родители Жени узнали, в чём обвиняется их невестка, то наотрез отказались дать деньги на адвоката. Общественному защитнику Наташа дала отвод и защищала себя сама.
Дело рассматривал суд присяжных: шесть женщин и столько же мужчин, в основном среднего и старшего возраста.
После обвинительной речи прокурора, потребовавшего 12 лет заключения по 105-й статье, в связи с отсутствием по болезни потерпевшей, бабушки Николая, слово было предоставлено Воробьёвой. Одетая в скромное коричневое платье, причесанная, как школьницы старших классов при Советской власти, она начала свою речь:
– Уважаемый суд! Уважаемые господа присяжные заседатели! Уважаемый господин прокурор! Любили ли вы когда-нибудь? Нет, хочу спросить, любили ли вы когда-нибудь, как я? Каждой клеточкой своего тела, каждой стрункой своей души? Мы познакомились с Колей на вечере в школе. Я училась тогда в девятом, а он в десятом. Помню, пригласила его на белый танец; едва он коснулся моей руки, по мне будто пробежал электрический ток, перед глазами все поплыло, не помню уж, как дотанцевала. Потом Коля отвел меня на место и усадил. С тех пор он занял всю мою душу, все мысли были только о нём. Мы стали встречаться, а потом и вовсе зажили, как муж и жена. Мне очень хотелось ребёнка, но он предохранялся. О, господи! Как же мы любили друг друга; бывало, занимались любовью целыми ночами, а на утро хотелось ещё и ещё. Я научилась безошибочно различать его шаги и узнала бы их из тысячи других, по хлопанью дверцы лифта определяла, что приехал он, мой Коля. Потом его забрали в армию, в морфлот. Наши дворовые ребята не давали мне прохода, двое даже признались в любви, но я твердо обещала моему любимому дождаться его возвращения, и своё слово сдержала. По ночам я думала только о Коле. Так прошел целый год. Извините, у меня в горле пересохло, можно я выпью воды?
– Пейте, пейте, – разрешил судья.
Она налила себе из графина полстакана и жадно выпила.
В это время одна из женщин-присяжных уголком платка вытирала глаза. Видимо, что-то вспомнила из своей жизни.
– А хорошо девушка защищается, – шепнул Горевой Григорьеву, – на слезу давит.
Как бы в подтверждение его слов в зале кто-то негромко всхлипнул.
– Когда Коля вернулся, у нас опять всё закрутилось, – немного успокоившись, продолжила свой рассказ Наташа. – А через несколько месяцев я почувствовала, что он стал какой-то не такой: не звонит, на мои звонки часто не отвечает. Затем увидела его с другой. Они прошли мимо, сели в новенький фольксваген, а Коля на меня даже не посмотрел. Я всё поняла: у Колиной невесты родители были влиятельные и богатые люди, куда уж моим до них. С горя или со злости написала несколько безответных СМС-ок с угрозами, а через некоторое время вышла замуж за колиного дружка, думала, что этим загашу свое отчаяние, станет легче, а потом и вовсе всё забудется. Ведь так же бывает? Только мой муженёк оказался каким-то холодным, и страсть к Коле вспыхнула с новой силой. В тот вечер не знаю, что со мной случилось: с одной стороны меня обуревала ревность, с другой – ненависть к новому мужу. Помню, мы сидели и пили шампанское. Я как-то машинально встала, подошла к ящику комода, где отец Жени хранил лекарства, увидела там клофелин, взяла несколько ампул и незаметно вылила одну в бокал мужу, настолько противно мне было с ним сидеть, а потом ложиться в кровать, где он лапал меня потными от возбуждения руками. Пусть уж лучше спит! Муж быстро заснул, а я осталась сидеть за столом с бокалом шампанского. Боль в груди не унималась. Вдруг мне страшно захотелось наказать Колю так, чтобы он запомнил свою измену на всю оставшуюся жизнь. На часах было ровно девять вечера, в это время Николай обычно копался в своем гараже. Я вспомнила про клофелин, быстро оделась и вышла на улицу. Кажется, прихватила с собой бутерброды и пригоршню конфет из коробки. До магазина было пять минут ходу. С бутылкой водки и двумя пластиковыми стаканами я появилась в гараже. Николай, как будто ничуть не удивился, увидев меня, холодно посмотрел и спросил:
– Чего приперлась?
Я ответила:
– Раз любовь не получилась, давай хоть расставание отметим.
Он согласился. Мы сели на переднее сиденье. Я открыла бутылку, разлила по полстакана водки и незаметно, в машине было довольно темно, подлила Николаю клофелина, меньше, чем мужу. Выпили, не чокаясь, как на похоронах, я ведь, действительно, хоронила свою любовь. Немного посидели, и Николай заснул. Тогда я завела машину, выключила свет, вышла из гаража, закрыла за собой ворота, и пошла домой. На часах было ровно десять. По моим расчетам, полутора часов было вполне достаточно, чтобы Николай как следует надышался выхлопными газами; хотелось сделать ему больно, а не убивать: пусть почувствует, какие страдания причинил мне.
Я учусь на медсестру и знаю, как приводить в чувство людей, потерявших сознание. В одиннадцать с небольшим я опять была у гаражей. Кажется, шел снег, распахнула ворота, меня обдало гарью: двигатель уже заглох. Постояла минут десять, проветривая гараж, включила свет и бросилась к переднему сиденью, на котором полулежал мертвенно-бледный Николай. Я попыталась нащупать пульс, но его не было, стащила с него телогрейку, сняла свитер и футболку и стала делать искусственное дыхание, пыталась привести его в чувство в течение получаса, а может быть и больше, пока вся в поту, наконец, не поняла, что усилия мои тщетны. Коля был мертв. Видимо, я плохо рассчитала время. Наспех натянула на него одежду, на картонке написала фломастером, найденным в бардачке, предсмертную записку, вылила остатки водки в сугроб у соседнего гаража, стерла с ключа зажигания, с бутылки и фломастера отпечатки моих пальцев, и вместо них оставила Колины. Уложила все на сиденье, надела перчатки, завела двигатель, выключила свет, вышла на свежий воздух, закрыла за собой ворота, забросила стаканчики на крышу гаража и побрела, не помня куда.
Здесь Горевой толкнул в бок Григорьева. Тот молча кивнул.
Наташа остановилась и обратилась к судье:
– Уважаемый суд! Прошу допросить незаявленного ранее свидетеля, Болтина, ожидающего за дверью.
– Прокурор не возражает? – спросил судья.
– Нет.
– Тогда пригласите свидетеля.
В зал вошёл высокий мужчина в сером костюме.
– Свидетель! Представьтесь и расскажите, что вам известно по настоящему делу.
– Я, Болтин Станислав Петрович, 42 года, инженер. В тот вечер, как обычно, прогуливался перед сном. Иду по Крымскому мосту. Вдруг вижу, эта девчушка стоит за парапетом и смотрит вниз на воду. Я мгновенно сообразил, что будет дальше, подбежал и схватил её за шиворот, перетащил через перила, отшлёпал ладонью по щекам, приводя в чувство, и крикнул: «Дура! Я тебе покажу, как жизнь кончать! Вишь, чего задумала! Тебе детей ещё рожать! Ну, рассказывай, что там у тебя случилось?»
Сбивчиво, как могла, со слезами она поведала свою историю. Я молча выслушал, – прошедшего не вернёшь, поймал такси, довёз ее до дома, а потом довёл до квартиры. Дал свой номер телефона и сказал: «Если понадоблюсь, звони». Вот, собственно, и всё.
– А я вошла в квартиру, – продолжила Наташа, – разделась, приняла сильную дозу снотворного, а на следующее утро проснулась вместе с мужем часов в двенадцать. Остальное вам известно.
В зале воцарилось молчание. Слышно было только, как она отхлебывала воду из стакана, и кто-то тихо всхлипывал.
– Девочка не врёт. Кажется, я был прав, Серёжа! – тихо сказал Горевой.
– Похоже, – также тихо и, как показалась Леониду Семёновичу, с досадой ответил тот.
Прервав молчание, слово снова взял прокурор:
– Я считаю, что статью обвинения надо переквалифицировать: конкретно, со 105-й, «Убийство с заранее обдуманными намерениями», на «Убийство в состоянии аффекта».
Старшина присяжных огласил вердикт: Наташу признали виновной в убийстве в состоянии аффекта при смягчающих обстоятельствах, десятью голосами против двух, а суд приговорил её к двум годам колонии общего режима.
После окончания судебного заседания народ повалил из зала.
– Знаешь, я иногда жалею, что выбрал такую профессию. Хорошо, хоть прокурор статью изменил. Ты как считаешь, Серёжа?
Но Григорьев ничего не ответил.
Вот и вся история. Ну чем по накалу страстей не «Леди Макбет» московского розлива!
Глава 3
Лёнька
Прошло некоторое время, и в семье Горевого произошли изменения. Дочка Лена вышла замуж и переехала к мужу на другой конец Москвы, отчего по вечерам Леониду Семеновичу и Маше стало скучно. Сначала супруги ходили на концерты и в театры, но, видимо, они были небольшими любителями театрального и концертного искусства, и вскоре культпоходы им приелись.
Как-то раз вечером за ужином Маша сказала со вздохом:
– А скучно, Лёнь, без Ленки! Одни мы с тобой остались. Она теперь отрезанный ломоть, свои заботы, да и не наездишься через всю Москву. Нам бы с тобой мальчишечку какого-нибудь лет шести, как Том Сойер, или, как в рассказе О’Генри «Вождь краснокожих», рыженького и в конопушечках. Ты бы его всяким приемчикам научил, чтобы во дворе не обижали, а я с лаской.
– Где же взять такого? Я ведь в милиции работаю, а не в детдоме.
– Да, вздохнула жена, – верно!
После этого разговора прошло недели две. В воскресенье, в начале марта Леонид Семёнович возвращался со своего участка в дачном товариществе, где приводил в порядок небольшой домик и готовил к весенним работам садовый инвентарь.
Когда до Москвы оставалось минут сорок, в вагон зашел мальчонка лет шести– семи, невысокого роста.
Посмотрев на него, Горевой сразу вспомнил разговор с женой двухнедельной давности. Волосы у мальчишки были тёмно-рыжие, на лице конопушки, в руках небольшая гармошка, а на груди мешочек для денег.
Войдя в вагон, он громко продекламировал:
– Исполняется военный марш «Прощанье славянки».
После чего заиграл с большим количеством ошибок.
Подавали хорошо. Особенно растрогался один седоусый дед, так как, несмотря на ошибки, песня была исполнена задорно и с чувством, а тонкий мальчишеский голос придавал исполнению особую прелесть.
Горевой тоже дал десятку и спросил:
– Что, гармонист, есть хочешь?
– Угу.
– Пирог с луком и яйцами будешь?
– Буду!
– Садись рядом! – и Леонид Семёнович достал из рюкзака приличный кусок пирога, разломил его и половину протянул артисту. – Тебя как зовут?
– Меня-то? Свистком кличут, – мальчишка с аппетитом уписывал свою часть пирога.
– Что это за имя, Свисток? Это какая-то собачья кличка. А человеческое имя у тебя есть?
– Есть – Леонид.
– Прямо уж сразу Леонид! Ты еще пока не Леонид, а только Лёнька! Кстати, мой тёзка, меня тоже Леонидом зовут.
– Дядя, а вы кто?
– Я-то офицер.
– Лётчик, что ли?
– Почти что. А ты гармошкой подрабатываешь? Много подают?
– Бывает, что и много, как сегодня.
– Так ты, выходит, богатый?
– Какое там, богатый! Спица с Кувалдой всё отбирают.
– Это ещё кто такие?
– Сейчас увидишь: они сзади идут. Моего тут только ночлег да ужин.
– А что, брат Леонид, не хотел бы ты у меня пожить? По вагонам не надо шататься, еды вдоволь. Я тебя всяким приёмчикам научу, чтобы пацаны не обижали, и жена у меня добрая, а осенью в школу пойдешь, – предложил мальчишке Горевой.
Тот был явно в растерянности. Наконец он произнес:
– Я пошёл бы, да Кувалда не даст.
– Ну, с Кувалдой я договорюсь.
– Если договоритесь, то пойду.
В это время в вагон вошёл и двинулся по проходу коренастый мужчина лет тридцати пяти в кожаной куртке и джинсах. На лице с низким лбом, кабаньими глазками и отвисшими щеками, придававшими ему ещё большее сходство со свиньей, словно застыло выражение презрения и превосходства над пассажирами.
– Свисток, работать! – сказал он, поравнявшись с лавкой, на которой расположились Горевой и Лёнька.
Лёнька дернулся было, но Горевой положил ему руку на колено:
– Сиди!
– Ты что, оглох?!
– Мальчик дальше со мной поедет, – спокойно сказал Леонид Семёнович.
– А ты кто такой?! Вша вагонная! Пацан не продаётся!
– А я и не собирался покупать. Я у тебя его экспроприирую, так как ты есть кровосос и эксплуататор детского труда.
– Что-о-о?! – вскипел громила, не ожидавший такого ответа. – Да ты, чего, огородник, мозги вместе с укропом на грядке посеял?! Пойдём, выйдем, потолкуем. Или у тебя уже штаны мокрые?
– Это можно, – Леонид Семёнович не спеша встал и направился к ближайшему тамбуру. За ним двинулся Кувалда.
В тамбуре Горевой остановился, почувствовав надвигающееся сзади тело, согнул правую руку в локте и резко ударил ею назад, стараясь попасть в область печени.
По звуку, который издал Кувалда, Леонид Семёнович понял, что не промахнулся. Тогда он сделал резкий шаг вправо, развернулся и отработанной серией «левой в печень, правой в голову» нокаутировал противника. Послышались два удара: первый от столкновения головы с дверью, второй от падения тела на пол.
Перешагнув через лежащего на полу Кувалду, Горевой вошел в вагон и нажал на кнопку связи с машинистом.
– Вас слушают, – раздалось в динамике.
– В тамбуре седьмого вагона на полу лежит человек, избитый хулиганами. Прошу принять меры.
Вернувшись на место, Горевой сказал Лёньке:
– Так, с Кувалдой мы договорились.
– Здорово вы его, дядя Лёня.
– Да, как говорится, четыре сбоку, ваших нет!
Мимо прошагали два милиционера. Они долго возились, приводя в чувство лежащего на полу человека, потом стали расспрашивать пассажиров, есть ли свидетели происшедшего. Но таковых почему-то не нашлось.
Наконец, на одной из остановок они выгрузили потерпевшего на перрон, усадили на скамейку, и за окном проплыла его растерянная рожа.