Мадемуазель Шанель Гортнер Кристофер
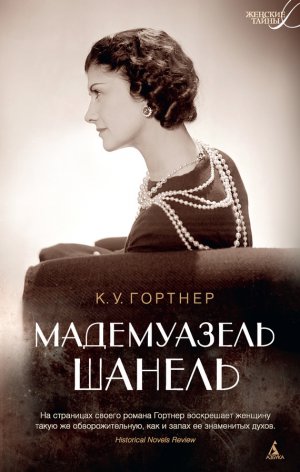
Наконец я обрела голос:
— Вы считаете, я должна научить Бальсана? Тренировать? Как собак?
— Ну да. Он не доставляет вам удовольствия. И вы должны что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Все женщины разные. Он мужчина и может не знать этого, но мы-то знаем. Откуда он это узнает, если вы не научите его?
Я не верила собственным ушам и не смогла удержаться от смеха:
— Научить? Да я сама себя плохо знаю! — Не успела я произнести это, как тут же поняла, что неумышленно попалась в собственную ловушку.
Она облизала губы:
— Так вы никогда… — Поскольку я не смогла ей ответить ничего вразумительного, хотя на этот раз прекрасно поняла, о чем идет речь, она продолжила: — Никогда не получали в постели удовольствия?
— Почему, я очень люблю спать, — едва слышно пролепетала я.
Не признаваться же ей, что я нашла применение собственным рукам, чтобы достичь сладостного трепета, от которого перехватило дыхание, — вот каков был итог моего удовольствия в постели.
— Ох, милая, да вы действительно еще совсем невинны. Просто очаровательно! Такое редко бывает в нашем кругу. И вы серьезно думаете: то, что он делает с вами… или не делает… это все?
— Я вообще об этом мало думала, — продолжала я лгать. — Хотя, признаюсь, я была…
— Разочарованы? — Она нежно погладила мою руку, и я задрожала, хотя прикосновение Эмильены не было мне неприятным. — Так часто бывает, — продолжала она, — в первый раз. Но нельзя же допустить, чтобы первое разочарование обманывало нас. Ведь мы не жены, в конце концов, а они не мужья. У нас есть иные возможности и альтернативы.
Нежное поглаживание ее пальцев проникало сквозь ткань, сладко охватывая все мое существо. Я слегка отпрянула, что было вызвано отнюдь не отвращением. Мне нравился ее запах: аромат чистого тела, тщательно вымытого с мылом, без приторного цветочного благоухания, характерного для demimondaines.[13] Именно такой чистотой пахло в свое время от нас в Обазине. Белоснежная кожа Эмильены напоминала свежевыпавший снег, сквозь кружевное белье соблазнительно просвечивали груди с розовыми сосками. И тем не менее мне стало страшно. Ведь это и была та самая пресловутая сила, которой славилась Эмильена, запретная, темная, притягивающая к себе мужчин. Вот почему она стала одной из самых преуспевающих куртизанок Парижа. Эмильена д’Алансон была воплощенным соблазном и искушением, а теперь она направляла свои женские чары на меня. И я не знала, как мне на это реагировать.
Она, конечно, все поняла.
— Хотите, я вам покажу, ma chre? — спросила она.
И фраза эта содержала не столько вопрос, сколько утверждение. Она наклонилась ко мне и прикоснулась губами к моим, я сидела неподвижно и с интересом ждала, что я буду чувствовать.
Ее поцелуй был как взбитые сливки — теплый и влажный, и сладкий вдобавок, как мед. А тем временем ее руки делали свое дело: легкие, как ветерок, они расстегивали пуговицы, сбрасывали с меня одежду, но мне не было противно. Однако и желания пока не возникало, я была лишь поражена ее смелостью и решимостью, позволяющей отбросить всякое притворство и не разыгрывать из себя скромницу. И как ни странно, меня совсем не беспокоило, что мы с ней обе женщины. В Обазине я часто видела, как девочки залезают в постель друг к другу, и думала, что монашки делают то же самое. Словом, я никого не осуждала. Я считала: если люди что-то делают, то это их личное дело и кто я такая, чтобы осуждать их, при условии, что меня не заставляют делать то же самое?
Меня никто и не заставлял. Она опрокинула меня на спину и принялась дразнить своим проворным язычком и шаловливыми пальчиками, разжигая во мне доселе спящее желание. Я настолько распалилась, что в порыве страсти запустила пальцы ей в волосы и полностью отдалась новым для меня ощущениям. Я словно снова стала хозяйкой своего тела. Теперь оно больше не служило лишь для демонстрации нарядов или удовлетворения скромных запросов Бальсана. Нет, теперь оно стало инструментом для получения невероятного удовольствия. И когда губы Эмильены отыскали мой клитор, меня охватило безграничное и безбрежное наслаждение.
Наконец она подняла над моими раздвинутыми ногами возбужденное, раскрасневшееся лицо, волосы ее растрепались, губы блестели.
— Я… — прошептала я, задыхаясь, — я была не права.
— Да еще как, — пробормотала она. — Вот видишь? Милая моя, возможность выбирать — это оружие женщины.
14
Вот так мы с Эмильеной стали любовницами, хотя в то время такого слова я не употребляла. Для меня оно все еще имело тот смысл, к которому я привыкла, который извлекла, беспрерывно читая романы, то есть безумное соединение двух жаждущих сердец. После своих визитов к нам она на несколько месяцев возвращалась в Париж, лишь время от времени приезжая на выходные с очередной толпой подруг, страстно желающих приобрести мои шляпки, а ближе к вечеру она уединялась со мной, чтобы доставить мне наслаждение. Мы с ней ни разу не заикнулись о любви, и, хотя мне доставляли удовольствие ее прикосновения, ее смех, ее острый ум, я не любила Эмильену
Это все, что я могла сказать по этому поводу. Похоже, любовь — чувство мне чуждое и любить я не способна.
И как часто случается, когда возникает близость, Эмильена стала говорить такое, что меня встревожило. Однажды, после того как мы занимались любовью, вместе приняли ванну и уселись на канапе поболтать, она как бы невзначай обронила, что имей я желание, то в Париже могла бы сделать великолепный дебют.
— Ты такая необычная, похожа на девчонку-сорванца, — сказала она. — Мужчины будут ломать голову, девочка ты или мальчик, они с ума станут сходить, покупать тебе все, что пожелаешь. Ты всем нам дашь сто очков вперед, а сама сколотишь кругленькое состояние. — Она лениво улыбнулась, томная, ослабевшая после наших горячих ласк и не менее горячей ванны, ароматизированной олеандром. — А ты разве не думала об этом? Ты же сама говорила, что тебе здесь не нравится, мало радости, да и Бальсан… Ну, ты все понимаешь, у него совсем другие интересы.
Я вздрогнула и убрала голые ноги, касавшиеся ее ног. Мы обе откинулись назад, откровенно глядя друг другу в лицо; внезапно близость Эмильены показалась мне тягостной. Я понимала, что она имеет в виду. Бальсан частенько уезжал к родственникам в Лион или в Париж к друзьям, причем надолго, порой его не было по нескольку недель, но ни разу не пригласил меня с собой. Его отлучки даже нравились мне, поскольку я могла делать, что хотела: работать, кататься верхом, читать, бродить по всем комнатам этого огромного замка, где угодно стряхивать сигаретный пепел и оставлять после себя беспорядок. Возвращаясь, он неизменно был очень рад меня видеть, даже волновался. Но я никогда не ждала от него верности, учитывая собственные к нему чувства.
Тем не менее, когда все это было высказано вслух, я не на шутку встревожилась. Потянулась к портсигару, закурила и с деланой самоуверенностью пустила струю дыма:
— Конечно, я знаю, у него есть и другие женщины, но я не говорила, что несчастлива.
— Ну конечно не говорила. Но я же вижу, что ты несчастлива. Почему бы тебе не прокатиться в Париж? Я введу тебя в свой круг, будешь у меня первой ученицей. — Она провела ладонью по шее. — Наступит время, когда мне придется смириться с неизбежным и позволить другой занять мое место. Почему бы мне самой не выбрать ее?
Видно было, что Эмильена говорит искренне. Честность в отношениях с людьми она ценила очень высоко, правда, мужчин, которых она завлекала своими чарами, это не касалось. Я же о Париже мечтала всегда. Но надо как следует все обдумать. В принципе, конечно, она права, я с неохотой, но признавала это. В последнее время я стала какой-то беспокойной; даже невозмутимый Бальсан порой бормотал, что мне надо почаще выходить на воздух и прекратить возиться с этими чертовыми шляпками.
И все же я понимала, что не смогу стать такой, как Эмильена, несмотря на все ее замечания.
— Да и ты, моя милая, — говорила она, — моложе не становишься. Сколько тебе сейчас? Двадцать семь?
— Двадцать пять, — ответила я.
— Вот-вот. — Она махнула рукой, словно несколько лет были не в счет. — Это все равно, как раз тот возраст, когда большинство женщин или давно уже замужем, или становятся любовницей, которую скоро бросят, или примиряются с ролью старой девы. И ты хочешь для себя такой участи? Мрачноватая перспектива.
— Нет, не хочу, — покачала я головой. — Но и того, что ты предлагаешь, тоже не хочу. — Но, увидев, как застыло ее лицо, я мягко добавила: — Ты только не подумай, что я осуждаю тебя, ничего подобного. Просто это не для меня. Я не хочу быть куртизанкой.
Она молчала, словно размышляла над моими словами.
— Eh, bon.[14] Тогда чего же ты хочешь? Только не говори, что хочешь остаться здесь навсегда в качестве особой подруги Бальсана, все равно не поверю.
Я пожала плечами, затянулась сигаретой:
— Вот в этом-то вся и загвоздка. Я пока сама не знаю. Мне хотелось бы самой зарабатывать, как я хочу. Работы я никогда не боялась.
— А что, по-твоему, делаю я? Если это не тяжкая работа, тогда я вообще не знаю, что это такое. — Эмильена помолчала, задумчиво меня разглядывая. — Понимаю, — наконец сказала она, — другими словами, ты хочешь настоящей работы. Может, тебе нужно свое ателье?
Неизвестно, откуда ей пришла в голову эта мысль, скорее ехидная, чем просто дурацкая, но я вдруг подумала: это лучшее, что мне до сих пор приходилось слышать.
— А почему бы и нет? Вон твои подруги, все без ума от моих шляпок. Ты же сама говорила, что стоит им увидеть на тебе такую, сразу спрашивают, где ты ее купила. Я откладываю каждый франк, который зарабатываю. Почему мне нельзя открыть собственное ателье?
Эмильена поджала губы:
— Чтобы открыть ателье, нужны деньги, много денег, несколькими франками тут не обойдешься.
— Могу попросить у Бальсана, — сказала я, но представила его реакцию и сразу упала духом. — Он ведь может помочь мне, как думаешь?
— Вопрос не в том, может или не может, главное — захочет ли. И внутренний голос говорит мне, что ему эта мысль покажется, мягко говоря, весьма оригинальной. — Она встала. — Мне надо одеться. Они скоро вернутся с охоты, и нам, как благовоспитанным дамам, надо сидеть в гостиной с чашечкой кофе, n’est-ce pas?
И она ушла, оставив меня одну, с сигаретой в руке. Вот и весь наш разговор о моем положении. К чести Эмильены, она больше ни разу не предлагала мне стать куртизанкой, даже не заговаривала об этом. Но вот мысль, которую она столь беспечно обронила, пустила в моей душе корни.
Собственное ателье. Почему нет?
* * *
Как только представилась благоприятная возможность, я изложила свою просьбу Бальсану. Сначала я намеревалась обсудить все после одной из наших недолгих интерлюдий, но не выдержала и без предупреждения заговорила об этом за ужином, когда лакей уже смахивал щеткой со стола крошки.
— Я хочу открыть шляпное ателье! — выпалила я.
Бальсан поднял на меня насмешливый взгляд.
— Ателье? — как эхо повторил он.
— Да, — ответила я и выдала заранее отрепетированный монолог о том, что Эмильена и все ее знакомые ценят и любят мои шляпки, что я сама уже кое-что заработала и скопила, что не видать мне душевного покоя, пока не найду себе дела. — Ателье — идеальный вариант, я могла бы заниматься своими шляпками, а все, кому это интересно, могли бы приходить и смотреть, и это дало бы мне возможность…
— Если Эмильена со своими красавицами потакают твоему странному хобби, — резко перебил он, — это не значит, что ты должна немедленно куда-то бежать и открывать свое ателье.
Слово «ателье» он произнес так, словно оно оставляло у него во рту неприятный привкус, и впервые у меня в голове мелькнула мысль, что в душе он обыкновенный буржуа, богач, рожденный для денег и взращенный на деньгах, которых у него куры не клюют.
— Так ты считаешь, что это хобби? — сквозь зубы процедила я.
Чтобы разозлить меня наверняка, большего и не надо, достаточно просто намекнуть, что не я сама решаю, что мне делать и как.
— А что, разве не так? — Он постучал сигаретой по столу и подождал, когда лакей поднесет ему зажженную зажигалку. — Твои шляпки очень милые, конечно, и красивые. Да, они произвели некоторое впечатление на дам, которые вьются вокруг Эмильены, но с чего ты взяла, что я стану поддерживать эту авантюру? Я считаю ее безнравственной. Женщины у нас не работают и не должны работать, а если кто и пытается, никогда не добивается успеха, если только не идет по стопам Эмильены — лежа на спине.
Я резко вскочила, едва не перевернув стул.
Он пустил в потолок кольцо дыма:
— И не смотри на меня такими глазами. Я что, мало даю тебе денег? Если надо больше, спроси. Я никогда тебе ни в чем не отказывал.
— Мне не нужны твои деньги! — фыркнула я.
— Правда? Должно быть, я что-то неправильно понял. Я думал, именно этого ты всегда и хотела.
Я развернулась и пулей выскочила из комнаты, не обращая внимания на его смех и призывы вернуться и не вести себя как ребенок. Он вовсе не хотел уязвить или обидеть меня, просто такой он был человек. У него в голове не укладывалось, что женщина может желать чего-то большего, чем он давал мне, ведь большинство женщин так себя не ведут.
Но я к этому большинству не принадлежала. Ярость, которая заставила меня мчаться, перепрыгивая через ступеньки, в свою комнату, где я тотчас закрылась на ключ и весь остаток вечера не хотела его даже видеть, эта ярость ожесточила мою душу, чувство благодарности к нему потускнело, как серебро, покрытое патиной.
Ненависти я к нему не питала и не хотела питать. Он слишком мне нравился.
Любым путем, как угодно, я должна найти собственный путь.
* * *
Желая поднять мне настроение, Бальсан уговорил меня прокатиться на ипподром, подальше от Руайо. Я хотела отказаться — мол, пусть знает, что у меня своя голова на плечах, что я буду делать только то, что мне самой нравится, — но соблазн хоть на время вырваться из замка оказался слишком силен. Изоляция сделалась для меня невыносимой. Меньше всего мне хотелось превращаться в мегеру, с обиженным видом бродящую по пустому дому.
И мы отправились в Лонгшан пообщаться с представителями высшего парижского общества. Дорогие скаковые лошади мчались по беговым дорожкам, а все те, кто хоть что-нибудь собой представлял, из кожи вон лезли, чтобы их тоже заметили. Что касается моды, она почти не изменилась. Был 1908 год, прошло почти десятилетие нового века, газеты провозгласили расцвет революционной эпохи. А женщины по-прежнему горделиво расхаживали все в тех же дурацких платьях с тесным лифом, сидеть в которых было сущим мучением, и с похожими на кочан капусты, нелепыми сооружениями на голове.
Я очень удивилась, когда встретила здесь Адриенну: она приехала в Лонгшан посмотреть на скачки со своей новой опекуншей, мадам Мозель, той самой свахой, организовавшей бегство в Египет. В первую минуту я не узнала свою юную тетушку, скромно прохаживающуюся вместе с сопровождающей ее мадам у самой беговой дорожки, огороженной белым заборчиком: тонкая фигурка в белых и кремовых тонах, вся в лентах, затянутая в корсет так, что, кажется, еще немного — и дух вон. Адриенна остановилась и мельком бросила на меня взгляд. Я стояла одна, в мужской шляпе с мягкими полями, простой блузке, с коротеньким шелковым галстуком под воротничком (я взяла галстук Бальсана и подрезала его), в подпоясанном ремешком черном жакете, юбке до щиколотки из верблюжьей шерсти и сапожках на низком каблуке. Лицо Адриенны вдруг осветилось.
— Габриэль! — крикнула она.
Я стала в замешательстве озираться, пока не поняла, что она обращается ко мне.
С тех пор как я уехала из Мулена, меня никто не называл по имени. Мадам Мозель окинула меня оценивающим взглядом, в котором читались и насмешка, и отвращение, а тетя обняла меня.
— Вы только посмотрите на нее, — тихо произнесла она, — как всегда, элегантна. Господи, как я по тебе соскучилась! Ты мне совсем не пишешь. Обидно даже. А ты? Ты скучала по мне?
Да, очень скучала, я поняла это только теперь. Скучала по ее мягкой, кроткой натуре, по ее живому природному изяществу — она совсем не изменилась, хотя любовь к Морису подняла ее общественный и материальный статус довольно высоко, судя по роскошному платью и сверкающим на запястьях браслетам с драгоценными камнями.
— Ты вышла замуж? — спросила я.
Почему-то мне пришло в голову, что она давно замужем, хотя на свадьбу меня не пригласила.
Мадам Мозель громко фыркнула, и тогда Адриенна взяла меня под руку и предложила пройтись.
— Нет еще, — грустно ответила Адриенна. — Ну а ты как поживаешь? Рассказывай, рассказывай все. Ты, наверное, так любишь своего Бальсана, ты живешь у него в замке, вот приехала с ним сюда. Завидую я тебе. А мы с Морисом делаем все тайком. Мы должны доказать его родственникам, что нас связывает настоящая, чистая любовь. Я не живу с ним, а вижусь всегда в присутствии мадам Мозель. Мы ни на минутку не остаемся одни: порядочная дама не может позволить мужчине таких вольностей.
Я продолжала молчать. Если так судить, то я никакая не дама, тем более порядочная. Но скоро я поняла: Адриенне абсолютно неинтересно знать, как я живу. Она почему-то была уверена, что я вполне устроилась с Бальсаном и всем довольна. Это главное, а об остальном нечего и спрашивать. Зачем? Она настолько увлечена борьбой за респектабельность своего положения, что мне оставалось только слушать ее горячий шепот, которым она сообщала о своих желаниях и мечтаниях, словом, обо всем, что обычно пишут в романах. Я узнала, что, несмотря на ее блестящую внешность, несмотря на всю решимость женить на себе барона, родственники Мориса упорно сопротивляются, утверждая, что она для него неподходящая партия, и это глубоко ранит ее, терзает душу, хотя Морис не сдается и не устает заявлять о своей преданности. Услышав ее признание, что они никогда не видятся наедине, я удивилась. Мне это казалось просто невероятным: неужели он не осмелился сделать то, что она всячески отрицала, неужели между ними ничего не было? Возможно, нетерпеливое ожидание и предвкушение грядущих наслаждений и было тем самым горючим, что разжигало его страсть. Ведь прошло уже два года, а они все еще вместе. Жаркая борьба за обладание титулом баронессы сделала Адриенну гораздо более стойкой, чем когда она была со мной в Виши.
Наконец она выложила все, что лежало у нее на душе, перевела дух, и в наступившей тишине, под строгим взглядом мадам Мозель, я сообщила:
— А я собираюсь открыть свое ателье.
Сама не знаю, как это сорвалось с языка. Я совсем не собиралась говорить об этом, но неодобрительно кривящиеся губы мадам Мозель не давали мне покоя, и меня понесло.
— Бальсан обещал помочь. Я подыскиваю подходящее местечко, вот мы с ним и решили прокатиться.
— Ателье? — Адриенна даже растерялась и озадаченно посмотрела на меня. — Зачем это тебе? — Но, увидев мое лицо, она торопливо добавила: — Ах да, шляпки. Ты все еще занимаешься ими? — спросила она, словно сама эта идея была для нее удивительна и непостижима, как некий пережиток нашего с ней бездарного прошлого, которое я должна вычеркнуть и забыть.
— Представь себе, занимаюсь. Уже довольно много продала, причем парижским модницам, а теперь хочу открыть свое дело. — Я помолчала, оценивая вдруг наступившую, явно гнетущую тишину. — И замуж, похоже, я выйду очень не скоро, если вообще выйду, — продолжала я, вонзая воображаемый нож по рукоятку в живот мадам Мозель. — Я хочу работать. С нетерпением жду, когда же наконец приступлю.
— О, это… просто чудесно, — промямлила Адриенна, и я поняла, что ее глубоко въевшееся восхищение мной все-таки победило первоначальный испуг. — Ты всегда была такой смелой, Габриэль. Мне кажется, это просто чудесная идея… Что вы скажете, мадам? — Она бросила взгляд на свою дуэнью. — Миленькое маленькое ателье — это же так прекрасно!
— Да, — сухо сказала мадам. — Чудесно. И вы уже выбрали, в каком городе хотите обосноваться? Я думаю, Париж для такого предприятия потребует ужасно много расходов.
— Деньги, — отмахнулась я, — не проблема. Нет, подходящего места я еще не нашла. Мы рассматриваем самые разные варианты.
Я с удовольствием наблюдала, как на лице поверившей мне мадам проступило выражение зависти, поскольку в конечном счете деньги были единственным божеством, которому она служила, и она прекрасно знала, что у Бальсана денег куры не клюют.
— Ты обязательно должна мне сообщить, когда откроешь свое ателье, — сказала Адриенна. — Очень хочу посмотреть. Может, и меня в помощницы возьмешь, помнишь, как мы раньше мечтали? — Мадам аж задохнулась от возмущения, но Адриенна не обратила на нее никакого внимания. — Кажется, я еще не скоро выйду замуж, — прибавила она и со слегка истерической ноткой в голосе засмеялась. — Так что и у меня будет занятие, если, конечно, я тебе все еще нужна.
— Ну конечно, — кивнула я. — Мне обязательно понадобится помощь.
Я с наслаждением принялась расписывать свои перспективы, которые, конечно, пока еще вилами по воде писаны. Но мне было все равно. Я хотела, чтобы эта мадам проглотила язык, а Адриенна, вернувшись в Мулен, всем рассказала, как я преуспеваю. Пускай Луиза и все остальные призадумаются.
— Вот, можешь писать мне на адрес мадам. — Адриенна достала из вышитого ридикюля в руках мадам записную книжечку и прикрепленную к ней серебряную ручку и нацарапала адрес. Оторвала листок и протянула мне. — Я живу у нее, а по воскресеньям хожу в гости к Луизе. О, Габриэль, — она нежно обняла меня, — я так счастлива, что мы с тобой встретились. Обещай, что будешь писать обо всем. Я так рада за тебя. Я всегда говорила, что если ты что-то решила, то обязательно сделаешь.
Ее восторженность была искренняя. Адриенне хотелось, чтобы все были довольны и счастливы, даже если сама она не была таковой, и, когда мы прощались, я твердо решила послать за ней, когда настанет время. У меня было такое чувство, что моя мечта о собственном ателье гораздо более реальна, чем желание Адриенны выйти замуж за барона.
С легкой душой я вернулась к трибунам, где Бальсан криками подбадривал своего жокея. Конечно, многое в этой жизни меня не устраивает, многое хотелось бы изменить, но я ни за что не поменялась бы местами с Адриенной. Слава богу, у меня все еще сохранилось страстное желание достичь чего-то в жизни.
Бальсан стоял у стойки бара, выпивал с друзьями и, отчаянно жестикулируя, о чем-то говорил с такой страстью, которую приберегал только для своих обожаемых лошадей. Двоих его собеседников я узнала: граф Леон де Лаборд и Мигель Юриб, богатые компаньоны, регулярно бывавшие в Руайо. Когда я подошла, они повернулись, чтобы поприветствовать меня; я уже успела стать почетным членом их клуба: моя способность скакать верхом и охотиться с ними на равных, как и вкус к своеобразным нарядам, внушили им любовь и уважение ко мне. Все звали меня la petite Coco, и сейчас я весело поздоровалась с ними, а Бальсан с несколько унылым видом поманил меня поближе.
— Мы были четвертыми. Этот жокей еще на старте погнал Тройку слишком быстро, а к финишу потерял скорость, дурак этакий, чертов гном!
И тут я заметила в их компании человека весьма необычного, прежде я никогда его не видела.
Лицо у него было довольно смуглое, густые черные волосы напомажены и зачесаны назад, хотя несколько прядей выбились и падали на лоб. Глаза, дымчато-зеленые, глубоко посаженные, смотрели серьезно. Вот глаза-то и привлекли мое внимание, когда я разглядывала его безукоризненный твидовый костюм табачного цвета, казавшийся очень мягким на ощупь. Под безупречно скроенной, элегантной одеждой угадывалась ладная фигура. Он протянул мне квадратную ладонь. С удивлением ощущая на его ладони мозоли, я пожала ему руку, а сама подумала, что он поздоровался со мной, как обычно здороваются с мужчиной. Никакого сравнения с изящной, наманикюренной рукой Бальсана — это было рукопожатие рабочего, с той единственной разницей, что ни один рабочий не мог бы позволить себе такой костюм.
— А вы разве не знакомы? — спросил Бальсан.
— Не думаю, — ответил мужчина низким голосом, и Бальсан нахмурился:
— Но я готов поклясться… Гм… Ты ведь бывал в Руайо уже после того, как туда приехала Коко, разве нет? Нет? Ах вот оно что. Артур Кейпел, это Габриэль Шанель. Габриэль, позволь представить тебе господина Артура Кейпела, моего английского друга, обладающего весьма эксцентричным вкусом, что касается перемещения в пространстве.
— Для друзей я просто Коко, — улыбнулась я, так как Артур Кейпел не торопился отпускать мою руку.
— А я для друзей — просто Бой, — в тон мне ответил он, слегка вздернув украшенную усами верхнюю губу. — Для меня большая честь познакомиться с вами, Коко Шанель.
По-французски он говорил безупречно, без малейшего акцента.
Интересно, думала я, что Бальсан наговорил обо мне Кейпелу? Наши с ним отношения были, что называется, irrgulire,[15] и Бальсан не делал попыток ввести меня в общество, если не считать сборищ в его замке. Но ему наверняка задавали вопросы о девушке, с которой он живет. Хвастался ли он друзьям, что подобрал меня, как беспризорную девчонку, на улице и сделал своей любовницей?
Красивое лицо Кейпела было непроницаемым, но пристальный взгляд его, казалось, прожигал меня насквозь. Нет, пожалуй, не насквозь, взволнованно думала я, этот взгляд направлен именно на меня. Кейпел смотрел так, словно видел меня такой, какая я есть, в чистом виде, не придавая значения той роли, которую я играла в жизни Бальсана, что бы там ему ни наговорили обо мне.
Этот взгляд ужасно меня смущал. Должно быть, он видит перед собой женщину свободную, а значит, доступную и прикидывает, как ко мне подступиться, но так ли это, я понять никак не могла.
Я высвободила руку. Ладонь Кейпела была сухой, и на моих пальцах не осталось ни капельки пота, хотя стояла страшная жара. Этот человек был холоден, как стакан со льдом.
— Покажи Коко свой автомобиль, — попросил его Бальсан. — Как можешь заметить по ее манере одеваться, Коко обожает нарушать традиции, а этот твой драндулет — штука очень оригинальная. Покатайтесь, а мы пока посмотрим еще один заезд. Коко у нас к бегам равнодушна, правда, chrie?
А я все стояла как столб и глядела на Кейпела, и даже ласковое слово, сказанное Бальсаном в мой адрес, не заставило меня пошевелиться. Бальсан никогда не демонстрировал на публике своих чувств ко мне, и я бы не удивилась, если бы он сейчас шлепнул меня по заду, чтобы я не забывала, кому принадлежу, Наконец я вышла из столбняка и послушно пошла за Кейпелом вокруг трибун. Мы прошли мимо столиков под зонтиками, за которыми, обмахиваясь веером и потягивая лимонад, сидели дамы со своими детишками. Мы направились туда, где стояли экипажи, запряженные лошадьми.
— Вы когда-нибудь видели автомобиль? — спросил Кейпел, замедляя шаг, чтобы я могла идти рядом с ним.
При ярком солнечном свете в его зеленоватых глазах видны были янтарного цвета крапинки, и мне стало ясно, что Кейпел смуглый не от природы, а лицо его просто загорело, поскольку он не носил шляпу. И я еще раз подумала о его происхождении. Если он владелец новомодного моторного экипажа, которые совсем недавно появились в продаже, значит у него есть средства. Но всем своим внешним видом он, скорее, был похож на крестьянина из моего детства, этакого трудягу, который любит одиночество, потому что откровение всегда дается недешево.
— Только в газетах, — ответила я, — но мне любопытно увидеть своими глазами.
— Правда? — Жесткое выражение лица его смягчилось, угрюмые движения обрели явную привлекательность. — Любопытство в наши дни редко встретишь.
Кейпел не прибавил слов «среди женщин», но понятно было и так, что он имел в виду. Наконец он подвел меня к ярко-красному двухместному автомобилю, чьи металлические крылья были так отполированы, что я видела в них свое карикатурно искаженное отражение. Верх автомобиля был откинут, и на вид он казался довольно неуклюжим: большие, напоминающие веретено колеса делали его похожим на жука-водомерку на длинных ногах.
Кейпел погладил рукой капот:
— Мотор часто перегревается, радиатор у этой модели — проблема, но один американец, Генри Форд, сейчас разрабатывает кое-что получше. Это наше будущее, мадемуазель. Лет через пять самое большее экипажи с лошадьми уйдут в прошлое, даже железные дороги будут терять и пассажиров, и прибыли.
Я слушала его как зачарованная, потом осторожно обошла машину кругом, в любой момент ожидая, что она заревет, оживет и помчится неведомо куда.
— Она быстро бегает? — спросила я, поднимая на него глаза.
— Хотите попробовать? — предложил он.
Едва различимая нотка в его голосе сразу заставила меня всомнить об Эмильене, в нем звучал некий предосудительный соблазн. Похоже, он заигрывает со мной, причем нахально. Да, я не замужем и сплю с Бальсаном, но из этого не следует, что я доступна всякому gentilhomme,[16] одетому в модный костюм и покупающему себе дорогие игрушки. Тем не менее я кивнула, он открыл передо мной небольшую дверь и помог устроиться на стеганом кожаном сиденье.
Потом он зашел спереди, крутанул заводную рукоятку, двигатель чихнул, зафырчал и довольно громко взревел, машина мелко задрожала, и я вместе с ней. Он уселся перед рулевым колесом на место водителя, нажал ногой на педаль, и машина рванула вперед, не так быстро, конечно, как лошадь, когда ее пускают в галоп, но все-таки с неожиданной живостью.
Мы помчались по дороге, идущей вокруг ипподрома, обгоняя рессорные экипажи, запряженные лошадьми, со свистом проносясь мимо пораженных зевак; скорость кружила мне голову. Такой вот головокружительной и безумной я всегда себе представляла любовь в постели, но, увы, никогда не получала ее, никогда еще во время любовных игр у меня не захватывало дух от радости и возбуждения, никогда не хотелось громко кричать от счастья. Я подняла обе руки вверх, и мои широкие рукава затрепетали от встречного ветра.
Вдруг машина закашлялась, затряслась и остановилась. Из-под капота повалил дым.
— Вот видите? — крикнул Кейпел, быстро перепрыгнул через дверь, раскрыл боковую часть капота и замахал руками, разгоняя дым. — Перегревается. Теперь придется несколько минут постоять, чтобы мотор охладился.
Я обернулась, достала свою шляпу и протянула ему — шляпу сдуло ветром, и она, оказывается, лежала в крохотном пространстве за спинкой моего сиденья (как оригинально, подумала я, увидев там еще одно складное сиденьице, словно крошечный диванчик).
— Возьмите дым разгонять.
И тут он в первый раз улыбнулся мне, обнажив белые квадратные и крепкие зубы.
Мотор остывал гораздо дольше, чем несколько минут. Кейпел достал из-под водительского сиденья закупоренную бутылку воды и вылил ее куда-то в двигатель. Когда дым совсем рассеялся, Кейпел закурил и протянул мне золотой портсигар. Он не спрашивал, курю я или нет, хотя дамы обычно не курят на людях. Поправив растрепанную прическу, я взяла сигарету и прикурила; вот так мы с ним и стояли, прислонившись к машине, не касаясь друг друга, курили, глядя на окружающую природу. Откуда-то сзади доносились слабые крики с ипподрома, и это означало, что Бальсан либо выиграл, либо проиграл свою ставку. Загасив окурок о каблук, Артур Кейпел повернулся к машине:
— Ну, давайте-ка поглядим, заведется или нет.
А я все раздумывала, что будет дальше. Бальсана мне видеть сейчас не хотелось. И тут меня словно громом поразило: я поняла, чего хочу. Кровь бросилась мне в лицо, я кивнула и вернулась на свое сиденье. Кейпел крутанул рукоять, двигатель ожил, и теперь уже более спокойно мы покатили обратно к ипподрому.
Бальсан с друзьями стоял в окружении еще каких-то незнакомых людей; скачки на сегодня закончились. Когда мы подъехали, он помахал рукой. Кейпел остановил машину и открыл передо мной дверь. Я вылезла после него, оправив юбку. Наверное, выгляжу совершенным пугалом, подумала я, но мне уже было все равно.
— Я бы не прочь еще раз как-нибудь встретиться с вами, — тихо произнес Артур Кейпел.
Я обернулась и поймала его пронзительный взгляд. Свой неожиданно осипший голос я услышала как бы со стороны и даже не сразу узнала его.
— После этого он едет в По. У него там охотничий домик. Я собиралась вернуться в Руайо, но…
Кейпел промолчал. Я подошла к Бальсану, он расхохотался, сказал, что я похожа на чучело и что автомобили — вредное увлечение и пустая трата времени и денег. Я улыбнулась, что-то ответила. Сейчас и не помню что. Во всяком случае, теперь это было не важно.
Как я могла объяснить ему, что наши с ним отношения уже больше ничего для меня не значат?
15
Бой застиг меня врасплох.
Других объяснений у меня нет. После того как отец разбил мое сердце, я не раскрывала его ни перед одним мужчиной. Да, я жила с богатым аристократом, которого не любила, я давно оставила всякие надежды на личное счастье, а тут вдруг обнаружила, что во мне зарождается и наполняет все мое существо желание, которое могло бы мне показаться нелепым, если бы я сама не испытывала его.
В общем, Бой отправился вместе с нами в По. В охотничьем домике Бальсана, окруженном густыми лесами, я сошлась с Кейпелом так, как не сходилась прежде ни с кем другим, хотя речь не идет о физической близости. В этом отношении он был джентльмен до кончиков ногтей, хотя в долгие ночи, когда вино «Жюрансон» лилось рекой, его страстный взгляд разгорался только сильнее. Мужчины один за другим пьянели и, спотыкаясь, отправлялись спать, и мы оставались с Бальсаном, который всегда пил сколько хотел, но вино его совсем не брало.
Мне было очень странно, что Бальсан совершенно не почувствовал, как изменилась атмосфера, он продолжал рассказывать анекдоты, и Бой кивал, оставляя свой бокал нетронутым, а я курила сигарету за сигаретой, пока во рту не становилось сухо, пока не казалось, что дым уже из ушей валит. Неужели Бальсан настолько слеп, что не видит моего состояния: я страстно желала, чтобы он поскорее ушел и Бой мог бы сесть рядышком, а не как поклонник на балу, где девушка находится под неусыпным взором компаньонки? Неужели он не видит, что узы, связавшие нас, натянуты до предела и готовы лопнуть, что наши с ним отношения трещат по швам, как изношенный плащ, из которого мы давно выросли?
Я оказалась права, когда подумала, что Бой в чем-то похож на крестьянина: когда речь заходила о нем, он был очень сдержан. И все же за те несколько недель в По я узнала, что он на два года старше меня, что он единственный сын в семье, не считая еще трех сестер, что родился он в простой семье верующих католиков, что покойная мать его француженка — следовательно, он наполовину француз, а отец — предприимчивый ирландский бизнесмен, который всю жизнь работал не покладая рук, поднимаясь по социальной лестнице все выше, пока не сколотил состояние и не стал владельцем железнодорожной и судоходной компаний. Детство Бой провел в Париже, куда отец, добившись успеха, перевез семейство. Образование он получил по высшим стандартам: лучшая закрытая школа в Англии, путешествия по Европе, Ближнему Востоку и даже по Америке. Став старше, он вращался в кругах представителей высшей буржуазии и haute monde,[17] когда прежние понятия устарели и единственной визитной карточкой в обществе стали деньги, не важно как заработанные. Не меньше, чем автомобили, Бой, как и Бальсан, любил игру в поло, это увлечение сближало их. Но самым странным для человека с такими средствами, как у него, было то, что он любил работать, и это для меня было самым главным.
Это изумительное качество делало его в моих глазах человеком весьма незаурядным. Взращенный и воспитанный для того, чтобы вести праздную жизнь привилегированного члена общества, Бой хотел сам зарабатывать деньги. Он поработал в фирме отца на разных местах, пока не приобрел достаточно опыта, чтобы начать собственную деятельность, вкладывая деньги в угольную промышленность, усовершенствованные двигатели для железнодорожных локомотивов, в строительство железных дорог и элитные клубы игроков в поло — словом, во все, что привлекало его внимание и обещало хорошую прибыль.
— Я не хочу быть одним из тех, кто бездельничает ради безделья, — сказал он, когда мы сидели перед гаснущим камином, после того как Бальсан наконец ретировался. — Это, конечно, хорошо — с утра до вечера резвиться, скакать верхом, наслаждаться жизнью, ведь действительно, — он пожал плечами с насмешливым безразличием, — о чем им беспокоиться? Но мне нужно работать. У меня должно быть что-то свое, принадлежащее только мне. — Он обратил на меня колдовской взгляд своих удивительных глаз. — Вы меня понимаете? Вы же понимаете, я не такой, как Бальсан.
Ему не нужно было спрашивать. Более разных людей, чем они с Бальсаном, быть не могло. Бальсан с его принципами не совать носа в чужие дела казался таким банальным, таким мелким и ограниченным. Он был продуктом давно ушедшей эпохи, который живет как автомат, катит по накатанной колее, совсем не то, что Бой, живущий осмысленно и целеустремленно.
— То, что ты не заработал сам, — говорил Бой, — по-настоящему тебе не принадлежит. Это всегда можно у тебя отобрать. Даже теряя все, ради чего работаешь, то, чего достиг, не потеряешь, это навсегда останется с тобой.
Ну разве тут можно устоять, разве можно не влюбиться до безумия? Он явился передо мной как подарок судьбы, которого я всегда ждала, даже не подозревая, что такое бывает на свете, о таком человеке я и мечтать не могла, да и как мечтать, если таких людей я просто никогда прежде не видела? В те долгие осенние ночи и короткие морозные дни он рассказывал мне то, что я всегда хотела услышать, хотя прежде не знала, где такие истории рассказывают. Однако он ни разу даже не намекнул, что хочет от меня чего-то большего, чем просто дружбы; правда, порой, от излишнего волнения, он брал и крепко сжимал мою руку.
В свою очередь я поведала ему историю своего обездоленного детства, рассказала об Обазине, о нашей мансарде в Мулене, об унизительных выступлениях в Виши и о своем стремлении к чему-то большему в жизни, стремлении всегда идти вперед и наконец призналась, что мечтаю открыть собственное ателье. Я говорила неуверенно и осторожно — с такой осторожностью разворачивают сверток с хрупкой фамильной ценностью. Бальсана насчет своего происхождения я обманула, а теперь первый раз в жизни рассказывала постороннему человеку неприукрашенную правду, и, хотя мне было очень неловко: слишком уж откровенным был мой рассказ, — у меня словно камень с души свалился, о котором прежде я даже не подозревала.
Выслушав мой рассказ, Бой улыбнулся:
— Я думаю, у вас все будет хорошо. Конечно, потребуется много денег, и поначалу вы будете тратить больше, чем зарабатывать, но не это главное. Главное, вы будете счастливы, потому что занимаетесь тем, что любите.
Еще никто и никогда не говорил мне таких слов. В Обазине монахини превозносили жизнь, в которой нет ни ожиданий, ни надежд, словно человек не способен сам добиться своего счастья, своими руками построить счастливую жизнь. Если раньше я не догадывалась, что люблю Боя, то именно тогда поняла это каждой клеточкой своего существа. Попроси он меня лечь с ним в постель в ту ночь, я бы согласилась не раздумывая, даже с радостью, меня не остановило бы, что охотничий домик набит пьяными гостями, которые могли бы нас услышать.
Но он не попросил, и тут бы мне встревожиться, не считает ли он меня не в своем вкусе, не любит ли он другую, что тоже было возможно. Для меня же он совершенно неотразим, так почему бы ему не понравиться любой другой женщине, ведь по жизни, наверное, ему приходится со многими встречаться. И Бальсан, конечно, в конце концов заметил наше сближение, потому что после того, как Бой укатил в Париж, он заметил:
— Вот проходимец! У него любовница в каждом порту. Может, по рождению он и наполовину англичанин, но в душе истинный француз, ни одной юбки не пропустит. Большего француза я в жизни не видел.
Если бы я больше прислушивалась к тому, что творится в душе Бальсана, то давно догадалась бы, что он человек обидчивый и уязвимый, и сразу поняла бы это предостережение: мол, держись от Кейпела подальше. Но Бальсан не устраивал скандалов, не угрожал, что прогонит, и меня ничто не сдерживало. Может, и правда, что на счету у Боя сотни разбитых сердец, а я дожидаюсь своей очереди, но, как говорится, что должно случиться, обязательно случится. Это неизбежно.
В общем, мы были созданы друг для друга.
А потому я не особенно беспокоилась о том, что могла показаться ему непривлекательной. И не волновалась, почему он не действует, ведь у нас с ним так много общего. Я знала: пройдет время и он это сделает. Должен сделать. Мы оба должны.
Мне нужно было лишь обрести свободу.
И все же я была не совсем уверена. Новый, 1909 год мы отметили грандиозной вакханалией в Руайо с маскарадом, на который явились все друзья Бальсана, включая Эмильену и ее подруг. И только Бой не явился. Он отправился в Англию навестить родственников. Но не поэтому я все откладывала решительный шаг. Сама не знала почему. Я боялась сделать этот последний шаг, боялась плюхнуться в воды незнакомого озера, боялась застрять там, где застряла Адриенна и многие другие, надеявшиеся на то, что все как-то само собой образуется.
Сдаваться, капитулировать я не собиралась, тем более перед мужчиной.
Эмильена сразу заметила во мне перемену. В доме было слишком много народу, чтобы можно было снова предаваться нашим незаконным утехам, но в день своего отъезда она улучила минутку, чтобы пошептаться со мной.
— Нутром чую, кто-то другой занял мое место в твоем сердце, ma chrie, — сказала Эмильена, а когда я начала было протестовать, жестом заставила меня замолчать. — Не надо никаких объяснений. Не забывай, у нас у всех должен быть выбор.
Но как раз эта самая необходимость выбора и парализовала меня, лишила воли. Я не могла работать, бродила по мастерской, полной шляпок, ждущих, когда я наконец за них возьмусь, а мысли были далеко-далеко: я думала, где сейчас Бой, что он делает, вспоминает ли обо мне. Представляла, как он сидит в парижском кафе с какой-нибудь cocotte, смеется или фланирует по набережной Сены с одной из тех, чье сердце он покорил, и моя душа болела невыносимо. Не сразу я поняла, что это называется ревностью. А когда поняла, то пришла в ярость, не в силах бороться со своей беспомощностью и страстностью, но на этот раз не на кого было излить свою злость.
Я вся горела, всем своим существом жаждала хотя бы прикосновения Боя.
Он приехал весной, когда снег уже стаял, а почки каштанов набухли. Послышался бронхиальный хрип перегретого мотора, машина по подъездной дорожке подкатила к замку, я отбросила ножницы, босиком помчалась из комнаты, скатилась вниз по лестнице. Он еще не успел зайти в прихожую и расстегнуть плащ, не успел провести рукой по растрепанной ветром шевелюре, как я бросилась ему на шею.
И он поцеловал меня. Поцеловал крепким, перехватившим дыхание поцелуем и так прижал к себе, что буквально расплющил меня на его груди. Я как-то сразу ослабела и одновременно раскрылась ему навстречу, вся преобразилась, словно моя душа разлетелась на кусочки и, воссоздавшись вновь, засияла чистым, без единого пятнышка светом; и тело мое тоже словно обрело новую жизнь, стало упругим и одновременно мягким и эластичным.
— Я очень скучал, — прошептал он.
Наконец он поставил меня на пол, но мои босые ноги не чувствовали холодного как лед пола… И тут вдруг раздались хлопки в ладоши.
Я резко обернулась. В дверях, ведущих в библиотеку, стоял Бальсан. Это он аплодировал нам, скорчив кислую гримасу:
— Браво! Наконец-то нашелся человек, который сумел растопить холодное сердечко моей маленькой Коко.
Бальсан вернулся в библиотеку, где паковал вещи, собираясь в путешествие, на этот раз в Аргентину. В этой стране разведение породистых лошадей было национальной страстью, и он слышал, что именно там можно найти образцы превосходнейших пород. Не дождавшись, когда он появится снова, я спросила Боя:
— Ну и что теперь делать?
— Скажи ему правду. И мы едем в Париж. Я хочу дать тебе денег на устройство ателье. — (Я разинула рот.) — После поездки сюда ко мне зашла Эмильена. Она считает, что ты обречена на успех. Кстати, я тоже так считаю. И хочу поучаствовать в этом деле, если ты не против.
Я хотела еще раз поцеловать его, но он повел меня в библиотеку, где мы нашли Бальсана сидящим за столом с большим бокалом коньяка.
— Хотите выпить? — спросил он, не подниая головы.
— Этьен, mon ami… — начал было Бой, и Бальсан с кривой улыбкой посмотрел на него:
— Берегись, англичанин. У нас во Франции не принято похищать у друзей любовниц.
— Да я не хотел и не собирался, — отозвался Бой, но тут я перебила его, расплела наши пальцы и шагнула к Бальсану:
— Если тебе обязательно надо найти виноватого, можешь обвинить меня.
Губы его задрожали.
— Ты ничего не понимаешь. Осталась такой же наивной дурочкой, какой была, когда я вытащил тебя из этой дыры в Виши.
— Может быть, — сказала я, спиной ощущая, что Бой позади так и застыл на месте. — Но я этого хочу.
— Правда? — улыбнулся Бальсан. — А ты уверена? Ведь как только ты уйдешь отсюда, назад дороги не будет. Я не стану великодушничать, хотя ты мне очень небезразлична.
— Да, — сказала я. — Я это знаю.
Он поднял свой взгляд на Боя:
— Ты позаботишься о ней?
Я не оглядывалась на него, но знала и так, что Бой утвердительно кивнул.
— Ну, тогда решено, — сказал Бальсан. — Она уходит к тебе.
— Не ко мне, — поправил его Бой. — Она уходит со мной. Тут есть разница.
Не успел Бальсан что-то сказать, как вступила я:
— Он хочет помочь мне открыть ателье. И тогда мне больше никогда не понадобится ничья поддержка.
Бальсан закатил глаза к небу, потом осушил бокал:
— Опять это ателье! Боже мой, да она упряма как ослица! — Он встал и пошел через всю библиотеку к столику, где стоял графин из граненого стекла. Налив еще порцию коньяка, он обратился к Бою: — Она разорит тебя, если ты станешь потакать этой дурацкой фантазии. Останешься без единого сантима.
— А что, я готов, — ответил Бой. — Ты небось думаешь, у нее это все несерьезно, но я так не считаю. Я дам ей в долг, и она вернет с процентами, когда сможет.
— Неужели? Ну-ну… — Бальсан снова осушил бокал. И хотя говорил он твердо, я видела, как он дрожит, и мне стало его жалко. Было больно смотреть на эту закрытую, словно устрица в раковине, душу, которую я когда-то считала открытой всему миру, было больно видеть человека, цепляющегося за привычный мирок, который блекнет и исчезает. — В долг, говоришь, с процентами, значит. — Он явно насмехался. — Очень щедро, особенно если учесть, что тебе придется ждать не один год, если она вообще когда-нибудь вернет.
— Посмотрим, — сказал Бой и махнул мне рукой. — Пойдем, Коко.
— Я не возьму ничего, что мне не принадлежит, — сказала я Бальсану. — Даю слово.






