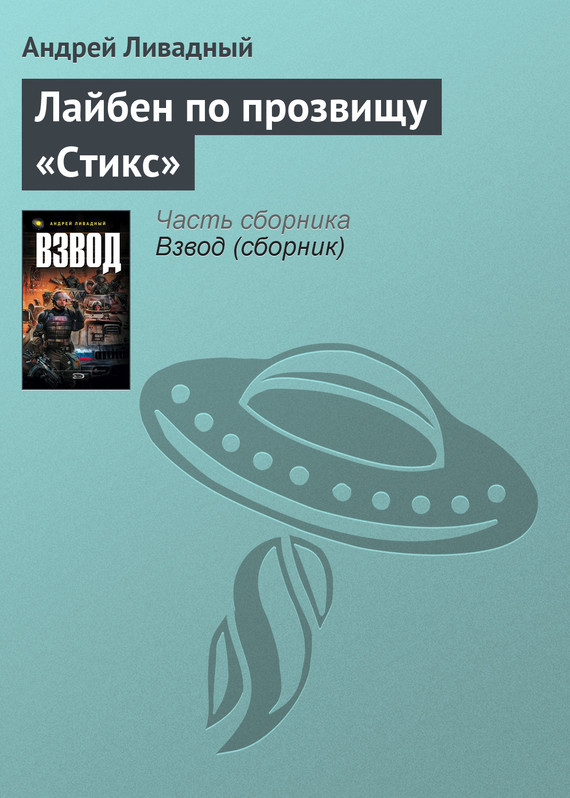Остров накануне Эко Умберто
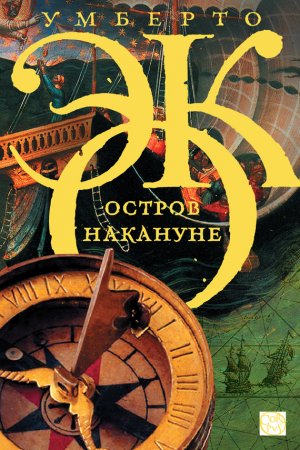
Роберт в ответ вопрошал его, а что, святой отец, вы – то плаванием овладели, и слышал от преподобного, что он – де не претендует превосходить прочее человечество, регулярно отвращающееся от свершения добрых дел. Он – де рожден был в такой стране, что лежит вдалеке от моря, и ступил ногою на корабль лишь в почтенном возрасте, в котором – объяснял он Роберту – на голове свербота, в зеницах бельма, нос полон флегмы, уши слизятся серой, десны гноем, прострел в загривке, першенье в глотке, подагра в пятках, в морщинах кожа, все космы пеги, башка плешива, дрожат коленки, трясутся пальцы, подкашиваются ноги, а в груди клокочет застойная мокрота с харкотиной и кряком.
Однако, торопился он добавить, в сем остове дух моложе, чем бренная падаль, и Каспару ведомо то, что мудрецы античной Греции выведали от природы, а именно что если тело взять и вверзить тело в жидкость, к нему будет применена выталкивающая сила, и тело пихнется вверх перетекающею водою, потому что вода стремится снова заполнить пространство, из коего была выгнана. Неверно, что тело плывет или тонет в зависимости от формы, обманывались древние люди, считая, что плоская фигура удерживается, а заостренная идет ко дну. Если Роберту случалось с силой утапливать в воду, скажем, к примеру, бутылку (которая не плоской формы), он ощутил бы противодействие такое же, как потопляя поднос.
Значит, оставалось только найти общий язык с водной средою, а прочее, предполагалось, образуется само. Каспар велел Роберту сходить по канатному трапу, тому самому, который носил прозвище Лестницы Иакова, но для уверенности его обвяжут линем, или кабельтовом, или какою попало снастью, длинной и надежной, прикрепленной концом к бархоуту. Будет тонуть – дернет за веревку.
Нечего говорить, что учитель, никогда сам не плывший, недоучел множество сопутствующих осложнений, недоучитывавшихся и мудрецами Греции. К примеру, для свободы движений к Роберту был приторочен настолько длинный шкот, что учащийся моментально пошел на дно и был еле вытащен, но наглотался соляного раствора до того крепко, что отказался, по крайней мере, на тот день, от новых упражнений.
И все же начало казалось завидным. Сойдя по трапу и погрузясь наполовину в воду, Роберт почувствовал, что морская жидкость приятна для тела. От кораблекрушения в его памяти сохранились холод, злость волн, а тут, попробовавши теплого моря, он ощутил настоящее удовольствие и окунулся целиком, продолжая держаться за трапик, но зайдя в воду до подбородка. Думая, что плаванье будет настолько же сладко, он разнежился воспоминаньями о парижском житье.
С тех пор как его выбросило на корабль, он поддерживал чистоту, как мы наблюдали: наподобие кота, который ежедневно моет мордку и под хвостом. Что до остального тела, и в особенности, по мере того как он озверевал в борениях со злопакостным Неведомцем, ноги Роберта облепливались палубным мусором, и пот постепенно приращивал одежду к коже. Теперь, в теплых струях, которые ополаскивали одновременно и тело и платье, Роберт относился мечтами к тому дню, когда обнаружил во дворце Рамбуйе целых две лохани с водой, приготовленные для маркизы, забота которой об опрятности была темой подтруниваний в высшем свете, где омовения не были чересчур часты. Даже самым изысканным посетителям было свойственно думать, что чистота состоит в свежести белья, белье было принято менять то и дело, а мыться было не принято. Те душные облака благовоний, в коих маркиза утапливала своих приглашенных, она нагнетала отнюдь не из роскоши, а для необходимой обороны своего чувствительного носа от сального смердения гостей.
Так что Роберт превзошел аристократичностью самого себя в Париже, когда, схватившись одной рукой за трап, другою тер и наяривал рубаху и штаны о заскорузлое тело, а пальцы левой ноги в то же самое время отскребали пятку правой.
Фатер Каспар наблюдал за ним заинтригованно, но хранил молчанье, давая Роберту возможность обвыкнуться с водой. В то же время из опасений, как бы Робертов разум не застился заботой о пошлом теле, он развлекал его умной беседой. На этот раз темой выступали приливы моря и притягательные способности луны.
Старик обращал внимание Роберта к явлению, содержащему некую невероятность. Если приливы отвечают на приглашения луны, они должны приключаться именно тогда, когда луна стоит над ними, а не тогда, когда она освещает противоположный бок планеты. А между тем высокая и низкая вода чередуются на обеих сторонах земного шара, почти наперебой вступая в действие через каждые шесть часов… Роберт выслушивал соображения о приливах, однако думал о луне, о которой во все эти прошедшие ночи он думал больше, нежели о приливах.
Поэтому он спросил, отчего выходит, что луна кажет нам всегда одно и то же и только одно свое лицо, а отец Каспар ответил, что она вращается по орбите, будто мяч, который атлет раскручивает, привязав на веревку, и который виден ему только с привязанной стороны.
«Но, – не отступался Роберт, – этот бок показывается и жителям Индий, и нам. А вот жители Луны совсем иначе наблюдают свою лунную луну, иногда еще называемую Вольной, которая и есть наша с вами Земля. Субвольванцы, живущие на поверхности, повернутой в края земные, видят ее постоянно, в то время как перивольванцы, населяющие противоположное полушарие, не имеют о ней представления. Вообразите теперь, что происходит, когда они приезжают на обратную сторону своего шара. Что они чувствуют, увидев, как в ночи на полнеба полыхает круглая луна в пятнадцать раз крупнее той луны, которую наблюдаем мы с вами! Как пугаются, ждя, что того и гляди, она свалится им на макушку, точно как древние галлы опасались, что им на голову обрушится небо! Не говоря уж о тех, кто живет на самой границе нашего и не нашего полушарья и поэтому видит Вольву вечно полувысунутой из – за кромки небозема!»
Иезуит парировал иронией и издевками Робертовы пустобредства насчет обитателей Луны, ибо небесные тела не обладают тою же натурой, что Земля, и поэтому не пригодны к обитанию живыми существами, так что лучше предоставить их когортам ангельским, которые умеют перемещаться духовным бегом в хрустале небес.
«Да возможны ли небеса из хрусталя? Кометы раздробили бы их на куски».
«Кто это информировал тебя, якобы кометы передвигаются в помещении эфира? Кометы передвигаются в подлунном помещении, то есть здесь, а тут есть воздух, как ты это сам можешь видеть».
«Движутся только тела. Небеса движутся, эрго они тело».
«Ты ради того чтобы говорить бестолковщину, становишься даже аристотеликом. Но я знаю, по какой причине ты говоришь это. Ты хочешь, чтобы в небесах тоже был воздух. Тогда получается, нету различий между верхом и низом, значит, все вертится, и Земля вихляет своею задницей вроде вертихвостки».
«Звезды каждую ночь предстают в новом положении». «Конечно. Звезды действительно перемещаются».
«Постойте, я не кончил. По – вашему, и Солнце, и все светила, которые являются огромными телами, оборачиваются вокруг Земли каждые двадцать четыре часа. Что же, и неподвижные звезды вместе с тем огромным обручем, в который они впаяны, пробегают за каждые сутки расстояние в двадцать семь раз по двести миллионов лиг? А ведь выходит именно это, если вообразить, что Земля не вертелась бы вокруг своей оси раз в двадцать четыре часа. Как удается неподвижным звездам бегать с такой быстротой? У их обитателей закружатся головы!»
«Это если там есть обитатели, что составляет собой petitio principii (Предвосхищение основания (лат.) – логическая ошибка, заключающаяся в скрытом допущении недоказанной предпосылки для доказательства.)».
И фатер Каспар пустился в доказательство, что легко изобретается только один аргумент в пользу движения Солнца, но что существует множество аргументов против вращения Земли.
«Знаю, знаю, – не унимался Роберт. – Екклесиаст говорит: terra autem in aetemum stat, sol oritur (Земля же пребывает вовеки; солнце восходит (лат)), а Иисус Навин остановил Солнце, не Землю. Но именно вы намедни предостерегали меня, что если воспринимать Библию буквально, получится, будто свет существовал еще до появления Солнца. И мы решили, что к Священному Писанию надо подходить с разбором; и еще святой Августин подмечал, что в тексте Библии многое сообщается more allegorico…»
Фатер Каспар с тонкой улыбкой парировал, что вот уже немалые годы иезуиты отказались в борьбе с противниками прибегать к священнотекстовому крючкотворству, а действуют посредством непобораемых аргументов, основанных на астрономии, на разуме, на математических и физических резонах.
«На каких же резонах, интересно?» – отзывался Роберт, соскребая отложения грязи с живота.
Интересно, отвечал на это задетый иезуит, было бы тебе послушать знаменитое Рассуждение о Колесе. «Теперь ты слушай меня. Вздумай колесо».
«Вздумываю колесо».
«А теперь попытайся соображать своими мозгами, вместо того чтобы как обезьяна повторять то, что тебе втемяшили в твоем Париже. Теперь вообрази себе, что это колесо мягко насажено на ось, как будто колесо у горшечника, и ты хочешь повращать это колесо. Что тогда будешь делать ты?»
«Рукой или просто пальцем трону обод, колесо завертится».
«Не думаешь ты, что лучше завертеть ось?»
«Нет, так ничего не выйдет…»
«О! А ваши галилеяне с коперникианцами ставят неподвижное Солнце посреди Вселенной и доказывают, будто оно вращает весь большой круг планет около себя, и не видят, что движение касается именно этого большого круга планет, в то время как Земля неподвижно пребывает в центре, как ось вращения. Как бы мог Господь Бог приковать Солнце на неподвижное место, а Землю, подверженную порче, темновидную, ввести в компанию сияющих и вечных звезд? Теперь ты осознал свою ошибку?»
«Нет, Солнце должно стоять в самой середине Вселенной! Телам природы необходимо это радикальное пламя, пламя должно гореть в центре царства, дабы удовлетворять потребности, имеющиеся во всех краях. Работа зарождения, где следует ей корениться, как не в середине? Природа разве не расположила семя в гениталиях, на половине дороги от возглавия к ногам? Разве семена не в середине яблока, кость не в пупе сливы? Вот и Земля, которой потребны и свет и жар от серединного пламени, крутится вокруг него, дабы принимать на любые свои поверхности солярные достоинства. Пресмехотворно полагать, будто Солнце вращается около точки, которая неведомо зачем нужна. Это, как если бы жаря жаворонка, оборачивали около него печку и с угольями».
«Ах, вот? Значит, когда епископ обходит по кругу церковь, благословляя ее, с кадилом, ты хотел бы, чтобы церковь ходила около епископа? Солнце способно вращаться, потому что принадлежит к стихии огня. А тебе хорошо известно, что огонь летает и двигается и никогда не пребывает в покое. А горы, ты когда видел, чтоб они двигались? Как же может способна быть двигаться Земля?»
«Лучи Солнца подталкивают ее и сообщают ей силу движенья. Так можно подталкивать мяч рукой, а если мячик маленький, то и поддуванием… И наконец, неужели, по – вашему, Господь Бог гоняет Солнце, которое в четыреста тридцать четыре раза крупнее Земли, только для того, чтобы вызревала на огороде капуста?»
Дабы придать наивящую театральную выразительность этому последнему аргументу, Роберт воздел руку с перстом по направлению фатера Каспара, а ногами отпихнулся от борта, стараясь по возможности попасть в поле зрения священника. При этом движении второю рукой он тоже отпустил канат, голова запрокинулась и потянула все туловище Роберта в пучину моря, и вовсе не полезен оказался, как мы уже указывали, привязанный к пояснице канат, так как длина его была чрезмерной. Роберт проделал все то, что положено утопающему: бурно барахтался и поглощал воду, покуда Каспар не догадался с силой вымотать линь, причалив Роберта обратно к трапику. Роберт взобрался, клятвенно обещая, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сойдет больше вниз.
«Завтра ты попробуешь снова. Соленая вода как медицина, не вижу никакого большого зла», – улещивал его на палубе фатер Каспар. И покуда Роберт вновь налаживал свои отношения с морем путем рыболовства, Каспар объяснял ему, сколько и какой пользы получат они оба, если Роберт доплывет до Острова. Кроме очевидного – заново обрести шлюпку и иметь возможность, как свободные люди, ездить с моря на Остров и обратно, они бы смогли работать на Мальтийской Установке.
Эта Установка по пересказу Роберта рисуется смутно, и остается заключить, что ее замысловатость превосходила Робертовы способности постижения, а может быть, загвоздка и в том, что речь фатера Каспара, как случалось весьма нередко, составлялась из эллипсисов и восклицаний, которыми священнослужитель пытался отобразить и форму и назначение постройки, и даже идею, которая ее предвосхитила.
Идею, вдобавок, изобрел не сам преподобный Каспар. Он проведал набросок Установки в бумагах почившего собрата, который в свою очередь перенял эту мысль от другого иезуита, побывавшего на благородном острове Мальта, который он именовал Мелита, и слышал, как восхваляли сей наблюдательный снаряд, выстроенный по приказу Верховного Князя Иоанна Павла Ласкариса, Великого Магистра ордена знаменитых Рыцарей.
Какова была Установка, воочию никто не видел; от первого собрата имелась какая – то тетрадь с набросками, да и ту не удалось сохранить. С другой стороны, жаловался Каспар, в тетради были «беглые записи, и ни одной schemate visualiter, ни одной табулы, изображения, ниже практических указаний на строительный счет».
На основании этих скудных сведений отец Каспар, в ходе долгого плавания на «Дафне», взявши в работу корабельных древоделов, перепроектировал (или перекроил) различные элементы технизма, они были созданы, и Установка сооружена на Острове, и на месте были промерены все ее неисчислимые добродетели, и Установка воистину собой представила Ars Magna во плоти и крови, то есть в дереве, железе, холсте и прочих материалах, новоявленные Мега – Часы, Ожившую Книгу, способную огласить все тайны универса.
Она – проповедовал фатер Каспар с очами, сияющими как карбункул – была Единственной Синтагмой Новейших Приборов Физики и Математики, «по дискам и циклам искусно размещенных». Потом он что – то рисовал пальцем на досках палубы или на воздухе, и предлагал вообразить какую – то круглую основу, что – то вроде основания или цоколя, который соответствует Недвижному Горизонту с означенными по окружности небоската румбами тридцати двух ветров, и с учетом всего Навигаторского Искусства, что потребно для предсказания погод. «Серединная часть, – продолжал он, – на эту основу насажена и представляет собой куб, то есть нам дается пять граней, нет, не шесть, а пять, так как шестая смотрит вниз на цоколь и из – за этого ты не можешь наблюдать ее. На первой грани Куба, сия грань есть Хроноскопиум Универсальный, виднеются восемь колес извечной цикличности, изображающие времяисчисление по Юлию и по Григорию, и на какие дни должны приходиться Воскресения, и Високосные прибавки, и, как разбит Круг солнопутья, и когда бывают Передвижные праздники, и Пасхи, и новолуния, и полнолуния, и каковы квадратуры Солнца и Луны. На второй же грани Куба, коя есть Спекулум Космографии, отображение Вселенского времени, – на первом месте помещен Гороскоп, где задается время мальтийское и сообщается возможность увидеть точный час на всех других поясах нашего земного шара. Там расположено Колесо с двумя планисферами, одна из которых показывает и поучает обо всей науке, касательной Девятого небесного круга, по Птолемею („primo mobile“), а другая обо всей науке Восьмого круга и о неподвижных звездах, и о теории, и о движении. А также о приливах и отливах, вернее сказать о повышенье и пониженье морей, кои по причине движения Луны то задерживаются, то ускоряются во всей Вселенной…»
Именно этою гранью Куба был страстнее всего увлечен иезуит. Именно она давала ему возможность использовать Католические Часы, о них уже рассказывалось выше, то есть отсчеты времени во всех католических миссиях на любых меридианах; и не только, а еще, похоже, ею исполнялись функции хорошей астролябии, поскольку она указывала еще и продолжительность дня и продолжительность ночи, и положение Солнца с пропорцией Отвесных Теней, и полуденники, и высокий и малый притины Солнца, то есть как отвесный, так и наклонный; и еще длительность сумерек и кульминацию постоянных звезд в отдельные годы, месяцы и дни. Как раз – таки путем проверок и перепроверок данных с использованьем этой части Куба преподобный Каспар пришел к уверенности, что наконец – то очутился на антиподном меридиане.
Существовал еще у этого Куба, на третьем боку, набор из семи колес, передающий всю Астрологию и все ожидаемые затмения Солнца, а также затмения Луны, все астрологические формулы для подсчета периодов полевых работ, лечебного дела, навигаторского мастерства, а также описания двенадцати небесных Домов, и физиономию природных явлений, которые от каждого знака зависят, а также соответствующий Дом.
У меня не хватает таланта резюмировать все Робертовы резюме. Кратко подытожу сказанное о четвертой грани: все чудесности врачебства ботанического, спагирического, химического и герметического с медикаментами как однородными, так и составными (композитными), вытянутыми как из минеральных, так и из животных веществ, а также «алексифармаки привлекающие, мягчительные, болеутолительные, послабительные, разрешающие, разъедающие, стягивающие, нарывные, горячительные, прохладительные, очистительные, облегчительные, возбуждающие, усыпительные, мочегонные, наркотические, едкие и успокоительные».
Я не способен передать, и в некоторой степени выдумываю сам, что же совершалось на пятой стороне, иначе говоря, на крышке этого Куба, параллельной линии глазоема, по некоторым деталям похоже, что она воспроизводила устройство небесного свода. С другой стороны, упоминается некая пирамида, которая, безусловно, не имела основанием крышку Куба, иначе бы эта крышка целиком пирамидою бы закрывалась, так что более вероятно, что пирамида накрывала собою весь Куб, как палатка, но тогда она должна была быть выполнена из прозрачного материала. Разумеется, ее четыре ската должны были передавать идею четырех частей света, и для каждой части приводились алфавиты и языки различных народов, не исключая элементов примитивного Адамова языка, иероглифов египтян и закорючек китайцев и индейцев Мексики, и фатер Каспар прославляет эту фигуру в следующих выражениях: «Мистагогический Сфинкс! Эдип Египетский! Иероглифическая Монада! Ключ к Соразмерности Языков! Театр Космографии Истории! Чаща Чащ всех алфавитов естественных и искусственных! Новая Любопытная Архитектура! Лампада Комбинаторики! Мерильня Исиды! Метаметрикон! Сжатый перечень Антропоглоттогонии, то есть Рождения человеческих языков! Базилика Криптографии! Амфитеатр Науки! Раскрытая Тайноменесис! Зерцало Полиграфии! Газофилиациум Верборум, иначе говоря, Сокровищница Родовой преемственности Глаголов! Темница Искусства Стеганографии! Ковчег Арифмологии! Сборник Полиглотских Архетипов! Эйисагога Гораполлонова! Долгое перечисление, другими словами: Конгестиорум Изобретательной Памяти! Расследователь Потаенных Литературных Смыслов! Меркурий Возродившийся! Прохладный Вертоград Этимологии!»
Что вся эта громада прехитрости была предназначена для их двоих исключительного пользования, будучи они обречены вовек не обрести дороги возвращения, совсем не угнетало иезуита, то ли от преданности промыслу Провидения, то ли от любви к познанию, нацеленному на самое себя. Однако что изумительно, это позиция Роберта, его в свою очередь не посетила ни единая реалистическая мысль: и он начал вожделеть причаливанья к Острову как события, призванного наделить содержанием, и навсегда, всю его будущую жизнь.
Прежде всего, в очаровании для Роберта Установки играло определяющую роль и то уж единственное соображение, что этот оракул способен знать, где обретается и чем занята в соответствующую минуту Владычица его помыслов. Вот доказательство, до чего бессмысленно с влюбленным, даже который отвлечен полезными физическими упражнениями, толковать о «Звездных Нунциях»; он взыскует одних лишь только упоминаний о своей милой нуде и о любезной тревоге.
Кроме того, что бы ни говорил учитель плавания, Роберт направлялся не на тот Остров, который маячил прямо перед ним в настоящем времени, в настоящем Робертовом; Роберт двигался к тому Острову, коий по промыслу Господню обретался в нереальности, в небытии предыдущего дня.
Готовясь помужествовать с волнами, он уповал попасть на Остров, который был вчера и которого символом выступала Рдяноцветная Голубица, неуловимая, ибо ускользнувшая в прошлый день.
Робертом двигали смутные предощущения, он чувствовал, что желает некую вещь, которая не была фатер – каспаровой; но не вполне понимал, что это. И можно представить себе его нерешительность, поскольку с тех пор, как существует история человечества, ему первому предлагалась возможность уплыть на двадцать четыре часа назад.
В любом случае Роберт был убежден, что он действительно должен научиться плаванию, а всем известно, что даже только одна добрая причина помогает преодолеть тысячу страхов. Поэтому на следующий день мы снова видим его в воде.
Фатер Каспар перешел на сей день к поучениям, что если Роберт отпустит лестницу и станет помавать руками, как будто задавая ритм в собрании играющих музыку, и широко барахтать бедрами, пучина не всосет его. И побудил Роберта пробовать, то при натянутом канате, то перепуская пеньку вне Робертова ведома, и ученика известил, что не поддерживает, лишь когда тот обрел уверенность. Верно, впрочем, что после ceгo объявления Роберт незамедлительно стал утопать, вопя, но в этой жалобе он конвульсивно взбил воду голенями и снова выпрядал головою на поверхность.
Подобные старания продлились не менее получаса и Роберт начал чувствовать, как ему поддерживать тело на плаву. Но стоило ему захотеть двинуться пошустрее, голова западала назад. Фатер Каспар дал ему совет удовлетворить эту наклонность и закидываться головою навзничь елико возможет, напружинив туловище и выпятив его дугою, руки – ноги растопырив, будто для упирания в окружность, и лежащий упокаивается точно в гамаке, где он лежит и час и два, и даже започивает, ласкаемый волнами при косых лучах закатывающегося солнца. Откуда Каспару было ведомо все то, если он никогда не плавал в море? Из Физической Гидростатической Теории, отвечал Каспар.
Обрести надлежащее положение было непросто, Роберт и тужился и давился с обмотанной около шеи пуповиной, пока нашел равновесную позу. Впервые он почувствовал море своим другом. По инструкциям фатера он мерно двигал руками и ногами; легонько поднимал голову, снова укладывался назад и привыкал иметь воду в ушах и переносить ее давленье. Он даже был способен говорить, более того, кричать, чтобы дозвучало до борта.
«Если ты сейчас хочешь, ты повернешься, – руководил им иезуит с корабельной вышки. – Ты пустишь вниз правый твой локоть, чтобы он отвиснул от тела, медленно двинешь левым плечом и повернешься, и ты увидишь, что лежишь пониз брюхом!»
Он не пояснил, что переворачивающемуся следовало сдержать дыханье, ибо лицу предстояло повстречаться с водою, да с такою, которой одна забота – впериться в нюхало новобранцу. Видимо, в трактатах о Гидро – Пневматической Механике это позабыли. И потому из – за ignoratio elenchi (Неведение всех возможных дополнительных обстоятельств (философский термин, лат. из греч.)) преподобным Каспаром Роберт заглотал еще один кувшин просолоневшей воды.
Но теперь он потихоньку научался научаться. Два – три раза кувырнувшись вокруг оси, он понял принцип, основу для всякого плавальщика, именно что с головой под водою не пытаются вдохнуть, а выдувают содержимое ноздрей, как будто освобождаясь и от того небогатого воздуха, который забран впрок и потребен. Вроде бы должно разуметься само; однако не разумелось, как показывает опыт Роберта.
Как бы то ни было, он убедился, что ему легче лежать навзничь, задрав лицо, а не ничком. Я – то предпочитаю лицо поворачивать вниз; но Роберт, по видимости, любя тот навык, что освоил первым, дрейфовал на спине и в этот и в следующий день, поддерживая беседу о двух величайших мировых системах.
Снова возвратились к вращению Земли и отец Каспар раззадорил Роберта соображениями об эклипсах. Если сместить Землю из средоточия мира и определить на место Земли Солнце, Землю придется пристроить или над Луной или под Луной, иначе не выйдет. Поставь мы ее под Луной, не станут возможны затмения Солнца, потому что Луна пребудет над Солнцем и над Землей и никогда не сможет всунуться между Землею и Солнцем. Поставь мы Землю над Луной, не смогут происходить эклипсы Луны, потому что если Земля над нею, как же Земле проскакивать между Луною и Солнцем? Вдобавок к тому астрономия утратит способность, коей обладала всегда до этих пор, предсказывать затмения, и преточно, потому что астрономия исходит в своих расчетах из движений Солнца; если же Солнце недвижно, всей арифметике цена грош.
Иезуит упивался Аргументом о Лучнике. Если Земля вращается все двадцать четыре часа суток, то стрела, пущенная строго вверх, обязана падать на запад за много миль от стрелявшего. То же доказывает и Аргумент о Башне. Груз, отпущенный с западной стороны высотной постройки, вращайся земной шар, попадал бы не к подножию башни, а далеко вкось, то есть летел бы не по вертикали, а по диагонали, потому что за это время башня (и Земля) крутились бы в направлении востока. Поскольку все – таки известно из экспериментов, что груз ударяется о землю отвесно, значит, вращение земли пустое балясничанье.
Не поминая уж Аргумент о Птицах, которые, оборачивайся Земля за прохождение одних суток, нипочем не выдержали бы противостояния ее оборотам, даже при дивной неутомимости. Мы же по опыту знаем, что пусть и скача на коне в направлении солнца, всадник не догоняет никакую птицу, а она настигает его и опережает.
«Отлично. И не возразишь. Но я знаю, что если вращать Землю и прочие планеты, а Солнцу стоять, объясняется большинство явлений; Птолемей же блуждал вокруг да около, со своими эпициклами и деферентами, с иными вселенскими околичностями».
«Прощу твои дурные каламбуры. Но если говоришь не в шутку, отвечу, что не будучи язычник, как Птолемей, я сознаю, сколькими погрешностями тот преступался. И потому мыслю, что величайший Тихо из Ураниборга имел зело здравую идею. Он думал, что все известные нам планеты, как то Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн, ходят около Солнца, однако что Солнце окручивается совокупно с ними около Земли, вокруг Земли же вращается Луна, а Земля стоит неподвижно в центре круга неподвижных светил. Этим объясним заблуждения Птолемея, не указывая на ересь, ересь шла от Галилея. Ты не обязан объяснять, отчего умеет Земля, такая тяжелая, передвигаться по небу».
«А отчего умеют Солнце и неподвижные планеты?»
«А на твой взгляд, они тяжелы? По – моему, нет. Это небесные тела, а не подлунные! Земля – то и впрямь, действительно, имеет великую тяжесть».
«Как же тогда корабль о сотне пушек умеет двигаться по морю?»
«Это море его тянет, а ветер подгоняет».
«Ну тогда, если позволено высказать новую идею не взбесив римских кардиналов, я слышал, как в Париже один философ излагал, будто небо есть жидкая материя, как море, и материя крутится, образуя водовороты… tourbillons…»
«Что это значит?»
«Воронки».
«Вороны? А, понял, водовороты. К чему это?»
«К тому, что воронки засасывают в себя планеты. Воронка движет Землю вокруг Солнца, но это именно воронка крутится, а Земля пребывает неподвижно в воронке, описывающей круги».
«Ну ты хорош! Сперва не позволял небесам быть хрустальными, боялся, что кометы раскокают хрусталь, а теперь готов разжижить небеса, не опасаешься, что птицы в них завязнут! Во – вторых, идея водоворотов может объяснить, как Земля обращается вокруг Солнца, но из идеи водоворотов не следует, что Земля вокруг своей оси циркулирует, как ребяческий волчок!»
«Верно. Однако тот философ говорил, что и на данный случай надо иметь в виду, что оборачивается только поверхность морей и наружностная кора нашего шара, в то время как центр в глубине простаивает. Что – то в этом роде».
«Еще неразумней прежнего. Где опубликовал этот молодчик все это?»
«Не знаю, кажется, он отказался от мысли записывать эти идеи и публиковать их. Не хотел раздражать иезуитов, он их сильно любит».
«Тогда уж предпочту господина Галилея, который еретические мысли питал, но поделился ими с любвеобильнейшими кардиналами, и никто его потом не думал жечь. Не нравится мне этот твой знакомый, который мысли питает еще более еретические, однако ими не делится, пусть и любя иезуитов. Может, Господь в один хороший день Галилея и извинит, а этого молодца, не думаю».
«Вообще – то, помнится, он поправился с этой первой мыслью. Вроде бы громадный сгусток материи, который простирается от Солнца и до неподвижных звезд, вращается внутри большого круга, подгоняемый тем самым ветром…»
«Но ты же говорил, что небеса разжижены?»
«Наверное, не разжижены… Наверное, небеса это ветер…»
«Ну вот. Сам не понимаешь что мелешь».
«…и ветер гоняет все эти планеты вокруг Солнца, и в то же время Солнце вращается вокруг самого себя. И существует меньший вихорь, который крутит вокруг Земли Луну и Землю вокруг самой ее. Однако нельзя так сказать, будто Земля вращается, потому что она не сама вращается, ее вертит вихорь. Скажем, я лягу спать на „Дафне“, а „Дафна“ переплывет к тому острову, что на востоке, а я, значит, перемещусь с одного места на другое, но никто не может сказать, будто мое тело шевелилось. Что же касается ежесуточного вращенья, я будто приделан к громаднейшему колесу горшечника, и ясно, что увидите то лицо мое, то спину, но все – таки кружусь вовсе не я, а колесо».
«Это увертки злоумствующего, кто еретические мысли лелеет, но не признается. Скажи мне, если так, что будет со звездами? Что, и Большая Медведица в полном составе, и Персей двигаются с твоим водоворотом?»
«Но ведь все видимые нами звезды, это особые солнца, и каждое обретается посередине собственной воронки, и целый универс есть огромный виток воронок, с бессчетным количеством солнц и неисчислимым числом планет, и опричь, там, где неподвластно человеческому огляду, продолжаются планеты, и все они обитаемы!»
«О! Этого я ждал от тебя и дружков безбожников! Вот куда вы клоните, множественные миры!»
«Ну, по крайней мере, не единичный мир. Будь мир единичным, где прикажете Богу располагать ад? Не в преисподней же Земли».
«Почему не в преисподней Земли?»
«Потому что, – и Роберт повторил, достаточно суммарно, систему доказательств, слышанную им в Париже и малодостоверную по части вычислений, – диаметр центра Земли составляет 200 итальянских миль, что при возведении в куб даст восемь миллионов миль. Учтя, что итальянская миля вмещает двести сорок тысяч английских футов, и что Господь Бог предоставляет каждому проклятому, по меньшей мере, шесть футов земли, выходит, что в аду хватит места лишь сорока миллионам проклятых, что довольно немного, если представить себе всех неправедников, живших в нашем мире от Адама до сегодняшнего дня».
«Так бы населялся ад, – парировал фатер Каспар, не снисходя до проверки подсчета, – если бы проклятые попадали туда вместе с телом. Однако тело им будет возвращено лишь после Воскресения во Плоти и Страшного Судилища! А тогда уж не пребудет ни этой Земли, ни этих планет, а будут другие небеса и другие земли!»
«Да, согласен, если речь идет о проклятых душах, их может удержаться даже тысяча миллионов на кончике иглы. Но некоторые звезды невидимы обычным оком и являются лишь глазу, вооруженному подзорной трубкой. Ну вот, способны ли вы представить себе, что если труба мощнее в сотню раз, она явит нам новые созвездия, а если мощнее в тысячу, то еще и еще новые, и так до бесконечности? Не нам ограничивать Божье творение…»
«В Библии на этот счет не сказано…»
«В Библии и о Юпитере не сказано, однако нацеливались же вы на него позавчера через вашу разнесчастную трубу!»
Однако Роберт заранее знал, в чем коренится истинное несогласие иезуита. В том же, что утверждал и аббат в памятный вечер, когда Сен – Савен вызвал его на дуэль: при бесконечности миров теряет смысл Грехоискупление, или же приходится вообразить себе бесконечное количество Голгоф, или же наша летучая клумбица должна составить собой привилегированный элемент космоса, куда дозволил Господь сойти своему Сыну, дабы избавить нас от прегрешения, а другим мирам не пожелал предоставлять подобную благодать, в опровержение собственного пресловутого добротолюбия. И действительно, на этом была выстроена защита Каспара, позволившая Роберту вновь атаковать его.
«Когда имел место грех Адама?»
«Моими собратьями исполнены великолепные математические подсчеты. Адам согрешил за триста девятьсот восемьдесят четыре года до сошествия Господа Бога нашего Иисуса».
«Ну вот, и собратьям, наверно, неизвестно, что путешественники, побывавшие в Китае, в их числе и миссионеры из вашей братьи, нашли перечни монархов и родословные китайских династий, по спискам видно, что китайское царство учредилось более шести тысяч лет назад, а значит, до греха Адама, и коли это справедливо для Китая, кто знает, для скольких еще земных народов. Значит, и грех Адама, и освобождение евреев, и откровения, извлеченные Святою Римскою Церковью из тех фактов, относятся лишь к отдельной части человеческого рода. Имеется в человечестве и другая часть, которая первородным грехом не была задета. В том нет урона бесконечной Господней доброте: Господь обошелся с адамитами примерно так, как отец блудного сына в притче обошелся с ним самим. Сына Своего принося в жертву единственно для них. Но точно так заклая жирного юнца для провинного отрока, не ущемились родителем отроки честные и достойные, так Господь нежнейше возлюблял китайцев и прочих рожденных ранее Адама, и радовался, что они не затронуты первородным грехом. Если так содеялось на Земле, почему не содеяться тому же и на остальных планетах?»
«Кто тебе вбил в башку эту ахинею?» – проорал в неистовстве фатер Каспар.
«Многие так считают. Есть арабский мыслитель, он говорит, что о том же свидетельствует одно место в Коране».
«Что ты сейчас сказал! Да чтоб Кораном доказывать истину! О, всеведающий Господь, прошу тебя, испепели этого тщесуетного, ветрогонного, одерзительного, злобесовного, буйновздошного, пустобрешного, псокровного, вящетунного, свистягу, шатуна, поганца, парашника, тунеяда, и да ноги его не будет больше на этом корабле».
С этой репликой Каспар ухватил канат и принялся щелкать им, как бичом, сперва огрел по лицу Роберта, потом и вовсе пустил конец. Роберт пошел ко дну вниз головою, задергался, засуетился, не в силах перебрать канат так скоро, чтобы выскочить на воздух, и, вопя и цепляясь, захлебываясь солью, а Каспар надрывался с полубака сверху, что дождется, чтоб Роберт отдал концы, откинул ноги, окочурился и грянулся прямо в огненну геенну, куда самая дорога распроклятым адовням вроде него.
После чего, все же поддавшись душевному христианству, когда ему представилось, что Роберт удовлетворительно наказан, он вытащил его наверх. Так кончилась лекция по плаванию вместе с лекцией по астрономии, и двоица разошлась по койкам не удостоив друг друга прощанием.
Мир восстановился на следующий день. Роберт признал, что гипотеза о воронках не полностью убеждает и его самого и он скорее склонен думать, будто бессчетные миры образуются в результате вихрения атомов среди пустоты, чем не оспаривается существование располагающего Божества, которое подает этим атомам команды и организует их по заповедям, как проповедовал Диньский каноник. Фатер Каспар, однако, восставал и против такой формулировки, поскольку в ней подразумевалась пустота, где этим самым атомам вихриться, но тут Роберт не имел уже никакой охоты полемизировать с новоявленной Паркой, до того щедрой, что вместо обрезания нити жизни она ее злоумышляла удлинить.
В обмен на обещание больше не топить его, он возобновил ученье. Фатер Каспар уговаривал его начать двигаться в воде, что является обязательным условием пловческого искусства, и подсказывал, как надо медленно развиливать руками и ногами, однако Роберт предпочитал нежиться наподобие поплавка.
Фатер Каспар оставлял его в этой неге и использовал время, дабы втакивать ему остальные свои аргументы против идеи вращения Земли. In primis, Аргумент о Солнце. Последнее, если бы стояло неподвижно, и мы бы ровно в полуденный час взирали на него из середины комнаты в окно, а Земля действительно обращалась бы с тою скоростью, кою ей приписывают, – а приписывают скорость не малую, чтобы ей успеть обежать завершенный круг только за двадцать четыре часа, – Солнце бы незамедлительно ускользало из нашего обзора.
Наступал черед Аргумента о Градобитии. Град часто падает целый час напролет, но движутся ли тучи на восточие либо же на западенье, на полночь или на полдень, они никогда не покрывают площадь пространнее двадцати четырех или тридцати миль. Если же Земля бы обращалась, и когда грозовые тучи были бы относимы ветром насупротив ее кружения, выходило бы, что град мог побить не менее трехсот или четырехсот миль.
Затем преподносился Аргумент об Облаках. Они парят в мироколице, когда погода спокойна, и вид такой, будто всегда неспешны. Если же бы Земля действительно обращалась, белые облака, плывущие на запад, пролетали бы с дивной быстротой.
Завершался разговор Аргументом о Тварях, обитающих Землю. Они вынуждены были бы по инстинкту всегда перебирать ногами в сторону востока, разгоняемые вращением земноводного шара, на котором стоят. Что же до хода на запад, этот неестественный ход вызывал бы у них противленье.
Роберт отчасти соглашался со всеми этими аргументами, отчасти соскучивался от них и выдвигал против всего услышанного свой главный – Аргумент Желания.
«Ну и все – таки, – отзывался он, – не отнимайте у меня радость думать, что я мог бы подлететь в воздух и увидеть, как за двадцать четыре часа Земля прокрутится подо мною, и проплывут в низине тысячи лиц, разноцветных, белых, черных, желтых и оливковых, кто в шляпах, кто в тюрбанах, и в городах колокольни одни круглые, а другие со спицами, и с крестами и с полумесяцами, и города с фарфоровыми башнями, и селения с шалашами, и ирокезы, которые готовятся сожрать живым военного противника, и женщины живущие по течению реки Тэс – Хем, подводящие губы красками индиго для своих мужчин, самых уродливых на планете. И женщины калмыков, которых мужья предоставляют в пользование первому пришедшему, как рассказывает путевой журнал мессира Миллиона…»
«Что? Вот я и говорю! Когда философию обсуждают в трактирах, вечные похотливые мысли! А если бы развратные мечтанья тебя не отвлекали, ты бы мог проделать подобное странствие, по соизволению Господню, кругосветно вокруг земного шара, что не меньшая Божеская милость, нежели подвешиваться к небу».
Роберт не был в этом уверен, но не умел возразить. Тогда он выбирал самую дальнюю дорогу, отправляясь от других услышанных аргументов, которые тоже, по его мнению, не противоречили идее Располагающего Господа, и спрашивал у Каспара, согласен ли он считать природу грандиозным театром. Декорации и механизмы предрасположены, чтобы производить приятное впечатление издалека, а колеса и противовесы, которыми производится движение, скрыты от публики. И все же среди зрителей может найтись искусный механик, способный угадать, как слажено, чтобы сделанная птица внезапно подлетела в небо. Тому же должен предаваться и философ при лицезрении мира. Безусловно, философу труднее, потому что в природе приводы машин запрятаны изрядно, и в течение долгого времени гадалось, кем же движимы механизмы природы. И, тем не менее, даже в этом нашем театре, если Фаэтон воспаряет к Солнцу, это происходит потому, что на какие – то нити оказывается натяжение и какой – то противовес близится к Земле.
Эрго, торжествовал в заключение Роберт, возвращаясь к той посылке, из – за которой он начал разглагольствовать на данную тему, – сцена демонстрирует нам вращающееся Солнце, но природа этого механизма не такова, хотя это и не заметно с первого взгляда. Мы видим зрелище, но не коромысло, продвигающее Феба, и, что еще более изящно, сами восседаем на том коромысле… Тут, правда, Роберт запутывался, потому что если он прибегал к метафоре коромысла, разваливалась метафора театра и сравнение делалось до того принужденным, что нужда в нем отпадала (как сказал бы Сен – Савен остроязыкий).
Преподобный Каспар отвечал на это, что человек, дабы запела машина, должен обработать дерево и металл и пробуровить на нужных местах дырки, натянуть на деку струны и елозить по этим струнам смычком; или даже – как он сделал в свое время на «Дафне» – соорудить водяной автомат; а у настоящего соловья, сколько ни заглядывай в глубину глотки, нету такого устройства; се знак, что Господь следует по неисповедимым для нас путям.
Потом он спросил, что если Роберт так уж сильно напирает на идею бесконечных солнечных систем, которые обращаются на небе, не допускает ли он, что каждая из этих систем входит частью в некую систему покрупнее, которая вращается в свою очередь в составе другой системы, еще более огромной, и так далее, и сознает ли он, что продвигаясь такой дорогой можно увидеть себя в положении девицы, совращаемой развратником, которая, пойдя на маленькую уступку, вынуждена предоставлять тому все более и более свободы, поскольку, в сущности, не отпирает его поползновений.
Разумеется, ответствовал Роберт, думать можно о чем угодно. О вихрях без планет, о завихрениях, налетающих друг на друга, о воронках не круглых, а шестиугольных, причем к каждой грани шестиугольной фигуры примащивается новая воронка, и все вместе слепливаются как будто медосборные соты, но можно вообразить себе и вихри – многоугольники, которые соприкасаются не тесно и остается пустота; природа заполняет пустоту другими, более мелкими водоворотиками, и все они сообщены между собой, как шестерни часового механизма, и их совокупность двигается во вселенных небесах как огромный вихрь водоворотов, который, вертясь, запитывает энергией мелкие колеса, содержащиеся у него внутри, и целое это величайшее колесо прокатывается по небу по гигантскому кольцу протяженностью в тысячелетья, может быть, вокруг иной воронки вихрей водоворотов… На этом месте Роберт рисковал вообще пойти на дно от великого кружения в голове, которое у него вызывали эти мысли.
И именно на этом месте для фатера Каспара начинался звездный час. Ну в таком разе, заявлял он, если Земля обращается вокруг Солнца, ну а Солнце против еще чего – то (с молчаливым допущением, что это еще что – то способно крутиться вокруг еще чего – то нового), мы получим ситуацию с трансцендентными кривыми, о чем, по – видимому, Роберт должен был слыхивать в Париже, поскольку именно из Парижа завезли эту теорию в Италию галилеяне, подбиравшие все возможное и невозможное, дабы в мире добавилось беспорядка.
«Что такое трансцендентная кривая?» – спросил Роберт.
«Можешь звать еще трохоидой или циклоидой, мало что переменится. Вздумай колесо».
«Я уже вздумывал».
«Нет, не такое, теперь вздумай колесо, как у повозки. Представь, что на ободе колеса гвоздь. Колесо не едет, гвоздь смотрит в землю. Теперь вздумай, как колесо поехало, что делает гвоздь?»
«Если колесо поехало, значит, гвоздь сначала поднимается, потом снова опускается на землю».
«Значит, думаешь, гвоздь описал окружность?»
«Не квадрат же он описал».
«Так слушай на это, болванская голова. Скажи, гвоздь приземляется в то место, на которое опирался сначала?»
«Минутку… Нет, повозка – то двинулась вперед, значит, гвоздь упрется в землю значительно дальше, чем он был раньше».
«Значит, он не описывал окружность».
«Значит, нет, разрази меня на этом месте!»
«Нельзя выражаться: разрази меня на этом месте».
«Извините. Что же описал гвоздь?»
«Трохоиду он описал, а чтоб до тебя дошло, скажу: это похоже на прыготню мяча, который ты швыряешь оземь, он от земли отскакивает, после этого описывает полукруг, снова бьется… с той только разницей, что у мячика полукруги каждый раз уменьшаются, а у нашего гвоздя они равномерны, если колесо вращается с равномерной скоростью».
«И к чему приводит это рассуждение?» – спросил Роберт, чуя убийственность Каспаровой логики.
«Приводит, что ты толкуешь о водоворотах и бесконечности миров и будто Земля вращается, а вдруг и выйдет очевидно, что Земля твоя вовсе и не вращается, а прыгает по бесконечному небу как будто мячик, шлеп, шлеп, шлеп, хороша траектория для такой важной планеты! Если же твоя теория водоворотов справедлива, значит, и все небесные тела делают шлеп, шлеп, шлеп, это мне препотешно, никогда так не смеялся в моей жизни!»
Затруднительно опровергнуть довод столь утонченный и геометрически идеальный, а также идеально бессовестный, ибо отцу – то Каспару не могло не быть ясно, что нечто сходное будет иметь место даже если планеты будут двигаться по рецепту Тихо Браге. Роберт отправился в постель мокрый и потрепанный, как пес. Ночью он порассудил, не следует ли ему в таком случае отказаться от всех своих еретических идей о вращении Земли. Поглядим, сказал он себе. Если правда окажется на стороне фатера Каспара и Земля не вращается (так как в противном случае она вращается как – то чересчур и нет возможности ее попридержать), что из этого следует? Поставит это под сомнение его открытие антимеридиана, и его теорию Потопа, и то обстоятельство, что Остров на горизонте находится во вчерашнем дне? Не поставит ни в малой мере.
А следовательно, сказал он себе, мне, наверное, лучше не обсуждать взгляды на астрономию с моим новым учителем, а поусердствовать в плавании и добиться того, что на самом деле меня интересует, а интересует меня не разбор, был ли прав Коперник или Галилей, или этот шарашливый Тихо из Ураниборга, – а поглядеть на Апельсинную Голубку, да совершить прыжок в день вчерашний. О таком ни Галилей, ни Коперник, ни Тихо и ни один из моих учителей и друзей в Париже и не мечтывали.
Поэтому на следующее утро он предстал перед отцом Каспаром как почтительнейший последователь, как в отношении водоплавания, так и астрономии.
Однако отец Каспар, сославшись на волнующееся море и на новые расчеты, которые его чрезмерно занимали, на этот день отказался преподавать ему плавание. К вечеру он объявил Роберту, что учиться плавать можно только при большой концентрации и в молчании, и нельзя, чтобы голова витала в облаках. Поелику Роберт был настроен на совершенно обратное, следовало заключить, что к плаванию у него не имелось дара.
Роберт спросил себя, как же это его преподаватель, столь гордившийся идеей, внезапно оставил дорогой ему замысел. И, по – моему, вывод, к которому он пришел, справедлив. Фатер Каспар забрал себе в ум, будто лежать или даже ворочаться на глади моря под солнышком для Роберта приводило к такому кипению фантазии, что рассудок приобретал опасное развитие. От благорастворения в телесности, от смывания влагою, которая являла собой ту же материю, он в значительной степени оскотинивался, и в его голове заводилось нечто по качеству своему нечеловеческое и дикое.
Поэтому фатеру Каспару Вандердросселю следовало поискать чего – то иного для приближения к Острову, чего – то, что не стоило бы Роберту здоровия души.
25. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА[33]
Когда фатер Каспар сказал, что снова воскресенье, Роберт осознал: миновало более недели с их знакомства. Фатер Каспар отслужил мессу, а потом обратился к Роберту с решительным видом.
«Не могу дожидаться, пока ты учишься плавать», – сказал он.
Роберт ответил, что не виноват. Иезуит согласился, что, может, Роберт и не виноват, но что время идет и непогоды с лесными зверями портят ему Установку, а она требует ежедневного ухода. По этой причине, ultima ratio, остается только одно решение: на Остров отправится сам Каспар. На вопрос, как же ему удастся такое, священник ответил, что попытается применить Водяной Колпак.
Он пояснил, что вот уж долгое время изучает, как передвигаться под водой. И собирался даже построить деревянную лодку, обнести ее металлом и сделать двойной корпус, вроде короба в футляре. Длиною этот корабль должен был быть в семьдесят два фута, высотою в тридцать два, шириною в восемь и достаточно тяжел, чтоб вверзиться в глубину морскую. Двигало бы корабль колесо с лопастями, приводимое двумя матросами изнутри, как вращают ослы жернова мельниц. Чтобы видеть, куда корабль плывет, применялся бы трубоспекулум, то есть очко на высокой трубе, которое благодаря поставленным зеркалам позволяло бы наблюдать изнутри все происходящее над поверхностью моря.
Почему он не выстроил эту лодку? Потому что такова природа, – сокрушенно разводил он руками, – унижающая нас в нашей малости. Некоторые идеи превосходно выглядят на бумаге, но в действительности они далеки от превосходства, и никто не может объяснить, какова тут причина.
Однако отец Каспар соорудил Водяной Колпак! «И безграмотные людишки, если бы им сказали, что по лону Рейна можно гулять не омочая одежд и даже неся раскаленную головешку, ответили бы, что это благодурствованье. А между тем подобный опыт уже производился, около столетия тому назад, в Испании, близ блокгауза Толедо. Вот я и намерен дойти до Острова с помощью Водяного Колпака, шагая, как сейчас я шагаю перед тобой».
Он снова нырнул в глубины трюма, который поистине представлял собою на «Дафне» неисчерпаемую сокровищницу. Кроме астрономического арсенала, там складировалось много других вещей. Роберту было велено выволакивать из трюма на верхнюю палубу какие – то новые палки и дуги из металла, а также тяжеленную юбку из кожи, до сих пор сохранявшей запах своего рогатого протовладельца. Мало проку было от Робертовых напоминаний, что негоже – де работать в воскресение Господне: фатер Каспар отвечал, что это вовсе не работа, и в особенности не работа низменная, а исповедание благочинного искусства, и что сегодняшняя рачительность будет ими посвящена усовершению знания великой книги природы. Так что это таково же, как и раздумывание над Святым Писанием, от коего книга натуры не далеко отстоит.
Роберт потому был вынужден заняться работою, понукаемый фатером Каспаром, включавшимся в труд на самых затруднительных стадиях, когда металлические части нужно было просовывать в пазы. Проработавши целое утро, они взгородили клетку в форме обрубленного конуса, чуть выше роста человека, из трех обручей, самого узкого сверху, серединного в центре и широкого снизу, параллельно соединенных посредством четырех наклонных жердей.
К серединному колесу прицепливался подгузник из холстины, на котором мог сидеть человек, и при этом благодаря лямкам, обкручивавшим его грудь и плечи, хомут не только не давал бы ему выпасть, но и сам не осаживался бы вниз, и голова бы не могла проходить наружу через верхнее отверстие.
Пока Роберт гадал, для чего предназначалась постройка, фатер Каспар развернул дубленый фартук, и стало видно, что тот – идеальный чехол для металлического костяка, куда он легко и насадился, зацепляясь крючками за готовые петли таким образом, чтобы, единожды насевши, кожаная полость не сползала. Целокупная постройка представляла собой все тот же усеченный по верхушке конус, закрытый сверху и открытый снизу, или, если угодно, колпак. В его боку, между верхним и средним кругом, открывалось стеклянное окошко. В крышу колокола было вращено мощное кольцо.
Собранный колокол подтащили к площадке кабестана и зацепили за лебедку, благодаря шкиву которой обреталась возможность его поднимать, опускать, вывешивать за борт, снижать и подтягивать, как любой другой тюк, ящик или сверток, грузимый на корабль или сгружаемый с него.
Подъемный ворот немного оборжавел от неупотребления, но потом Роберту удалось раскрутить его и приподнять колпак над палубой, так чтобы была видна начинка. Колпак был готов, он ждал пассажира, готового сесть и привязаться, повиснуть в сердце колокола как повисает в колоколе язык.
Туда мог поместиться человек любой комплекции: достаточно было регулировать рубезки, затужать и ослаблять пряжки и узловины. Должным образом подсупоненный, обитатель колпака мог отправляться в путь, неся дом свой на себе, а ремни придерживали окошко прямо напротив глаз, а нижний край колпака доходил путешественнику приблизительно до лодыжек.
Теперь Роберт сам имел возможность вообразить, торжествующе провозглашал фатер Каспар, что бы случилось, если бы лебедка опустила колокол вместе с подвязанным туда человеком в морскую глубь.
«Случилось бы, что пассажир бы потоп», – отвечал на это Роберт, как сказал бы любой на его месте. На что отец Каспар обвинил Роберта, что он мало еще понимает о «равновесии текучих тел».
«Ты, может, и веришь, что где – то существует пустота, как тебя учили эти украшенья синагоги Сатаны, с которыми ты водил дружбу в Париже. И все – таки, наверное, ты согласишься, что под колоколом не пустота, а воздух. Когда ты погружаешь колокол, под которым воздух, вода не может войти. Или там воздух, или там вода».
Это справедливо, признал Роберт. А значит, как бы глубока ни была пучина моря, человек в ней может идти, и вода в колпак не вступает, хотя бы вплоть до того времени, пока человек своим дыханием не вытребует весь воздух, преобразовавши его в пар (который виден, когда дышим на зеркало). Пар же этот, будучи жиже воды, ей постепенно освобождает место – окончательное доказательство, ликовал отец Каспар, что природа не терпит пустот. Но при колоколе таких размеров у пассажира в распоряжении имеется, как подсчитал отец Каспар, по меньшей мере, тридцать минут времени. Берег представлялся отдаленным, если до него плыть без лодки, но пешком эта прогулка, наверное, не будет долгой, потому что на полпути пролегает коралловый волнорез, из – за которого, кстати, шлюпке в свое время не было прямого хода к Острову и она должна была заходить в бухту за мыс. На некоторых участках рифа кораллы почти торчали из воды. Дополнительное сокращение дистанции достигалось, если наметить экспедицию на час отлива. Надо только добраться до хребта, а там, как выйдешь на место, где вода по колено, свежий и добрый воздух снова ворвется в колокол.
Но как удастся Каспару продвигаться по донной почве, должно быть, заставленной преградами, и как он подымется на скалы, отроги которых круты, а кораллы режут хуже лезвий? И как добиться, чтобы колокол опустился в воду, не опрокинувшись и не вытолкнувшись из жидкости тем же манером, которым всякого ныряющего выпихивает на поверхность вода?
Отец Каспар с хитрейшей улыбкой добавил, что Роберту не пришло в голову самое важное возражение. А именно, что для погружения в воду колокола, в котором воздух, должен прийти в движение объем воды, эквивалентный объему колокола, и вес этого количества существенно превзойдет вес погружаемого тела, и образуется противность. Так вот, чтоб этого не опасаться, присчитаем к весу самого колокола и фатер – каспаровы фунты, а, кроме того, наденем Металлические Подковы! И с видом человека, у которого продумано все до мелочей, Каспар вынес из неисчерпаемого трюма пару сапог с железными подпятниками по пяти дюймов, с застежками у колен. Железо должно было служить балластом, к тому же подошвы защищали ступню от острых камней. Путь в таких сапогах, разумеется, замедлялся, но зато можно было не думать, куда опираешь ногу.
«Но как же из котловины вам выбираться на берег, когда дорога пойдет резко вверх!»
«Ты не был, когда опускали якорь. Я промерил дно лотом. Нет провалов. Если бы „Дафна“ прошла еще немного вперед, пропорола бы киль!»
«Но как вы удержите на голове колокол, такую тяжесть?» – не успокаивался Роберт. А отец Каспар на это, что в воде тяжесть перестает ощущаться, и Роберту тоже это следовало бы знать, и он знал бы, если бы имел опыт, толкал бы шлюпку, или пробовал выудить рукой железный шарик из ванночки, он бы помнил, что тяжесть вещей в воде совсем не такая, как на воздухе.
Роберт, увидев упрямство старика, старался отдалить момент его похода. «Но даже опустивши колпак на дно журавлем, – говорил он, – как удастся отцепить его от каната? А в противном случае веревка не даст вам уйти и вы от корабля не удалитесь».
Каспар отвечал, что как только он достигнет дна моря, Роберт почувствует удар колокола о почву и натяжение каната прекратится. Тут надлежит веревку перестричь. Неужели, по представлению Роберта, возвращаться он станет той же дорогой? Нет, конечно! Достигнув Острова, иезуит вступит во владение прекрасной шлюпкой и на ней обратно доплывет до «Дафны» с помощью и волею Господней.
Но когда выйдет Каспар на землю, даже если он выпутается из лямок, ведь колпак, не будучи присоединен к другой лебедке, не захочет подниматься и выпускать преподобного узника из недра? «Вы что, хотите провести остаток своих дней на острове в заключении в кожаной махине?» Но старец отвечал, что, как только высвободится из подгузника, уж оболочку – то колокола он вспорет без труда острым ножиком и заново родится на свет, как Минерва из головы Юпитера.
А если подле морского дна Каспару повстречается большая рыба, из тех, что нападают на людей? Иезуит расхохотался: даже самая свирепая акула, надо полагать, повстречавшись с блуждающим колпаком, перетрусит, как перетрусили бы и люди, и спасется стремительным бегством.
«Ну ладно, – подвел итог Роберт, искренне озабоченный судьбой друга. – Вы стары и немощны, если кому – то и пробовать, то мне!» Отец Каспар поблагодарил его, но отвечал в таком духе, что Роберт – де уже неоднократно продемонстрировал свою легковесную натуру и неизвестно, на какие дурости он оказался бы горазд, сойдя в колоколе; что он, Каспар, уже отчасти ознакомился с этой областью моря и с этим рифом и похожие рифы он уже исследовал в других местах, когда плавал на плоскодонке; что колокол соорудил он сам и сам имеет понятие обо всех его прелестях и пороках; что он понимает побольше Роберта в гидростатической физике и будет знать, как выйти из затруднения в случае внезапных помех; и, наконец, заключил он речь последним аргументом в свою пользу, «я имею веру, а ты нет».
И Роберту стало ясно, что это вовсе даже не последний, а главный довод, и, конечно же, самый прекрасный. Фатер Каспар Вандердроссель веровал в свой Водяной Колпак, как он верил в Мальтийскую Установку, и верил, что именно Колпак поможет ему достичь Установки, и верил, что все, что он делает, совершается в Господнее имя и во славу. А поскольку вера движет горы, она, несомнительно, сумеет доставить и Водяной Колокол на Остров.
Оставалось собирать на мостике колокол и готовить к погружению. Это занятие отняло у них весь день до ночи. Промазать жиром колпак, чтобы ни вода не проходила внутрь, ни воздух вовне не просачивался. Следовало варить особую смесь на медленном огне: три части воска, одна часть венецианского терпентина, четыре части клея, используемого столярами. Затем пропитать этой субстанцией кожу и выдержать до следующего дня. А потом другой промазкой из дегтя и воска надо было залакировать все щели по краям окошка, где стекло прикреплялось особым клеем, а поверх клея нанести слой смолы.
«Omnibus rimis diligenter repletis» (Надлежаще просмолишь щели внутри и снаружи (лат.). – Бытие 6 – 14), сказав так, отец Каспар провел ночь в молитвенном бдении. На восходе они проверили колокол, все его завязки и крюки. Каспар выждал наилучший миг, когда можно было использовать осушающее действие отлива, но чтобы солнце стояло уже достаточно высоко и таким образом освещало воду впереди от идущего, отбрасывая все тени за спину ему. Потом они обнялись.
Отец Каспар повторил, что речь идет об усладительнейшей вылазке, в ходе которой он сумеет увидеть такие дива, с которыми ни Адам, ни Ной не знакомились, и опасался, что предается гордынной греховности, ибо тщеславится, будучи первым из человечьего рода, кто сойдет на дно морское. «Притом, – добавил иезуит, – это и доказательство смирения: Господь прошествовал по водам, я же пройду под водами, как приличествует грешному».
Нужно было только поднять колокол, опустить его на Каспара и проверить, способен ли он перемещаться куда ему надо.
В течение нескольких минут Роберт присутствовал при эволюциях улитки, даже не улитки, а какого – то гриба, перекати – поля, переползавшего тягуче и неуклюже с частыми остановками и разворачивавшегося целым боком, когда ему требовалось на что – то взглянуть. В большей степени, чем ходьбой, движения ходячей шляпы казались гавотом или каким – то еще старинным танцем, удвоенно несуразным из – за отсутствия музыки.
Наконец отец Каспар, удовлетворенный своими пробами, и таким голосом, который как будто раздавался у него из – под подошв, велел приступать к опусканию.
Колпак установился около лебедки, Роберт его подцепил и начал действовать воротом, потом решил посмотреть, все ли в порядке, и не выпадает ли из колокола подвешенный иезуит. Тот, раскачиваясь в своем футляре, заверил, что все подвесы надежны, но что действовать следует поскорее:
«Эти копыта вырывают мне ноги из брюха! Скорее опускай меня в воду!»
Роберт прокричал еще несколько ободрительных фраз и погрузил в морские волны и кожаный гриб, и его поселенца. Труд был нелегок, приходилось в одиночку справляться с задачей нескольких матросов. Поэтому размот кабестана показался ему бесконечным, казалось, уровень воды постепенно понижался сообразно тому, как Роберт прилагал все более отчаянное усилие. Наконец послышался плеск, он почувствовал, что напряжение сократилось, и еще через несколько мгновений (показавшихся годами) колесо лебедки пошло вхолостую. Значит, колокол сел на дно моря. Роберт отрезал канат и кинулся к борту, чтобы посмотреть, что внизу. Внизу ничего не было.
От фатера Каспара и от колпака не оставалось никакого следа.
«Вот же, иезуитская голова, – в восхищении сказал сам себе Роберт. – Вот же, сумел! Подумать только: там, под водою, разгуливает себе иезуит, а кто бы мог это заподозрить? И может, дно всех на свете океанов кишмя кишит иезуитами, а кто бы мог заподозрить?»
Вслед за тем его охватили мысли более рассудительные. Что отец Каспар находится там, в этом не могло быть сомнения. Но что он оттуда выберется куда – нибудь, это еще не было доказано.
Роберту показалось, что вода в том месте неспокойна. День был выбран еще и за то, что погода стояла превосходная; но все – таки во время последней подготовки поднялся ветер, который здесь, на рейде, только – только наморщивал водяные глади, но вблизи берега создавал какое – то волнение, которое у оголенных отливом скал могло усугубить трудность высадки.
Возле северного мыса, там, где скала сходила в море стремительно – отвесно, клубы пены лупили о каменную стену и раздроблялись на воздухе роем белых искр. Разумеется, это волны резались рядами мелких незаметных зазубрин, полувысунутых из – под воды, но с корабля казалось, будто дракон изрыгает хрустальные вздохи из скрывающих ярость пучин.
Тем не менее, берег выглядел спокойным, зыбь простиралась только до половины дороги, и в глазах Роберта это был хороший знак: именно там, надо думать, пролегала борозда за коралловым рифом, и значит, добредя туда, фатер Каспар находился бы уже в безопасности.
Где же сейчас старик? Если он идет с той минуты, как опустился на дно, время ему уже достичь суши… Но сколько на самом деле времени прошло? Роберт потерял чувство пролетающих мгновений, каждая частичка времени воспринималась им как вечность, и теперь он старался переосмыслить инстинктивный результат и уговаривал себя, что преподобномудрый сошел совсем недавно и, наверное, еще копошится под килем, ориентируется. Но тут появлялась забота: что если канат, закручиваясь по мере спуска, завертел колпак на пол – оборота, и потому фатер Каспар, сам не зная того, оказался с окошком, глядящим на запад, и по этой причине ушел в открытый океан?
Потом Роберт сказал себе, что, поворотившись на запад, любой бы понял, что дно в том направлении не восходит, а опускается ниже, и вернулся бы в сторону подъема. Да, но что если в том месте случайно подымала свои края какая – нибудь дюна? Неважно, все равно указателем должен был служить свет солнца. Да, но насколько проницаются светом солнца морские глубины? И как доходят туда лучи – будто через витраж храма, направленными пучками, или они раздробляются, преломляясь в каплях влаги, и глядящий со дна видит луч как мерцание, лишенное направления?
Нет, перебивал он сразу же сам себя. Старец знает, куда и зачем держит он свою дорогу, он уже на полпути от корабля к волнорезу и, более того, уже достиг своей цели и сейчас выкарабкивается на своих здоровенных подошвах и через миг я его увижу…
Другая мысль. Действительно, до сегодняшнего дня никто из людей не углублялся в морскую пучину. Кто может знать, а вдруг на глубине нескольких футов наступает великая чернота, обитаемая только теми тварями, из очей которых сочится призрачный блеск? И кто знает, присутствует ли на глубине моря чувство прямого пути? Может, старик кружит по собственному следу, повторяет пройденные круги, вплоть до мига, когда воздух внутри его грудной клетки претворится в мокроту и затянет родственную стихию влаги в середину колпака…
Он сожалел, что не запасся, идя на мостик, хотя бы песочными часами. Сколько прошло минут? Может, и более получаса, увы, вполне вероятно, что и более, и вот Каспар уже задыхается внизу. Роберт задыхался. Опамятовавшись, набирал полные легкие воздуха, приходил в себя и убеждал себя, что вот как раз доказательство, что на самом деле времени прошло еще очень мало, и что у фатера Каспара еще есть в запасе чистый воздух.
Иезуит имел полную возможность пойти вкось вдоль берега, и Роберту не имело смысла вперивать взор строго вперед себя, как если б Каспар был обязан выбираться на привалье в месте напротив судна, на дистанции выстрела из аркебузы. Он мог отдалиться в любую сторону, выбирая самый удобный подступ к коралловой мелине. Не говорил ли он, когда подвязывали колокол к кабестану, что это удивительно удачное место, потому что в десяти шагах от той точки риф обрывается вниз и там стоит гладкая стенка, о которую однажды стукнулась лодка, а вот именно напротив спуска колокола имеется проход, и там легко проходила шлюпка и мягко выплывала на береговой песок в месте, где каменные скалы постепенно подымались к пляжу.
Вот, может быть, он спутался в маршруте и оказался у подножия стены, и теперь бредет вдоль нее в южном направлении, отыскивая проход. А может, он огибает стену в северном направлении. Поэтому берег следовало осматривать по всей его ширине, от северной оконечности до южной, иезуит мог вынырнуть, где придется, опутанный водорослями… Роберт вертел головой туда и сюда вдоль линии залива, опасаясь, что, вглядываясь в левый край, он может не заметить Каспара, вышедшего на правом. Хотя на этом расстоянии не рассмотреть человека было невозможно, а уж тем более не потерялся бы из виду кожаный колпак, сверкающий брызгами на солнце, как медная кастрюля.
Рыбина? Может, и вправду в глубине воды повстречалась людоедка, собака – рыба и, не устрашенная колоколом, растерзала иезуита? Невозможно! Роберт разглядел бы ее черную тень. Если встреча имела место, то между кораблем и подступами к коралловому отрогу, никак не дальше. Нет, видимо, старец добрался до барьера, но какие – то животные или минералы своими шипами продырявили колокол, и вышел тот немногий воздух…
Еще одна мысль. Кто меня уверит, что воздуха в колоколе действительно хватило на порядочное время? Уверял Каспар сам, но ведь и он ошибается. Он ошибался, когда уверял, что таз с ворванью сработает. В конечном счете, добрейший фатер часто оказывался сумасбродом и, может быть, все его рассуждения о Великом Потопии, об антимеридиане, об Острове Соломона не иное, как бредни. И потом, если бы он был и прав относительно Острова, может, он ошибся именно в подсчете количества воздуха, потребного человеку. Кроме того, кто поручится, что наши масла, замазки и клеи действительно просмолили все щели в обшивке? А что если в данную минуту внутренность колокола напоминает те гроты, в которые сочится влага с потолка и всех стенок? Если кожаная полость пропускает воду, как губка, разве наша собственная кожа не являет собою сито из невидимых дырок, через которые, однако, пот выпаривается каплями? Если такова кожа человека, почему должна иною быть бычачья? Быки разве не потеют? Но если идет дождь, бык что, промачивается насквозь?..
Роберт заламывал руки и проклинал свою поспешность. Конечно, ясно: когда он мнил, будто пробежали часы, на самом деле пролетели только миги, немногие сокращения пульса. Он сказал себе, что не имеет никаких причин дрожать, он, Роберт, и гораздо более причин на то имеет отважный старец. Может быть, Роберту следовало споспешествовать путешествию иезуита молитвой или же хотя бы надеждой и упованьем на удачу.
И к тому же, сказал он себе, я навоображал чересчур много перипетий трагедии. Меланхоликам свойственно изобретать напасти, которым реальность не в силах противоборствовать. Отцом Каспаром изучены законы гидростатики, он промерил дно этого моря, он изучал Потопие и даже те окаменелости, которые находятся в морях. Спокойствие, сказал Роберт, надо только чтобы я усвоил, что миновало совсем немного времени, и сумел подождать.
Он осознал, что полюбил, что любит того, кто представлялся некогда Посторонним, и он понял, что плачет уже сейчас – от мысли, что с ним могло приключиться недоброе. Ну, старый, бормотал он, вернись, возродись, воскресни, во имя всех чертей, и скрутим шею самой откормленной куре, ты же не хочешь оставить без призора свою Наблюдательную Постройку?
И внезапно он отдал себе отчет в том, что скалы около суши уже не виднеются из моря, значит, море прилило к берегам; и солнце, которое до этого смотрело прямо ему в лицо, теперь отвесно прожаривает темя. Значит, от момента опускания колокола миновали не минуты, а часы.
Он был вынужден проговорить эту истину вслух и громким голосом, чтоб уверовать. То, что он принимал за секунды, были минуты. Он убеждал себя, что внутри груди у него обезумевший механизм, чье биение слишком быстро, а на самом деле помещенные в тело часы не торопили, а замешкивали свой гон. Неизвестно как давно, стараясь себе внушить что отец Каспар только что погружен, он поджидает существо, воздух у которого не мог не кончиться и чье время истекло. Неизвестно как давно он дожидается появления тела, которое безжизненно покоится у придонного бугра под водой.
Что могло приключиться? Все. Все из того, о чем думал Роберт. Не злосчастные ли его фантазии накликали беду, не сам ли Роберт черными мыслями навел злую долю на старца? Гидростатические принципы фатера Каспара могли оказаться непроверенными. Может, вода в данном опыте заходит в колокол и снизу, в особенности, если тот, кто в нем идет, движениями выбрыкивает воздух из обиталища? И впрямь, много ли понимал Роберт о равновесии жидкостей. А может, падение в воду было чересчур стремительно, колокол перевернулся? Или, может быть, Каспар споткнулся, когда пошел? Сбился с дороги? Или более чем семидесятилетнее сердце, не умея соответствовать его порывистости, остановилось? И наконец, кто поручится, что на такой глубине вес воды, навалившись на скорлупку, не расплющил ее, как лимон или фасолину?
Но если священник погиб, разве труп не всплывет? Нет, он отягощен железными котурнами, из которых его бедные ноги высвободятся только когда совместными усилиями едкой влаги и маленьких голодных рыбок оголится скелет и отполируются иезуитовы кости…
Вдруг, как – то внезапно, у Роберта наступило просветление. О чем это он тут бормочет и сокрушается? Ну разумеется, ведь сказано же Каспаром, что Остров, который видится напротив, это Остров не сегодняшнего, а вчерашнего дня! Как Роберт может ждать, что на берег, где сегодня еще не наступило, выйдет тот, кто спустился в воду сегодня? Невозможно! Погружение состоялось в понедельник на заре утром, но на Острове стояло до сих пор воскресенье, и фигура старика вырисуется на излучине только завтра в утренний час, когда понедельник на Острове настанет – Значит, надо дождаться завтра, сказал он себе. Однако… Каспару невозможно до завтра ждать, у него воздуха лишь на малое время! И сам себе возразил: да это мне надо ждать, а не Каспару, Каспар просто возвратился в воскресенье, как только пересек линию меридиана. О Господи, но тогда, значит, видимый мною Остров не находится в воскресенье, потому что если в воскресенье туда высадился старик, я должен бы этого старика мочь сейчас видеть!
Нет, я путаю все. Остров, видимый мной, лежит в сегодняшнем дне. Невозможно, чтобы я созерцал прошлое, как сквозь магический шар. Это только там, на Острове, только для Острова самого, все еще длится вчерашний день. Но если для меня виден Остров сегодняшний, должен быть виден и старик, который в островном вчера уже присутствует и сейчас снова проживает воскресный день… Как бы то ни было, высадись старик вчера, высадись сегодня, но должен же оставаться на песке вспоротый колокол! Однако колокола не видно. Может, старик затащил колокол в рощицу? Когда он это мог сделать? Вчера. Так, поразмыслим еще раз. Предположим, что видимый мною берег Острова обретается в воскресенье. Если я подожду до завтра, значит, я увижу появление старика в понедельник…
Мы могли бы сделать вывод, что Роберт окончательно лишился рассудка, и не без причин: с которой стороны он ни считал, концы с концами не увязывались. Парадоксы времени способны сводить с ума и нас. Поэтому было нормально, что Роберт не в состоянии был уяснить, что ему делать. Тогда он ограничился тем, что любой и каждый, кто оказался в роли жертвы собственной надежды, сделал бы. Прежде чем схватиться отчаянием, он решил подождать наступающего дня.