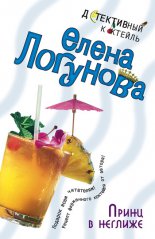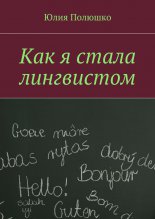Дунай: река империй Шарый Андрей
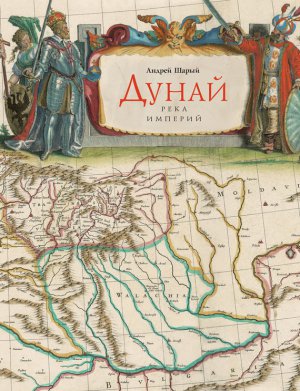
Подзадержавшись с исследованием плотины, я попал в музей Danubiana позже, чем рассчитывал, под закрытие, и, по признанию скучающей дежурной, оказался в этот ненастный день единственным посетителем. Поэтому в гулких залах, постоянную экспозицию которых открывает портрет г-на Мюленстина в элегантном костюме с цветным платком в пиджачном кармане, мне все были рады. Был рад новому опыту и я: Danubiana организована с выдумкой, остромодно, от подвала до чердака, от центрального асимметричного зала до неизбежного в таких заведениях book shop с фирменными чайными кружками и тяжелым глянцем альбомов по искусству издательства Taschen. Концепция здания-музея тщательно выдержана, в мелочах, во всем: от чистых оконных просторов, расширяющих речные пейзажи, до вывески-напоминания о том, что рыба-кит Мюленстина вскоре примет в свое чрево очередную биеннале молодых художников дунайских стран. Понятно, что безошибочный выбор этой концепции не столько собственно для Danubiana, сколько для словацкого национального (да и дунайского международного) проекта важнее списка имен актуальных художников, работы которых выставляются по соседству с Чуновской плотиной. Потому что в начале XXI века свободное искусство, а не железный запор плотины и не будка злого пограничника идеологически формирует береговую линию великой реки. Впервые со времен Римской империи трехтысячекилометровый Дунай – практически от истока до устья – сал частью универсального целого, внутренней рекой Новой Европы. Пусть и на деньги Старой, если иметь в виду щедрость Герарда Х. Мюленстина.
У меня хватило времени поразмышлять о возвышенных материях, поскольку рейсовый автобус, следуя воскресным маршрутом по речному Житному острову, никуда не торопился. По обе стороны шоссе произрастали и колосились различные сорта жита. На карте Житный не слишком заметен, поскольку его окружает не море, а суша, окрашенная в атласе в монотонный светло-зеленый цвет, без бежевых возвышенных прожилок. Так обозначена территория, которую в Словакии называют Подунайская равнина, а в Венгрии – Кишальфёльд, Малая Венгерская низменность. Житный остров (получивший славянское имя в 1919 году) крупнейший на реках Европы[43], площадью без малого две тысячи квадратных километров, но его жители вряд ли чувствуют себя островитянами. Свою малую родину они называют на венгерский манер Csallkz. Общая история подразумевает разные национальные версии прошлого, и проще всего сказать, что в этих краях мадьяризация времен Австро-Венгрии во времена Чехословакии сменилась словакизацией. Из послевоенной Чехословакии венгров (в отличие от немцев) очень уж массово не выселяли, хотя намерения такие имелись и отчасти были претворены в жизнь. В первое послевоенное десятилетие страну – кто волей, кто неволей, по обвинениям в коллаборационизме, – покинули около двухсот тысяч венгров. Примерно полумиллионная сейчас венгерская община Словакии сокращается: одни формально или фактически превращаются в словаков, другие уезжают. На Житном острове, на каком языке его ни называй, становится понятно: столетие назад межгосударственную границу здесь проводили по реке, а не по линии этнического расселения.
ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ
КАК НА РЕКЕ СТРОИЛИ МОРСКИЕ СУДА
В конце XIX века руководство Венгерской речной и морской пароходной компании приняло решение обустроить в городе Комаром зимнюю гавань и судоремонтную верфь. В 1898 году нанятые на предприятие сто пятьдесят рабочих отремонтировали пароходы “Эржебет” (венгерское имя императрицы Елизаветы) и “Фертё” (солончаковое озеро на границе нынешних Венгрии и Австрии). В 1904 году со стапеля комаромской судоверфи спустили первое судно собственной постройки, пароход “Пётефи”. После образования Чехословакии судостроительный завод приобрела чешская компания koda. Здесь наладили помимо прочего выпуск грузовых судов для разных стран и военных катеров. В 1930-е годы в Комарно построили самое современное дунайское буксирное судно своего времени, “Королева Елизавета”. После войны главными заказчиками национализированного предприятия стали партнеры из СССР. В 1950-е здесь проектировали и строили по 50–60 судов в год, в первую очередь круизные теплоходы для советских друзей. Образцом качества чехословацкой продукции в СЭВ считался судостроительный проект 92–016 “Валериан Куйбышев” 1975–1983 годов. Теплоходы этого типа, самые большие речные суда, эксплуатировавшиеся в СССР, брали на борт, вместе с членами экипажа, почти пятьсот человек. По речным меркам эти теплоходы были столь велики, что после постройки их разбирали, по частям транспортировали в порт Килия в низовьях Дуная, где собирали снова. Девятерым близнецам проекта 92–016 присвоили имена деятелей российской и советской истории: “Феликс Дзержинский”, “Семен Буденный”, “Климент Ворошилов” (ныне “Федор Шаляпин”), печально известный “Александр Суворов”[44]. В 1980-х на заводе работали почти пять тысяч человек, каждый седьмой житель Комарно. Тут вдруг закончился социализм, потом распалась Чехословакия. Судоверфь стала объектом ваучерной приватизации, прежние заказчики исчезли, производство подвяло, и в 2001 году предприятие обанкротилось. Теперь основной собственник Slovensk lodenice Komrno – австрийский банк Eurаm. Со стапелей Комарно уже не спускают теплоходы с именами советских героев, все типы грузовых судов в номенклатуре производства словацкого судостроителя напоминают о немецких реках: Amisia, Leda, Maas, Main. Jmme. На заказ умельцы из Комарно готовы сконструировать любое судно, даже роскошную яхту. И качественно ее построить – хоть для арабского шейха, хоть для вас.
Многие жители райцентра Комарно говорят по-словацки с певучим венгерским акцентом. К моему русскому акценту они относились сочувственно: так случилось, что в Комарно я оказался через несколько дней после того, как в июле 2011 года в Куйбышевском водохранилище затонул туристический дизель-электроход “Булгария”, унесший на волжское дно 122 человека. Теплоход построили еще в 1955 году на верфи Народного предприятия Slovensk lodenice Komrno. К катастрофе на Волге у жителей Комарно сформировалось вполне личное отношение. От таксистов, официантов, полицейского и других своих новых друзей я услышал разные версии трагедии; дальним родственникам или знакомым знакомых моих собеседников якобы уже звонили за советом из Кремля, спрашивали, как именно следует поднимать “Булгарию” на речную поверхность.
Главное сооружение в Комарно и лежащем от него через реку венгерском городе Комаром (сто лет назад это был район тогдашнего “общего” города Комарома Уйжонь) – австро-венгерская крепость, циклопическая система фортификаций, за стенами которой могла укрыться армия в двести с лишним тысяч человек. Цитадель с одиннадцатью бастионами на слиянии Дуная и Вага, две линии обороны, четыре форта (каждый сам величиной с настоящую крепость) строили и перестраивали в несколько очередей почти пятьсот лет. Окончательно грандиозный вид все это приобрело в 1870-е годы, а еще через столетие стало никому не нужным, потому что теперь крепости некому и не от кого защищать. Чтобы обойти по периметру объединенные шестикилометровой стеной Старую и Новую крепости (довольно заброшенного вида), мне потребовалось больше двух часов. Отдельные участки так и остались неисследованными: доступ к ним перекрыт огородами, гаражами и разными хозяйственными постройками. Промзона привольно раскинулась и на стрелке. Там, где, строго говоря, положено любоваться соединением вод широкого Дуная и широкого Вага, расположена база первичных материалов. Поэтических чувств этот пейзаж не вызывает, зато, по всем признакам, приречные луга – любимое место отдыха местной молодежи.
За темно-красной крепостной стеной можно укрыть население города, в пять раз более людного, чем Комарно, и, пожалуй, еще и разместить на оставшемся свободным пространстве несколько сухих доков завода Slovensk lodenice. Прилично отремонтирован и держит оборону только один шестой бастион, в котором, помимо народного ресторана, размещен “Римский лапидариум”, собрание камней и осколков камней, которые когда-то использовались при строительстве римского военного лагеря Бригетио на той стороне реки и его дозорного укрепления Каламантии – на этом. Пока надежды Словакии на финансовую помощь Европейского союза не сбылись: без дополнительного укрепления крепость ветшает, стены еще больше темнеют и зарастают травой.
Комаром. XVII век.
Турки так и не смогли взять Комаром. Эту крепость не решился штурмовать, опасаясь потерь, Наполеон, когда сюда от нашествия французов бежал в 1809 году из Вены император Франц II. Советская армия, пришедшая в Чехословакию в 1968-м, разместила в форте Моностор огромные арсеналы, но и она покинула Комарно, сдав свои казармы без боя. Часть крепости, говорят, сейчас находится в ведении словацких военных, но что-то я не приметил часовых у ворот и бойниц.
Похоже, главная слава комарновской крепости все-таки венгерская. В апреле и июле 1849 года в окрестностях этого города произошли целых три сражения австрийской императорской армии против сил венгерских революционеров. Третье сражение оказалось еще и самой кровавой битвой восстания против власти Габсбургов, с обеих сторон тогда погибли около двух с половиной тысяч человек. Венгры, занявшие крепость в сентябре 1848 года, оставили ее только через год, выговорив себе почетные условия капитуляции. Крепость Комаром в буквальном смысле слова оказалась оследним оплотом восставших: когда под натиском австрийских и русских штыков пала крепость, умерла и революция. Гарнизоном, как и всей Северной армией венгров, командовал генерал Дьёрдь Клапка. Памятник этому венгерскому герою – с ружьем в руке, пушечным жерлом у ноги и попирающим знамя львом у пьедестала – стоит на центральной площади словацкого города Комарно. В контексте водных историй фигура Дьёрдя Клапки интересна тем, что, бежав после поражения революции в Великобританию, он познакомился там с торговцем Джеромом Клэпом. В честь этого венгерского друга своего отца получил второе имя Джером Клапка Джером, автор одного из лучших в мировой литературе, на мой вкус, художественных произведений о речном путешествии. Когда в 1889 году повесть “Трое в лодке, не считая собаки” вышла в свет, давно прощенный императором Францем Иосифом и вышедший в отставку Дьёрдь Клапка доживал свой век в Будапеште.
Винцент Кацлер. Сдача крепости Комаром в августе 1849 года. Литография.
Комарно хорош тем же, чем привлекательны для любознательного гостя многие города и городки бывшей австро-венгерской, а теперь центральноевропейской провинции: пестрой, пусть и почти всегда политизированной историей. Венгерское прошлое до сих пор побеждает в Комарно словацкое настоящее. Ведь (вспомню Станислава Киршбаума) история Словакии только формируется, она еще не до конца прописана, выдумана, объяснена учеными, она пока не застыла совсем уж намертво в бронзе монументов. Что может Братислава противопоставить харизме старых уроженцев здешних мест – легкому опереточному таланту композитора Франца Легара (памятник, музыкальный фестиваль его имени), тяжелой прозе литературного классика, автора романов о баронах Карпати Мора Йокаи (театр его имени, памятник, фестиваль любительских театров его имени), родословной короля Ладислава Посмертного (памятник без музея и фестиваля, но этот король и прожил-то на свете всего семнадцать лет), пряничной площади Европы (дюжина постаментов, на которых, как громадные леденцы на палочках, расставлены новодельные скульптуры главных венгерских монархов)? Богиню Славу? Еще один монумент Кириллу и Мефодию на перекрестке городских магистралей? Еще одного типового бронзового генерала Милана Штефаника? Советского речного моряка-освободителя над бассейном, из которого давно спущена вода? Но не стоит забывать, что венгры владели этими краями тысячу лет, а словаки владеют всего-то без малого столетие.
7
Duna. Песнь кочевника
Дунай всё тек. Как ласковая мать
Движениями чресел и колен
Дитя качает, но в себя погружена,
Река со мной играла на волнах.
В потоке времени колеблется вода,
Словно на кладбище колышутся гробы[45].
Аттила Йожеф. Вдоль Дуная. 1936 год
По моим ощущениям, Венгрия – самый грустный дунайский край; ни одна другая тоска не сравнится с жалобой венгерской народной скрипки. Карпатская котловина – огромная воронка посередине Старого Света, сбирающая воедино воды десятков рек и десятки мадьярских печалей, но вытекает из этого котла один только суровый Дунай. Однако не в географии и гидрографии, конечно, дело. Венгры живут здесь, на проходном дворе европейской истории, уже одиннадцать столетий, но, похоже, так и не изжили в себе одиночества, так и чувствуют себя обделенными пришельцами. Вот еще из заунывного, как песнь кочевника, поэтического наследия Аттилы Йожефа: “Мы на окраине космоса”.
Венгерская литература и историография со всей определенностью свидетельствуют о том, что мадьяры оказались невольниками мечты о величии, заложниками языковой изоляции и упорства в неумении на равных смешиваться с другими народами; это качество в национальном характере, похоже, заменено способностью ассимилировать других для формирования политической natio hungarica, вбирать в себя и растворять в себе чужое подобно тому, как Дунай вбирает в себя и растворяет в себе воды больших и малых рек. В национальной инакости, в историческом диссидентстве венгры уступят в Европе разве что евреям, размышлял я, сидя на ступенях выходящего на Дунай фасада мощной базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта в Эстергоме. Это главный католический храм Венгрии и ее самая высокая, стометровая, церковь, теперь еще и пограничная. Здесь, на высоченном холме над рекой, тысячу лет назад, говорят, стоял храм, заложенный по случаю коронации первого христианского владыки Венгрии, Иштвана Святого[46]. Эстергом в ту пору был венгерской столицей, а не как теперь – близкой к столице не слишком уютной провинцией. Так бы и остаться здесь, чтобы смотреть бесконечно, как слева направо, мимо холма с собором, под крашенным в зеленое мостом Марии Валерии влечется к далекому морю Дунай. Мост когда-то построили в честь младшей дочери императора Франца Иосифа и дважды, по разу в каждую мировую войну, взрывали. Теперь по зеленому мосту, восстановленному в XXI веке в качестве символа новых словацко-венгерских отношений, можно перейти из Венгрии в Словакию и наоборот. В благостной немоте угасает день. Кругом ни души, ни шороха, ни щебета, ни смеха, ни солнца, ни туч. Смиренная картина, торжественный марш венгерской тоски.
Возможны и другие подходы к вопросу об историческом одиночестве. Литератор и революционер Жигмонд Кемень когда-то заявлял: задача венгров состоит в том, чтобы защитить многонациональность империи Габсбургов, послужить балансиром между немцами и славянами, тогда в общей стране ни те, ни другие не смогут взять верх. Потомки нахлынувших из азиатских степей кочевников, венгры острой щепой вклинились на дунайские равнины между германскими, славянскими и ромейскими землями. Полтысячелетия трудом и мечом они строили государство, чтобы в XVI столетии всего за пять десятилетий фактически потерять его; потом, оказавшись под скипетром Габсбургов, еще три века восстанавливали, с помпой отпраздновали в 1896 году Миллениум – Тысячелетие обретения родины, сконструировав на этой идеологеме концепцию национальной идентичности, и через четверть века рухнули вновь, оставив за сузившимися границами две трети пространства и половину населения.
Вид на Эстергом с Дуная. Открытка 1890-х годов.
“К несчастью, я мадьяр”, – сказал по этому поводу поэт Эндре Ади. Мадьярское несчастье длится: вот уже век Венгрия выглядит так, как выглядела бы Россия, если бы за ее пределами остались Вологда, Тамбов, Нижний Новгород да еще и Брянск. Территориями нынешней Словакии, прежде чем потерять их, Венгрия владела тысячу лет; хорватскими землями управляла восемь столетий; Белград, под названием Нандорфехервар, веками оставался мадьярской пограничной крепостью; румынская ныне Трансильвания считалась центром венгерской государственности, когда прочие области королевства достались Габсбургам и Османам.
Прошу прощения за пространную цитату, но больно уж она точна. Вот что Петер Эстерхази писал в 1994 году в эссе “Ни о чем, обо всем”: “Европа определенно стала тем, чем является, благодаря, среди прочих, венграм. Но вклад этот, если соизмерять с реальностью, неизмеримо мал, влияние наше видно только под лупой… В невеликости нашей я лично не вижу ничего плохого (хорошего тоже, просто я здесь родился, из чего вытекают и связанность, и привязанность), но заметное число моих соотечественников никак не могут увязать этот факт с представлением, лелеемым о себе. Отсюда чувство обиды, возбужденность, духовная раздражительность и в конечном счете поиск козла отпущения: мы, мол, были б великими, да все время мешают – то турки, то австрияки, то москали, то внутренний супостат. Мы не великие, мы маленькие… Осмысление этого принесло бы немало хорошего, вместо боли самоуничижения мы обрели бы чувствительность к чужой боли”. Вот именно об этом, о неслучившемся, тоскуют и громадная базилика в Эстергоме, и венгерская скрипка.
Предела территориальной экспансии Венгрия достигла во второй половине XIV века при Лайоше I Великом[47], а в зенит придворного блеска поднялась еще через столетие, при Матьяше I Корвине. Легенда об избрании Корвина на царствие вполне себе дунайская: летописи утверждают, что в январе 1458 года представители венгерских сословий, 40 тысяч человек, собрались на скованной льдом реке под Замковым холмом в Буде, чтобы в едином порыве провозгласить Матьяша королем. И лед не треснул.
История Венгрии (как, впрочем, и история любой другой страны) полна таких вот прочувствованных полумифических сцен, повествующих о славных победах и горьких поражениях. Крушение мадьярского порядка случилось всего через полвека после ледяного триумфа юного Корвина и имело своей первопричиной внутренние неурядицы. Весной 1514 года папа римский поручил венгерским епископам организовать Крестовый поход против Османской империи. Добровольческое крестьянское войско возглавил мелкопоместный трансильванский дворянин Дьёрдь Дожа (в румынской традиции – Георге Дожа), и это пришлось не по нраву многим влиятельным магнатам. Король Уласло II отменил было поход, но пятьдесят тысяч ополченцев, разогретых христианской верой, восприняли решение монарха как предательство аристократами святой идеи: ратники (куруцы) принялись поднимать на вилы дворян, провозгласив своего предводителя “настоящим” хозяином земли. Бунтовщиков разгромили, а главаря восстания казнили с чудовищной даже для XVI века жестокостью: Дожу усадили на раскаленный железный трон, напялив ему на голову раскаленный железный венец. Затем еще живое тело народного короля разорвали на куски и скормили офицерам его армии; никому не хватило сил отказаться от страшной трапезы. В 1963 году скульптор Тибор Серватиус, вовсе не в стиле социалистического реализма, смастерил из металлических форм, игл и прутьев фигуру подвергающегося огненной пытке крестьянского вождя. От жуткой скульптуры не отвести взгляда; это металлическое воплощение животных ужаса и боли, метафора страдания за убеждения и грехи. Страдания вообще, потому что железный скелет мадьярского Пугачева воплощает всю несчастную Венгрию и всех венгерских мучеников, а не только тех, кого заставили глотать обугленную плоть своего кумира.
В 1945 году именем крестьянского предводителя и революционного мученика назвали милицейский футбольный клуб и один из центральных проспектов Будапешта, а еще через шесть лет на улице Дьёрдя Дожи появился памятник Иосифу Сталину, подарок к семидесятилетию советского лидера. Восьмиметровую скульптуру с надписью “Вождю, учителю и лучшему другу венгерского народа” отлили из бронзы ставших ненужными в “народной республике” памятников “буржуазной эпохи”. Фигура генералиссимуса возвышалась над трибуной, с которой коммунистические лидеры Венгрии вплоть до 1989 года приветствовали трудящихся и солдат во время демонстраций и парадов. Чтобы освободить пространство для этого монумента, потребовалось взорвать построенный незадолго до Второй мировой войны собор Пресвятой Богородицы. Бронзовый Сталин простоял в Будапеште всего пять лет: в первые же часы восстания против просоветского режима памятник низвергли, оставив на пьедестале только сапоги вождя. Теперь площадь, пару лет своей биографии носившая имя Сталина[48], посвящена героям и мученикам революции 1956 года. Крест на площади напоминает о разрушенном храме Божьем, а новый, авангардистской манеры монумент – о народном единении, непременном факторе борьбы с любым тоталитаризмом. В новом контексте табличка с фамилией Дожи на дорожных указателях выглядит вполне уместной.
Казнь Дьёрдя Дожи. Литография.
Крестьянскую смуту 1514 года усмирили, Крестовый поход не состоялся, королевская власть ослабла из-за притязаний магнатов. Отчасти и поэтому (что подтверждает в числе прочих историков Жигмонд Кемень в работе “О причинах и несчастье Мохача”) всего через десятилетие венгерскую армию наголову с пугающей легкостью разбило войско Сулеймана Великолепного. Эту скоротечную битву (солнце венгерской славы погасло за пару часов) в Будапеште называют “могилой национального величия”, а придунайский городок Мохач вошел в школьные учебники как “венгерское Ватерлоо”. Двадцатилетний король Лайош (Людовик) II Ягеллонский, сын Уласло, бежал с поля брани и, обряженный в тяжелые доспехи, по-глупому утонул в болоте. Отряды главного палача Дьёрдя Дожи, князя Яноша Запольяи, по неясным причинам участия в сражении не приняли. Этот князь и стал последним венгерским монархом, под властью которого хотя бы формально находилась вся территория королевства; на деле ему подчинялась только Трансильвания, право управлять которой даровал Запольяи великолепный султан.
После “пира на кровавых полях Мохача” армия Сулеймана заняла Буду, в 1541 году оккупировала этот город и на полтора столетия превратила его из столицы Венгерского королевства в провинциальный административный центр. Западные и северные районы Венгрии (на том основании, что бездетный Лайош-Людовик был женат на австрийской принцессе) достались Габсбургам. До сих пор, когда венграм не везет, они говорят себе в утешение: “Tbb is veszett Mohcsnl”, “Под Мохачем было еще хуже”. Вопрос о том, когда же наконец прервется открывшаяся в 1526 году череда поражений, для Венгрии, пусть и не в актуальном политическом смысле, злободневен до сей поры. К 450-й годовщине великой сечи у местечка Саторхей, где, собственно, и произошло злосчастное сражение, открыли мемориал скорби. Силы победителей и побежденных представлены на Мохачском поле черными истуканами языческого обличья. Там, кстати, по-прежнему болотисто.
Тиса – один из самых протяженных и самый полноводный левый приток Дуная. Некогда Tisza называлась еще и “самой венгерской рекой”, потому что все без малого полторы тысячи километров ее русла помещались в обширные пределы мадьярского королевства. Тиса, как и прежде, берет истоки на склонах Раховских гор и горного массива Горганы в Закарпатье, но теперь эта река протекает по землям пяти стран: вдоль границы Украины и Румынии, заворачивает к Словакии, пересекает с севера на юг всю Венгрию, а в Дунай впадает в Сербии, напротив местечка Стари-Сланкамен[49].
В любом современном справочнике указано, что протяженность Тисы составляет 966 километров. Куда же подевалась целая треть реки? В среднем и нижнем течении Тиса пересекает Альфёльд (Великую равнину), восточную часть Среднедунайской низменности, занимающую примерно половину территории нынешней Венгрии. Этот лишенный вертикального измерения край с плодородными почвами, распаханными под зерновые культуры и виноградники, является ярким примером географической монотонности. Мне доводилось путешествовать по Альфёльду, про который венгерские поэты сложили свои не просто самые тоскливые, но отобранные из самых тоскливых песни. Так, вероятно, и должно выглядеть бывшее дно доисторического Паннонского моря: на горизонтальных просторах Тиса, в силу давно объясненных учеными особенностей гидрографии, выходила из берегов по три раза в год, превращая огромные пространства в болота и заливные луга, извивалась бесконечными кудрявыми полукольцами, образовывала многочисленные заводи и озерца.
Все эти земли лежали в зоне естественных затоплений, и такие затопления приходили раз за разом, повергая в уныние не только местных крестьян, но и певцов национального духа. “Будут ли реки отечества всегда с безграничной яростью затапливать его самые плодородные края, будут ли миазмы его болот бесконечно питать венгерские нищету и смерть? – вопрошал в 1831 году горюющий публицист. – До каких пор… скалы Дуная будут препятствовать нашему общению с миром? Неужели венгры навсегда останутся неизвестным народом? Нет, нет! Наша страна, заслуживающая лучшей доли, должна отвергнуть убожество этих пороков, достойных презрения”. И здесь география перемешана с политикой, словно это вода смывает национальную мечту о “европейской известности” в реку истории. Борьба со стихией, таким образом, обращается в сражение за венгерские свободу и достоинство, дает венграм шанс реванша за Мохач.
В середине XIX века неутомимый реформатор граф Иштван Сечени, чтобы пложить предел наводнениям, предложил упорядочить сток расхода Тисы, достигавший 800 кубических метров в секунду. Обуздание “самой венгерской реки” граф рассматривал как часть громадного инженерного проекта, осуществление которого позволило бы империи Габсбургов цивилизовать Дунай от Вены до самого моря, куда Сечени, напомню, так и не смог дотянуть канал имени турецкого султана. Тем не менее кое-что из начинаний графа удалось претворить в реальность.
Tisza szablyozsa, “регулировка Тисы”, по объему и идеологии работ, уверены в Будапеште, не уступает подвигу голландцев, отвоевавших у моря значительную часть территории своей страны. Габсбургской Венгрии пришлось без устали побеждать реку: сорок пять лет укрепляли берега, спрямляли русло (в итоге протяженность Тисы сократилась почти на пятьсот километров), осушали болота, подсыпали дамбы, рыли каналы, перенаправляли потоки. С 1880 года Тиса, уже ни на что второстепенное не отвлекаясь, струится прямиком в Дунай.
Подробные и очень сложные схемы земноводного устройства Альфёльда я изучал в музее Дуная в Эстергоме, в нескольких кварталах от адальбертовой базилики. Только-только отстранившись от речного берега, древняя венгерская столица утрачивает редкие признаки величественности. Дунайский музей, впрочем, исполнен с приличным размахом. В его впечатляющих техническими подробностями гидрографических картах, которыми, как гобеленами, увешаны стены нескольких выставочных залов, дано разобраться лишь специалистам. Главный автор геодезических и математических расчетов, положенных в основу “кампании против Тисы”, инженер словацкого происхождения Пал (Павол) Вашархей скончался, едва началось водное преображение его родины. Время posthumous подтвердило точность выкладок Вашархея; они используются до сих пор, поскольку работы по совершенствованию гидросистемы не прекращаются. В 1990 году завершено занявшее почти два десятилетия заполнение водами Тисы одноименного с рекой искусственного озера с гладью в сотню квадратных километров, приятного для туристов и полезного для мелиораторов.
Область в нижнем течении реки, исторически входившая в состав Венгерского королевства (известная в Будапеште как “южный край”), после революции 1848–1849 годов получила название Воеводина (“герцогство”)[50]. Один мой сербский приятель из Нови-Сада любит повторять, выпив крепкой шливовицы: “Воеводина – это не дар природы, она человеком у природы отнята”. Сказанное правда в том смысле, что в низинах дунайского левобережья, на водянистой земле, венгры всегда селились неохотно, а сербы селились только поневоле. В основном это были беженцы с Балкан, искавшие у Габсбургов защиты от турок; следы присутствия этих эмигрантов, кстати, до сих пор заметны даже в Будапеште. Табан, живописный береговой район Буды, в котором сформировалась православная община ремесленников и торговцев, на переломе XIX и XX веков пользовался сомнительной славой. Здесь в приятном обществе недорогих прелестниц любила кутить творческая молодежь. В 1930-е годы ветхие кварталы Табана согласно безжалостному плану городского переустройства снесли, чтобы разбить на его месте популярный теперь парк. Еще одним оплотом сербско-болгарско-греческого присутствия в подунайской Венгрии стал городок Сентендре к северу от столицы. Время в значительной степени выветрило отсюда православный дух, но сохранило симпатичную лубочную пестроту, представленную десятком художественных галерей и выставками разных народных промыслов.
Три века назад численность населения венгерского “южного края”, Воеводины, едва превышала двести тысяч человек. Теперь плотность населения возросла десятикратно, и область, в отличие от многих других районов Центральной Европы, не утратила этнического многообразия. Первые дренажные работы здесь проводили, как водится, римляне, и всё те же мои знающие жизнь и вкус фруктового бренди приятели утверждают, что каналы античной эпохи пригодны для использования и поныне.
Колонизация топкого междуречья Дуная и самых низовий Тисы, активно начатая при императрице Марии Терезии, была бы невозможна без основательных гидрологических работ. Весь XIX век от одной большой реки до деревеньки, от этой деревеньки к селу, от этого села к городку, а от этого городка к другой большой реке поэтапно упорядочивали старые и прокладывали новые водные трассы, спрямлявшие сообщение между Дунаем и Тисой. Рукотворные каналы Бачки[51] трудно отличить от многочисленных дунавцев, естественных речных ответвлений и рукавов. Главный ток реки, изорванный здесь в лохмотья, местные жители называют Живым Дунаем. В этих цветных краях с образностью вообще все в порядке. Село Бачки-Моноштор, путь в которое с любой стороны света ведет через мосты, поскольку находится оно на образованном разными водотоками острове, окрестили “селом на семи Дунаях”. Таких островных сел в Бачке немало, одно называется Бездан. Славянское ухо легко улавливает поэтику названия.
ЛЮДИ ДУНАЯ
ИШТВАН СЕЧЕНИ
самый великий венгр
Выходец из аристократического рода, сын основателя Венгерского национального музея и Венгерской национальной библиотеки, Иштван Сечени (1791–1860) получил прекрасное домашнее образование, посвятив молодость военной карьере и заграничным путешествиям. При венском дворе Сечени был известен как повеса и любитель женщин; четверть века граф вел дневник, в который заносил не только политические и этнографические заметки, но и отчеты о романтических приключениях. После смерти Сечени его секретарь согласно завещанию графа уничтожил более пяти тысяч страниц интимных записей. В европейских поездках Сечени сопровождали не только слуги и повар, но и художник. К рубежу тридцатилетия определяющей чертой характера и поведения Сечени стал позитивный национализм. В 1825 году он пожертвовал годовой доход от своих имений на учреждение Венгерской академии наук; организовал форум патриотического дворянства – политический клуб, на заседаниях которого была сформулирована идея венгерской эмансипации. Речь Сечени в Пожони на заседании Государственного собрания, произнесенная по-венгерски (хотя в совершенстве граф так и не выучил родной язык), произвела в мадьярофильских кругах фурор. Воспитанный в семейной традиции лояльности к династии Габсбургов, Сечени критически относился к национал-радикальным проектам, рассматривая Венгрию как неотъемлемую часть Австрийской империи, и не поддерживал революционных настроений. Ключевой задачей развития Венгрии он считал модернизацию общественной жизни и системы хозяйствования, в первой половине XIX века еще сохранявших феодальные черты. Важнейшее значение Сечени придавал упорядочению русла Дуная от Пешта до Черного моря для создания современного транспортного и торгового коридора. Граф неустанно лоббировал свои начинания при дворе, получил пост представителя австрийского правительства по экономическому развитию Венгрии, затем – ненадолго – кресло министра транспорта, курировал крупные строительные и промышленные проекты. Сечени продвигал идею сооружения постоянного моста между Будой и Пештом, что создавало предпосылки для объединения двух городов. Граф знал, ради чего старался: зимой 1820 года, направляясь в Пешт на похороны отца, Сечени почти неделю дожидался ледостава в Буде. Построенный к 1849 году по британскому проекту цепной мост – первый в Венгрии каменный мост через Дунай – носит имя Сечени (снятый в 2002 году режиссером Гезой Беременьи канонический байопик Сечени называется “Человек-мост”). Благодаря предприимчивости графа реализованы многие прогрессивные инициативы. Он способствовал развитию парового судоходства; занимался обустройством купален и паровых мельниц, основал Венгерское гребное общество, организовал первые в стране скачки и первое литейное производство, открыл консерваторию и ремесленную школу; на его деньги в Пеште выстроили современную пристань. Неутомимый Сечени с юности отличался душевной неуравновешенностью, которая к концу 1840-х годов подвинула его на грань нервного слома. Пследнее десятилетие жизни Сечени провел в санатории для душевнобольных в пригороде Вены, время от времени обращаясь к политической публицистике. В 1860 году граф застрелился. Его главный внутриполитический противник, лидер революционного движения Лайош Кошут, назвал Сечени “величайшим из венгров”. Теперь почти в каждом венгерском городе есть площадь, проспект или улица, носящие имя Сечени.
Беспорядочную сеть естественных и искусственных водных дорог Бачки и Баната довелось выстраивать в комплексную систему во второй половине минувшего столетия инженерам социалистической Югославии. Теперь это сложное перекрещение дренажных канав, неглубоких водотоков, ручьев с укрепленными берегами, небольших дамб и плотин общей площадью 1300 квадратных километров известно как канал Дунай – Тиса – Дунай. “Чтобы понять меня, нужно родиться, вырасти и жить в этой бескрайней низине. Нужно глубоко – до всей возможной глубины – ощутить и прочувствовать эти страдания из-за воды и эти муки без воды, эту вечную борьбу с водой и эту вечную жажду. Если год влажный – жди опасностей и невзгод, если год засушливый – придет беда еще горше”, – с литературным изяществом описывал бытование Воеводины человек строго технической специальности, сербский инженер Никола Мирков. Он подтвердил эти утверждения личным примером: родился и всю жизнь провел в Воеводине, отлучившись только на учебу в Вену и Будапешт, а потом повторил судьбу венгерского коллеги Вашархея. Мирков целое десятилетие потратил на обоснование проекта многоступенчатой гидросистемы Воеводины и скончался в 1957 году, едва началось сооружение первых объектов. Вот уже полвека междуречье Дуная и Тисы спасают от наводнений спроектированные Мирковым насосные станции и насыпные дамбы.
У любого честного исследователя Дуная Будапешт вызовет неподдельное восхищение. Будапешт – не просто красивый город, это город, намеренно и аккуратно, без заплаток, вшивший реку в свою сложную ткань, забравший реку в раму районов и кварталов, изящно перетянувший ее скрепами мостов, сделавший ее частью освоенного человеком пространства, придумавший к тому же двухступенчатую структуру набережных. Как-то я прогуливал по верхней набережной Пешта, вдоль знаменитого в городе трамвайного маршрута номер два, своих родителей. Мы болтали на общевенгерские темы, наблюдая за плывущим наискось течению желтым автобусом, туристической амфибией-“плоскодонкой”. Форсирующий реку автобус, на котором потом доводилось плюхаться в воду и мне, в Будапеште никого не удивит, поскольку Дунай здесь – настоящая жидкая улица, вольный проспект, широкая торная дорога. Об этом по-научному строго написал московский искусствовед Игорь Светлов: “В том, как сформировался Будапешт, проявилась национальная воля с присущей ей романтической энергетикой. Напор, темперамент, фантазийность венгерской нации сублимировались в этом созидании, определив и композицию города, и черты его стиля, одной из характеристик которого стало восприятие Дуная как градообразующего элемента”.
Праздным гостям венгерской столицы неведомо, да скорее всего и безразлично, почему именно полтора столетия назад отцы города (формальной датой объединения Буды, Обуды и Пешта считают 1873 год) поставили своей задачей во что бы то ни стало покорить, обуздать Дунай, а не взяли пример с венских инженеров, тех самых, которые предпочли аккуратно отодвинуть реку в сторонку от столицы империи. Причины кроются не только в географии (Дунай все-таки разрезает свой самый большой город строго пополам), но и в особенностях венгерской самоидентификации, в особом понимании национальной гордости: иными словами, дунайское тщание Будапешта есть часть общего тщания венгерской души. Вернусь к опубликованному в сборнике “Художественные центры Австро-Венгрии” эссе профессора Светлова: “Будапештские архитекторы умело сопрягали крупные объемы зданий с бассейном Дуная и рисующимися со стороны Буды массивами гор… Стимулом масштабного строительства в столице Венгрии было не афишированное, а внутренне захватывающее состязание с Веной. В проходившем в 1896 году с помпой праздновании Тысячелетия сильно проявились азиатские акценты, мистически понятые мотивы степных кочевий. Желание вернуться к праистокам имело и иной акцент – вызов истонченному европеизму Габсбургов”.
Русский профессор прав, ведь во второй половине XIX столетия в Европе, пожалуй, не было другого столь стремительно растущего и так пышно расцветавшего города – с 1847 по 1910 год население Буды и Пешта увеличилось в шесть с половиной раз, а число зданий с 1869-го по 1894-й удвоилось. Холмистая Буда постепенно утрачивала типичные для большой слободы немецких ремесленников черты, а равнинный Пешт переставал быть городом еврейских торговцев. Трудный венгерский язык становился не столько модным, сколько обязательным для повседневного общения (до середины XIX века в государственной и административной переписке в Венгрии использовалась латынь), из национально ориентированных интеллектуалов и патриотически настроенных дворян рекрутировался новый политический класс. Буржуазии требовался маленький парижский шик, она прививала себе лондонские привычки: в десятках кофейных домов посетители листали свежие газеты, местные “пикейные жилеты” обсуждали политические новости, в городе в прямом и переносном смыслах кипела оперно-опереточная жизнь. Накануне Первой мировой войны Будапешт по многим критериям составлял достойную конкуренцию Вене. Белые пароходы регулярных линий всего за ночь необременительного путешествия доставляли пассажиров из одной столицы империи Габсбургов в другую. “Поездка в Будапешт для жителя Вены году, скажем, в 1820-м представлялась экспедицией, – пишет венгерско-американский историк Джон Лукач. – К 1900 году те австрийцы, которым находилось в Будапеште дело, считали этот город весьма приятным, особенно летом. Они могли критически относиться к Будапешту и венгерской политике, но в этом критицизме содержались элементы уважения и даже ревности. Поездка в Будапешт была поездкой по Европе”.
Йорис Хёфнагель. Буда. 1617 год.
Вовсе не случайно именно на пештском берегу возведено если и не самое большое на всем дунайском пути, то уж точно самое репрезентативное здание – Orszghz, Дом народа. Эта громадина, египетская пирамида эпохи становления центральноевропейского парламентаризма – апофеоз венгерской государственности и всех семидесяти ее комитатов[52], от горного Тренчена (Тренчина) на самом севере до адриатического Модруш-Фиуме на крайнем юго-западе и лесистого Харомсека на дальнем востоке. Все эти территории уже почти столетие не венгерские; оттого, наверное, и Orszghz воспринимается теперь как памятник не столько мадьярскому величию, сколько величию несбывшихся мадьярских надежд.
Не будь реки, обеспечивающей Дому народа великолепную кулису, великолепие Orszghz утратило бы свою яркость. Здание парламента, развернутое к Дунаю широким, как растянутая гармонь, фасадом, выгодно смотрится с противоположного высокого берега. Оттуда, от Королевского замка, направляет к Пешту своего бронзового коня Евгений Савойский[53], это его армии в 1686 году освободили Буду от власти султана; оттуда же простирает двухметровые крылья скульптура мифической птицы турул, это она осеменила прародительницу венгерских князей Эмеше и указала кочевникам путь на новую родину. Принц Евгений – один из лучших габсбургских полководцев, пережиток монархии; хищный турул – вестник языческих богов, пережиток анимизма.
Решение возвести такое представительное здание парламента, какое только можно себе вообразить, Государственное собрание Венгрии приняло в 1880 году. Возникшие в результате образования дуалистической монархии суверенные права (по замечанию будапештского публициста, в 1867 году “венгры стали свободной нацией, но их страна не стала независимым государством”), как сочли депутаты, настоятельно требовали адекватного воплощения в архитектуре. Именно этой отраженной в камне идеологии гордой, так и не случившейся до конца свободы подчинен весь перестроенный в конце XIX века Пешт: пощадь Героев с помпезным монументом великим соотечественникам, от князя Арпада до Лайоша Кошута[54]; Городской парк с имитирующим разные стили венгерского зодчества замком Вайдахуняд; вычерченный по лекалам Парижа и Лондона парадный проспект Андраши; проложенная под ним ветка первой в континентальной Европе подземки (в момент открытия она получила имя императора Франца Иосифа); пышные здания Оперы и концертного зала Vigado; череда чопорных отелей над рекой; снабженный национальными святынями неоклассический собор Святого Иштвана.
Миклош Барабаш. Набережная Пешта с видом на Греческую церковь. 1843 год.
Конкурс на строительство парламентского комплекса выиграл маститый архитектор, профессор Технического университета Имре Штейндль, разработавший циклопический проект в стиле неоготики (по образцу Вестминстерского дворца) с нотками боз-ара (по образцу парижского Отель-де-Виль), причем копия кое в чем превосходила оригиналы. Первые из нескольких десятков тысяч сосновых свай в болотистую почву дунайской низины загнали для поддержания фундамента в 1885 году, депутаты впервые собрались в недоделанном здании на торжества по случаю праздника Тысячелетия обретения родины одиннадцать лет спустя, но отделочные работы затянулись еще почти на десятилетие. Штейндлю не суждено было увидеть своего творения во всей красе: архитектор ослеп и умер до окончания строительства.
Orszghz – выдающееся для своего времени по части всяческих параметров архитектурное творение: размеры 268 на 123 метра, полезная площадь в четыре футбольных поля, высота от фундамента до макушки главного купола 96 метров; частокол островерхих башенок, стены сложены из сорока миллионов кирпичей; в здании почти семь сотен помещений, три десятка лестниц, двадцать километров коридоров, десять внутренних дворов. На фасадах расставлены скульптуры королей и иных вождей общим числом 88, не забыты даже второстепенные исторические персонажи. Вдоль стрельчатых окон одной из галерей, в пандан наружным королям, выставлены часовыми депутатского долга скульптуры различных профессий: среди этих деревянных венгров есть и речник, и философ, и солдат, и инженер. Интерьеры Дома народа избыточно декорированы – на пафосный манер, с преобладанием пурпура и багрянца, со множеством мозаичных панно, художественных полотен, сложных цветных витражей, ярких геральдических щитов, древесины ценных пород, серебрянки и позолоты. Вряд ли всю совокупность собранных под этими почтенными сводами исторических символов, аллюзий, примеров и параллелей в принципе кому-то дано детально проанализировать, неспроста Имре Штейндль в юности увлекался масонскими практиками. “Не уверен, что когда-нибудь у нас будет достаточно демократии, чтобы заполнить все это пространство”, – пошутил, оценивая результат прибрежного строительства, один из его свидетелей. В социалистический период венгерской истории шпиль Дома народа, словно башню Московского Кремля, венчала пятиконечная звезда; не знаю, можно ли было разглядеть ее сияние со склонов будайского Замкового холма.
Главный парламентский вход (Львиные ворота: покорные каменные кошки стерегут ступени и двери) выводит на площадь Лайоша Кошута. Здесь в 1927 году установлен неизбежный монумент главному вождю венгерского освободительного движения, памятник непростой идеологической судьбы. Кошут, литую фигуру которого из-за общественной критики скульпторам и архитекторам не раз приходилось переделывать, с 1952 по 2014 год ленинским жестом указывал путь в будущее все тем же абстрактным представителям профессий и сословий: пастуху, студенту, мастеровому, матери с младенцем на руках, дворянского вида молодцу. “До социализма” иную, более спокойную по части жестикуляции статую Кошута окружали (и заново окружили теперь) восемь его белокаменных сподвижников с конкретными именами и фамилиями. Вовсе не все эти отцы венгерской государственности так уж однозначно поддерживали решения и поступки лидера революции, но воля потомков свела их на общем братском постаменте.
Проспект Андраши. Открытка 1896 года.
Я регулярно наведываюсь в Будапешт, помимо других причин, и для того, чтобы проверить, как новые политические времена не просто ставят свои памятники, но и корректируют концептуальное содержание старых. Прогулка в окрестностях Дома народа – поучительная экскурсия такого рода. Бронзовый победитель “империи зла” Рональд Рейган соседствует здесь с бронзовым коммунистом-реформатором Имре Надем, повешенным после восстания 1956 года коммунистами-догматиками; с мемориалом советским воинам-освободителям, сровнявшим Будапешт с Дунаем и землей; со спорным памятником жертвам нацистской оккупации, авторы которого попытались замять память о том, что Венгрия в годы Второй мировой войны не только подверглась нацистской агрессии, но была и союзницей гитлеровской Германии.
Что касается Кошута, то этот проповедник радикального мадьярского национализма, потерпев поражение от демонов австрийской империи, почти полвека провел в эмиграции, но так и не дождался крушения ненавистных ему Габсбургов. Пожалуй, именно пассионарный Кошут – главный и самый непримиримый мечтатель в венгерской истории. Среди придуманных им и не получивших шанса на осуществление госпроектов есть и Дунайская конфедерация в составе Венгрии, Трансильвании, Хорватии и Славонии, Объединенного княжества Валахии и Молдавии, Сербии и “остальных южнославянских государств”, естественно, под идеологическим попечительством венгров. Эта выдвинутая в начале 1860-х годов концепция выглядела утопией и не устроила ни венгров (поскольку их права растворялись в идее многонациональности), ни представителей других народов (зачем им, стремившимся к независимости, конфедеративность?). Дунай снова не попал на политические карты Европы.
Спокойствие на родине “венгерский Моисей” обрел только после смерти. Его хоронили за два года до мадьярского Тысячелетия с присущей времени будапештского расцвета надрывной помпой. Я навестил мавзолей Кошута на кладбище Керепеши. Возвышенный на десятиметровую высоту саркофаг с останками вождя охраняет пара оскалившихся каменных диких кошек. Те, что у ворот парламента, выглядят поспокойнее.
Старания строителей Будапешта высоко оценили их потомки. ЮНЕСКО внесла в свой Список Всемирного наследия комплекс Королевского дворца, проспект Андраши и набережные Дуная – целиком. Собственно, как раз гранитный футляр протяженностью в несколько километров, отделяющий дунайскую воду от будапештской тверди, и придает городскому пейзажу пленившие международных экспертов завершенность и целостность. Обе цепочки набережных, и западная, и восточная, открыты для интенсивного автомобильного движения, поэтому пешая прогулка вдоль Дуная приятна только отчасти. Однако на некоторых участках (по кварталам будайского Визивароша, Водного города, или по пештскому корсо к северу от моста Эржебет) она просто очаровательна.
Эпитет “очаровательна”, впрочем, подходит не всегда, потому что на берегах Дуная не только прогуливались, здесь и расстреливали. Боевики партии “Скрещенные стрелы” заставляли будапештских евреев (шведскому дипломату Раулю Валленбергу удалось спасти от истребления вовсе не всех) разуваться перед смертью. О холокосте напоминают шестьдесят пар черных металлических туфель и ботинок, в 2005 году выставленных кинорежиссером Каном Тогаем и скульптором Дьюлой Пауэром у бетонной кромки пештской набережной чуть ниже Дома народа. Эту стальную обувь невозможно сносить. Тогай, замечу, венгерский гражданин, рожденный в Будапеште от турецких родителей, а Пауэр – немец по отцу. Мимо скорбных туфель фланирует праздная толпа. На мемориал мало кто обращает внимание, это же не монумент советским воинам-освободителям и не памятник венгерской вечности, легко можно и не заметить.
ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ
КАК КРАСНАЯ АРМИЯ БРАЛА БУДАПЕШТ
К 25-летию освобождения Будапешта. Марка. 1970 год.
Венгрия, которой поддержка нацистской Германии позволила вернут часть утраченных по итогам Первой мировой войны территорий, оставалась союзницей рейха до самого его трагического конца. В 1942–1943 годах 2-я венгерская армия (210 тысяч человек) была разгромлена советскими войсками в битвах под Сталинградом и Воронежем: около 100 тысяч человек погибли, еще 60 тысяч попали в плен. Регент Венгерского королевства Миклош Хорти начал переговоры с США и Великобританией о выходе из войны, но добиться успеха не смог. Весной 1944 года под давлением Берлина Хорти дал согласие на ввод в Венгрию немецких войск, а в октябре, после попытки объявить перемирие с СССР, был отстранен от власти и заменен лидером нацистской партии “Скрещенные стрелы” Ференцем Салаши. В конце октября 1944 года силы 2-го Украинского фронта (около 700 тысяч человек) при поддержке частей армии Румынии, перешедшей на сторону антигитлеровской коалиции, начали операцию по окружению Будапешта. Столицу Венгрии и нефтеносный район Надьканижа защищала группа армий “Юг” (400 тысяч человек). Несмотря на приказ Сталина, к годовщине Октябрьской революции город взять не удалось. Советскую военную группировку усилили частями 3-го Украинского фронта. Известно, что Сталин подогревал соперничество между своими полководцами, отчего они нередко действовали рассогласованно и не жалели солдат. Маршалы Родион Малиновский и Федор Толбухин не составляли исключения: масштаб потерь, понесенных Красной армией, изумлял даже ее врагов. “Наша артиллерия беспрерывно расстреливала русских, пытавшихся переправиться через Дунай, – писал в дневнике венгерский офицер Эмиль Томк. – Их шансы на выживание были предельно малы. Тот, кто не был сражен пулей, отстреливался, стоя по грудь в студеной воде. Насмотревшись на это, один из гусаров обратился ко мне: “Господин полковник, а что русские делают с врагами, если они так жестоко обходятся со своими солдатами?”
Только к концу декабря Будапешт был окружен. В городе с населением восемьсот тысяч человек дислоцировался 70-тысячный немецко-венгерский гарнизон. Несмотря на то что Гитлер объявил Будапешт “городом-крепостью”, приказав защищать его до последнего солдата, оборона в целом была организована скверно. Немцы неохотно рисковали собой на чужой земле, венгры не желали сражаться под чужим командованием. Ситуация складывалась противоречиво: дезертирство в некоторых венгерских частях приняло массовый характер (во взятии города участвовал сформированный из перешедших на сторону СССР военных Будайский корпус), но и недостатка в добровольцах среди защитников города не ощущалось. Верность долгу и воспитанный пропагандой фанатизм сочетались с пацифизмом и безверием, страхом перед “сибирским раем”, что привело несколько сотен венгерских солдат и офицеров к самоубийствам. Больше, чем живой силы, Будапешту не хватало оружия и продовольствия.
26 декабря советское командование направило в Буду и Пешт ультиматум о капитуляции. Обе группы парламентеров, капитана Ильи Остапенко и капитана Миклоша Штайнмеца, были обстреляны, офицеры погибли. Обстоятельства их смерти не выяснены, однако, вероятнее всего, огонь по парламентерам открыли с немецких или венгерских позиций. В тот же день советское наступление возобновилось – город в течение нескольких суток бомбили 800 самолетов и обстреливали 900 артиллерийских орудий. Упорные уличные бои продолжались еще несколько недель, и, хотя германская армия трижды предпринимала попытки деблокировать город, советские войска 18 января заняли Пешт. Мосты через Дунай были разрушены, сопротивление в Буде продолжалось. Вечером 11 февраля силы венгерско-немецкого гарнизона вопреки приказу Гитлера предприняли попытку выйти из окружения. Прорваться за советское огненное кольцо смогли немногие; около 20 тысяч человек, в том числе мирные жители, погибли. 13 февраля город наконец капитулировал. Осада и взятие Будапешта – одна из самых продолжительных и кровавых городских битв в мировой военной истории. Победители потеряли убитыми около 80 тысяч человек, ранеными свыше 200 тысяч. Потери побежденных составили 48–50 тысяч человек убитыми и 26 тысяч ранеными; около 50 тысяч человек попали в плен. За 108 дней боев за город погибли или умерли от недоедания около 40 тысяч гражданских лиц.
По случаю победы композитор Семен Чернецкий сочинил марш “Вступление Красной армии в Будапешт”. В 1947 году на холме Геллерт над Дунаем – стратегической высоте, взятие которой сделало оборону Буды бессмысленной, – возвели монумент Свободы с надписью “Памяти советских героев-освободителей. От благодарного венгерского народа”. Жигмонд Кишфалуди-Штробль, автор центральной скульптуры мемориала, 14-метровой бронзовой женщины с пальмовой ветвью в руках, замышлял свою работу в других исторических условиях: памятник должен был быть посвящен погибшему на Восточном фронте летчику Иштвану Хорти, сыну регента. Когда в 1956 году советские войска подавляли Венгерское восстание, танки снова обстреливали Замковый холм с горы Геллерт. Теперь на цоколе монумента выбита надпись “Памяти отдавших свои жизни за свободу, независимость и процветание Венгрии”, но не знающий сложного венгерского языка иностранный гость, поднявшийся на Геллерт, этого не поймет. Памятники погибшим советским парламентерам в начале 1990-х годов были демонтированы и перемещены из центра Будапешта на окраину города, в Парк скульптур Memento.
Ко времени объединения Буды и Пешта дунайские берега находились в состоянии полного естественного беспорядка, горожане активно использовали реку как сточный канал. Венгрия в ту пору считалась едва ли не главным европейским экспортером зерновых, поставляя пшеницу даже в Бразилию. Венгерский Дунай был большой мукомольной рекой, и водяные мельницы составляли столь же привычную деталь будапештского пейзажа, как ветряные – детали пейзажей Брабанта или Кастилии. Первые меры по облагораживанию городской прибрежной зоны приняла в 1853 году Дунайская пароходная компания, к концу XIX века утвердили стандарт устройства набережных – пятидесятиметровые подпорные стенки перемежаются пятиметровыми ступенчатыми выходами к реке. Это делает будапештский Дунай еще более живописным, и мои любознательные родители не удовольствовались прогулкой по корсо. Южнее моста Сечени мы спустились прямо к воде, рискуя подвернуть ноги на гранитной крошке, чтобы омыть ладони в дунайской волне. Апрельский полдень запускал в темно-зеленые волны солнечных зайчиков. Я вспомнил книжку, которую мама читала мне много-много лет назад, в детстве: солнечный зайчик – это кусочек солнечного света, который пошел по другому пути, не так, как все.
Вдоль венгерско-словацкой границы Дунай течет строго на восток, а вытекает из Венгрии в Сербию отвесно, прямо с севера на юг. Река совершает крутой поворот, окончательно обогнув примерно у отметки 1685 километров восточные отроги Средневенгерских гор. Горами эти плоскоголовые холмы могут называться, пожалуй, только в Венгрии, но вот последняя в долгой цепи средневенгерская гора все-таки оправдывает свое высокое название. Именно на ее лесистой макушке в XIII веке воздвигли крепость Вишеград, толщина стен которой, за восемь метров, в ту пору едва ли не равнялась их высоте. Но даже с такими стенами Вишеград был бы не более чем заурядной дворянской резиденцией, если бы в 1330-х годах дважды не становился местом продолжительных встреч венгерского короля Карла Роберта Анжу, короля Чехии Яна Люксембургского и польского монарха Казимира III из династии Пястов. Три сюзерена поднимали кубки за вечную дружбу, охотились, наблюдали за рыцарскими турнирами, наслаждались речными пейзажами, а в оставшееся время планировали совместные действия против еще не вошедших в полную силу Габсбургов. Кроме того, в 1335 году Ян Люксембургский за двадцать тысяч пражских грошей продал Казимиру III свои притязания на его престол, а в 1339 году монархи постановили: в том случае если Казимир умрет бездетным, его наследником станет Людовик, сын Карла Роберта и Казимировой сестры Эльжбеты. Так в 1370 году и случилось: у Пяста родились пять дочерей и три сына-бастарда, но это не помогло его династии сохранить власть.
Миклош Барабаш. Строительство Цепного моста. 1843 год.
Развитием Вишеграда столетие спустя занялся Матьяш Корвин, по приказу которого у подошвы холма, тоже над рекой, построили италийского стиля дворец. Фонтаны королевского дворца, как уточняли придворные летописцы, по праздничным случаям заполнялись не водой, а вином. Все это легкомысленное великолепие превратили в каменную пыль армии сначала османских султанов, а затем и Габсбургов, ввергшие Вишеград в состояние продолжительного запустения.
Снова прошли века. В радикально изменившихся политических условиях аппаратчикам из администраций только что освободившихся от коммунизма Венгрии, Польши и Чехословакии показалось остроумным обновить средневековую символику соседского единения. В феврале 1991 года (за десять дней до роспуска Организации Варшавского договора) премьер-министр Венгрии приветствовал в Вишеграде президентов Польши и Чехословакии. Вишеградская группа и теперь продвигает центральноевропейскую интеграцию, а в поднятых из руин или попросту выстроенных заново королевских эрзац-резиденциях процветает праздная отпускная жизнь.
Вишеград. Башня Шоломона. Открытка 1912 года.
Со стен Верхней крепости Вишеграда под запах лошадиного навоза (здесь регулярно проводят игровые рыцарские турниры) открывается привычно разнообразная палитра голубых, зеленых, белых венгерских просторов – оконечность острова Сентендре, отщепляющая от главного русла рукав Святоандреевский Дунаец; гольф-поле у деревни Кисороси, горнолыжный подъемник. Если бы я работал тут главным креативным организатором, то придумал бы для Вишеграда сакраментальный слоган: “Возможно, лучшая речная панорама Европы”. Впрочем, изобретательных менеджеров Вишеграду хватает и без меня: посетителей ресторана “Ренессанс” встречают яростным барабанным боем официанты в костюмах пажей короля Матьяша, а процесс пищеварения протекает под пиликанье ряженного придворным музыканта на чем-то вроде пузатой лютни.
ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ
КАК СТРОИЛСЯ ВЕНГЕРСКИЙ СТАЛИНГРАД
В конце 1940-х годов коммунистическое руководство Венгрии утвердило программу индустриализации, предусматривавшую, в частности, строительство в чистом поле промышленного города на 25 тысяч жителей, центра черной металлургии. В “город будущего” превратили носившую имя святого греческого монаха Пантелеймона деревню Пентеле на правом берегу Дуная, в семидесяти километрах ниже Будапешта. Две тысячи лет назад военным лагерем Интерсиза тут стояли римляне. Фамилия советского вождя в новом названии, Сталинварош, перекликалась с профессией большинства жителей города: в 1954 году в эксплуатацию пустили Дунайский металлургический комбинат на десять тысяч рабочих мест. Новоселов разместили в безликих трех-четырехэтажках периметральной застройки. Железную руду речным путем доставляли в местный порт из советской Украины. Осенью 1956 года город переименовали в Дунапентеле, но прежнее название вскоре вернулось, вместе с танками Советской армии, и продержалось еще пять лет, сменившись затем на идеологически нейтральное Дунауйварош, “новый город на Дунае”. Дунауйварош стал парадной витриной венгерской народной власти, победами социализма в здешнем Доме партии восхищались Юрий Гагарин, Фидель Кастро, президент Индонезии Сукарно. Бытовая инфраструктура и снабжение в городе сталеваров были получше, чем в венгерской провинции в целом, в отличие от условий труда и экологической обстановки. Пейзаж Дунауйвароша и теперь не порадует эстета: хотя некоторые кварталы построены в стиле школы Баухаус, в целом город-завод представляет собой типичный пример сталинского барокко. В городе, население которого достигло шестидесяти тысяч человек, открыли металлургический техникум, самую большую в Центральной Европе среднюю школу, при комбинате учредили мастерские, в которых мастера из разных стран отливали крупноформатные стальные композиции. Этот высокохудожественный металлолом выставлен теперь на речных террасах и называется Парком скульптур под открытым небом. Дунайский комбинат по-прежнему коптит небо, являет собой пример социально ответственного бизнеса и содержит хоккейную команду “Стальные быки Дунауйвароша”. Жизнь города диверсифицируется: открылся завод по выпуску автошин, через Дунай перекинули современный мост, но депрессивную ферросуть Дунауйвароша с его прокатными станами, доменными печами и бетонными коробками это не изменило. За минувшие после крушения социализма годы население города сократилось на четверть.
Напротив барабанов и лютни, на пологом левом берегу, перед смутной линией заслоняющих горизонт холмов, хорошо просматривается неслучившаяся столица венгерско-словацкого гидроэнергетического сотрудничества, местечко Надьмарош с его главной магистралью, проспектом Тысячелетия. Дунай в итоге не перегородили гигантской дамбой, но взамен проводят на его берегу работы по добыче щебня и гравия. В Вишеграде речная природа ловко сочетается с памятниками истории, объектами хозяйственного назначения и спортивного туризма. По всему видно, что именно здесь Дунай делает свой главный венгерский поворот.
К Верхней крепости от дунайской пристани ведут несколько дорог. Мы с женой выбрали самый пологую, но долгую: от мощной башни имени старовенгерского короля Шаламона (в которой, если верить преданию, целое десятилетие провел в почетном заточении у Корвина валашский господарь Влад Дракула, развлекавшийся, в частности, тем, что насаживал на собственноручно вытесанные маленькие колья тушки птиц и грызунов) не полезли на крутой склон, а отправились вслед за жилистым американским велосипедистом в обход по путаному маршруту пятикилометровой автотрассы. Обратный путь вышел короче, опаснее и духовнее: по гребню холма, а потом по крутому склону. Жители Вишеграда остроумно устроили из этого холма нечто вроде местной Голгофы, обозначив подход к металлическому распятию обелисками с примитивными барельефами по числу стояний крестного пути. Концепция венгерского страдания, смирения страстей на перепутье жизни и смерти нашла реализацию и тут, в кущах международного туризма.
В двух десятках километров от Вишеграда, ниже по течению Дуная, лежит прекрасный своей мертвенной тишиной и нарядным ансамблем зданий в стилях барокко и рококо городок Вац. В 1994 году при реставрации в подземелье местной доминиканской церкви обнаружили секретную крипту, наглухо замурованную неизвестными более двух веков назад, а в ней – 262 естественным образом мумифицированных тела. Большинство несчастных, как выяснили ученые, умерли от туберкулеза. Прекрасно сохранившиеся останки этих граждан Ваца – разных сословий, разных возрастов, разных занятий, – их парадное траурное убранство, а также гробы иногда довольно легкомысленной ручной росписи сформировали уникальную (другой такой нет в Дунайском бассейне, гордо сообщает смотритель) коллекцию Memento Mori. Поучительное венгерское зрелище: помни, что и ты когда-нибудь умрешь, возрадуйся тому, что ты все еще жив.
Самый старый архитектурный комплекс Ваца, солидный особняк с тенистым садом постройки конца XVII века, занят Национальным институтом проблем глухонемых, почтенным учреждением с почти двухвековой лечебной историей. В день, отряженный мною на знакомство с образцами архитектуры барокко и венгерского культа смерти, в Ваце – так совпало – финишировал VIII Европейский фестиваль искусств и культуры глухих Salvia. Конкурсная программа с участием театральных трупп из десятка стран мира завершилась, Институт готовился к гала-концерту, и артисты коротали время в оживленных немых беседах на жестовом языке за столиками кафе в милой, но совершенно пустынной пешеходной зоне. Эта суббота в конце июля выдалась нестерпимо жаркой. И тут я вышел из сумрака тихого подземелья, набитого уникальными мумиями, на божий свет и зной, в не менее мистическое пространство, где слышен был только один голос – журчащего на центральной площади фонтана.
Антон Шродль. Вишеград. 1906 год.
Теперь-то стало понятно, что даже Дунай в Венгрии течет совершенно особенным, сосредоточенным образом, течет молча. Я понуро миновал широкую садово-парковую полосу, которой Вац почтительно отгородился от могучей реки на случай наводнения, и уселся в липовой тени на каменный парапет, окантовку дунайского русла. Вольный ветер беззвучно колыхал лодки, привязанные к плавучим домикам; мостки, ведущие к этим домикам, были предусмотрительно подтоплены. В сотне метров ближе к Будапешту неторопливый паром тащил к тонущему в Дунае асфальтовому пути партию автомобилей и мотоциклетов. Должно быть, это пляжники, изнуренные солнечным отдыхом, молча возвращались с речного острова.
Семьдесят лет назад, когда венгры еще только осваивались в новых для себя, узких государственных границах, публицист Лайош Фюлеп сравнил свою страну с речным паромом между Востоком и Западом: “Все прошлые формы венгерского общественного бытия взяты на Западе, и лишь по прошествии времени, не поспевая за Западом, Венгрия оторвалась от него, как отрывается от своей роты слабосильный солдатик”. На каком берегу застрял этот паром? К концу прошлого века венгры в очередной раз догнали большую европейскую роту и должны бы теперь в общем строю успокоиться. К этому в эссе “О памяти и забвении” призывал Дьёрдь Конрад: “Каким он был, двадцатый век? Самонадеянным и безответственным. В начале столетия молодые люди считали, что могут, отбросив буржуазную осторожность, свойственную их родителям, пуститься в грандиозные исторические авантюры. Итогом стала бездна смертей и бесчеловечности, ибо у грандиозных планов и цена грандиозна. Чем дерзновеннее начинание, тем больше в нем безответственности и насилия. Не надо жалеть о том, что нынче уже мало кто хочет перевернуть порядок вещей… В Европе никто не мечтает о новеньком, с иголочки мире”.
Классик жанра художественной мистики британец Алджернон Блэквуд посвятил венгерскому Дунаю рассказ “Ивы”. Сюжет истории начала XX века изысканно прост: два путешественника, спускающиеся от Вены к Будапешту на байдарке, в пору летнего ветреного половодья останавливаются на привал на заросшем ивами островке посередь разлившейся реки. “Ивы здесь непрерывно колышутся, отчего кажется, что поросшая кустами равнина движется сама по себе, будто живая. Ветер гонит по ней волны – листвы, а не воды, – и она становится бурным зеленым морем, когда же листья подставляют солнцу обратную сторону – серебристым”. Череда пугающих и странных событий убеждает путников в том, что они стали игрушками неведомых сил, случайно оказавшись рядом с границами чужой вселенной: “Завеса между разными мирами истончилась именно здесь, через это место, где, как через скважину, глядят на землю невидимые неземные существа”. Спасение в одном – сидеть, дожидаясь, пока Дунай не отвлечет свое внимание, не примет в жертву и не пошлет “дорогой воды и ветра” кого-то другого. Герои повествования чудом избежали, нет, не смерти, но мучительного исчезновения в потустороннем речном бытии.
Примерно по маршруту героев рассказа Блэквуда (настоящая слава, кстати, пришла к нему в середине 1930-х годов, когда руководство радиовещательной корпорации BBC пригласило писателя к микрофону – читать в вечернем эфире рассказы о привидениях) я проследовал, направляясь из Эстергома в столицу Западной Трансданубии Дьор. Выезжать мне пришлось так рано поутру, что не пробудились еще и птицы. Габсбургского провинциального образца вокзал размещался на дальней цыганской окраине города, на опушке рощи рядом с убитым пролетарским кварталом; накрапывал дождик, природа хмурилась. Наконец подали мой железнодорожный экспресс; он состоял из одного, почтенного возраста, вагона с дизельным двигателем. Я оказался единственным пассажиром, и вагоновожатый с темным помятым лицом под малиновым околышем, компостируя билет, неодобрительно скосил на меня красный глаз Дракулы. Наконец мы тронулись в путь – торжественно и медленно, в мелком дребезжании оконных стекол в рассохшихся рамах, в тонких масляных испарениях дизтоплива, под зуммер угодившей в транспортный полон мухи. Справа в кривых проплешинах леса мелькал Дунай, то придвигаясь прямо к узкоколейке, то отгораживаясь от нее широкими болотистыми прогалинами. Берега сплошь поросли ивами, спускающимися прямо к воде, ведь ивы любят сырость. Ветер колыхал ветви, но ветра я не слышал, и ивы в утренних сумерках шевелились молча.
Я вроде бы держался бодро, но в каком-то беспокойстве безуспешно искал себе занятие: газетные статьи не лезли в голову, мобильной связи не было, приложения айпада казались надоевшими, не подключались даже наушники смартфона. Я не мог ни на чем сосредоточиться, и дорога, обычно располагающая к размышлениям, лишь рассеивала мысли. Вот старый вагон вдруг заскрежетал всеми своими суставами, судорожно дернулся, остановился, стихла пленная муха, серо-зеленый пейзаж за грязным окном замер, только уходила в непрозрачную даль мутная река да ивы трепетали беззвучно. По непонятной причине дизель простоял не то полчаса, не то дольше – не знаю сколько, хотя я поминутно поглядывал на часы, утратив в этой вагонной консервной банке еще и ощущение времени. Видимо, примерно про это у Блэквуда написано: так Земля движется сквозь космос. Неужели правда, что Дунай – громадная мистическая трещина, прореха, через которую сообщаются разные миры, граница неведомых силовых линий, на которой сталкиваются и приходят в тайное взаимодействие неприродные явления природы?
Дьор в рабочий полдень понедельника встретил меня совершенным и странным безлюдьем. Я, все так же не меряя времени, поболтался по площади Сечени и центральным кварталам города, но любоваться особой конструкцией нарядных угловых балконов с резными наличниками не получалось. Не отпускало вызванное Дунаем смутное чувство неприкаянности (снова и точно такое же чувство я испытал через год, оказавшись в тростниковых плавнях дунайской дельты). Не сверяясь с картой, я выбрел к парку на островке Радо у впадения похожей на изумрудную канаву речки Раба в Мошонский рукав. По пустынным аллеям, мимо стандартного памятника жертвам Первой мировой войны гулял ветер, шевеливший кудри ивовых зарослей. И снова никакого шороха и шума живой зелено-серебристой листвы я не услышал.
8
Tuna. Забытая граница
Среди всех рек Европы… Дунай – космополит. Сколь бурную жизнь эта река проживает у нас на глазах!.. Один итальянец тонко подметил изменчивый характер Дуная: эта река у своих истоков похожа на добрую католичку, но в конце концов превращается в приверженку пророка.
Путеводитель Первой императорско-королевской австро-венгерской привилегированной Дунайской пароходной компании. 1906 год
В декабре 1905 года в Будапеште с успехом прошла премьера оперетты композитора Йенё Хузки “Гюль-Баба” на темы героического колониального прошлого. Сюжет таков: венгерский юноша Габор вступает в неравное состязание с османским[55] пашой Али за сердце красавицы Лейлы. На стороне вельможи, как водится, деньги, янычары, власть. На стороне влюбленных интернационалистов, как положено, только сила их чувства да симпатии мудрого старца Гюль-Бабы, лелеющего во дворе будайской мечети дивной красоты розы. Чтобы уберечь от смерти плененного пашой юношу, Гюль-Баба уничтожает свой чудесный сад, а вельможе сообщает: это деяние разгневанного Аллаха. Испуганный Али-паша отступает. Спасенные Габор и Лейла, чьи судьбы отныне и навсегда соединены хитроумным дервишем, в заключительной арии клянутся тяжело больному Гюль-Бабе (в переводе – “отец роз”) ежедневно приносить на его могилу свежие цветы, которые со временем образуют новый сад неземной красоты.
Так гласит легенда. Суфийский проповедник Гюль-Баба – фигура не вымышленная, а историческая, хотя в действительности, как указывают историки, этого странствующего монаха ордена бекташи могли звать Кель-Баба, “лысый отец”. Такое имя лишило бы театральное сказание прелести, а светский Будапешт в начале XX века ценил прелестное: через двести лет после того, как османское владычество стало историей, венгры научились относиться к нему с иронией. Как, впрочем и весь христианский мир: грозная восточная империя стала не пугалом, а миражом, ее дразнили “больным человеком Европы”, и в бывших покоренных султаном городах пафосные песноения о павших витязях сменились опереточными мотивами. Более того: в конце XIX века венгерский ориенталист и путешественник Арминий Вамбери успешно продвигал концепцию “туранизма”, теорию общего происхождения тюркских и финно-угорских народов. Еще позже, в исторических обстоятельствах межвоенного периода, венгерский туранизм, взятый на вооружение праворадикальными силами, приобрел реакционный характер.
Район Будапешта, в котором расположена гробница дервиша, теперь называется Розовым Холмом. Мощеная брусчаткой улица Гюль-Бабы – кривая, как сабля мамлюка, – круто уходит от набережной Дуная вверх неподалеку от моста Маргит. Дервиш спит вечным сном на улице Мечети, в элегантном восьмигранном тюрбе с зеленоватым куполом и полумесяцем на шпиле. Вокруг мавзолея высажены розовые кусты, сквозь кроны платанов отсюда открывается широкий речной вид. Именно тут до сего дня живут воспоминания Буды о турецком господстве.
Обошедший восточный мир и прославившийся толкованиями Корана суфий Гюль-Баба известен в исламском мире еще и как автор мистических притч и поэм, подписанных именем Митхали. Лучший из дошедших до нас сборников его поэзии носит название “Букет роз”. Уже в очень преклонном возрасте дервиш попал в Буду в обозе султанской армии, но вскоре мудреца настигла смерть. По одной версии, старец погиб при взятии города, по другой – умер во время благодарственного намаза в честь победы над венграми. Кончина проповедника и поэта-мистика превратила его самого в мифическую фигуру, сделала объектом поклонения для правоверных и объектом вдохновения для неверных. Глубоко уважавший мудреца султан в день похорон Гюль-Бабы объявил его святым покровителем города. В 1886 году венгерский живописец Ференц Айзенгут посвятил дервишу масштабное полотно “Смерть Гюль-Бабы”. На картине великий султан горюет над умирающим мудрецом. Габора и Лейлы рядом с ними не заметно.
Армия Сулеймана Великолепного, в пору правления которого Османская империя поднималась в зенит своего европейского могущества, утвердилась в крепости венгерских королей Буде в 1541 году, после недолгой осады утопив в Дунае, если верить летописям, семь тысяч защитников города. Столица Венгрии оставалась под исламской властью почти полтора века. Турецкие источники утверждают: в этот период в Будине, административном центре включавшего в себя обширные придунайские земли эялета[56], пышнее розовых кустов расцветали науки и ремесла. По своему обыкновению, османы переоборудовали христианские храмы в мечети, подняли рядом с ними минареты, общим числом свыше шестидесяти, открыли общественные бани, школы-медресе, молельные дома и библиотеки. Ничего – кроме одного тюрбе и нескольких многократно перестроенных купален – до наших дней не уцелело, впрочем, султаны не имели обыкновения обременять провинциальные города репрезентативными архитектурными объектами.
Христианские короли отвоевали город в 1686 году, обойдясь с поверженным противником так же немилосердно, как некогда турецкий враг обошелся с жителями Буды: жертвами резни пали свыше трех тысяч человек. Мавзолей Гюль-Бабы местные мстители вознамерились разрушить, однако память о дервише оказалась столь важной для османов, что они оговорили неприкосновенность строения в мирном соглашении. В тюрбе разместилась часовня иезуитов, потом мавзолей стоял бесхозным. Летом 1867 года в его стенах за упокой души Гюль-Бабы молился – во время редкого для османских правителей визита в прежде покорившуюся им часть Европы – султан Абдул-Азиз. Тюрбе Отца Роз, самый северный в мире объект поклонения исламских паломников, в конце концов передали Турецкой Республике. Неподалеку от могилы стоит теперь памятник: одна рука бронзового проповедника прижата к сердцу, в другой он сжимает свиток со стихами. Я уверен, что эти стихи повествуют о каком-нибудь законе жизненной мудрости. Например, об искусстве выращивания роз.
Эялеты османской Венгрии, Trk hdoltsg, формировали северный пояс безопасности империи и одновременно служили плацдармом для продвижения армий султана и идей ислама в Центральную Европу. Западнодунайским форпостом турецких владений оказался Эстергом. Этот город попадал “под иго” дважды, вследствие чего дважды менял в своем названии букву “м” на букву “н”. На короткое пятилетие в самом конце XVI века исламским оказался расположенный западнее Дьор-Рааб, которому немедленно присвоили турецкое имя Яник-Кале. Ни Вены, ни Пожони, ни Кракова османам заполучить не удалось, хотя наследственные земли Габсбургов вроде Штирии и Каринтии страдали от разорительных набегов неприятеля, а самой северной точкой турецкого проникновения в Европу оказалась территория современной Хмельницкой области на Украине. “Стоит отъехать на день пути от Рааба, – писал в 1669 году английский путешественник Эдвард Браун, – как человеку начинает казаться, что он распрощался с нашим миром и, еще не доехав до Буды, попал в другой мир, совсем не похожий на страны Запада, ибо здесь не носят волос на голове, лент, манжет, шляп, перчаток, здесь нет кроватей и не пьют пива”. Отсутствие шляп, причесок и пива было, возможно, неудобством, но вовсе не главной особенностью нового дунайского устройства. Один современный автор, в драматических тонах описавший осаду Вены 1529 года (город, напомню, устоял скорее благодаря неудачному для атакующей стороны стечению обстоятельств, чем из-за доблести его защитников), сделал вывод: это событие “едва не стало причиной бифуркационного поворота центральноевропейской цивилизации”. Османский натиск на территории Габсбургов не ослабевал до конца XVII столетия. Поэтические эпитеты кровавому порыву искали литераторы и историки. “Кочевников безотчетно влечет вослед заходящему солнцу”, – сказал один из них.
Однако страшного (в привычном для европейцев понимании истории) поворота в битвах у Вены не произошло; в Венгрии до нашего времени уцелели только три минарета османской поры, не уничтоженные ни при Габсбургах, ни при коммунистах. Это ведь античные руины являются предметом европейской гордости, а с наследием Востока на освобожденных землях обходились беспощадно. Выжившие венгерские башни ислама, лишенные святых задач и идеологического содержания, бессмысленно нацелены в небеса, словно муляжи ракет. А что, если бы Ибрагим-паша осенью 1529-го все-таки взял Вену, а потом, страшно подумать, двинул бы свои орды дальше против течения Дуная – на Амстердам и Лондон, если бы он устроил конюшни в соборах Святого Стефана и Парижской Богоматери? Какой теперь была бы европейская жизнь? Кстати, есть уверенность, что менее счастливой?
В Венгрии турки впервые столкнулись с устроенным на западноевропейский манер обществом, структура которого отличалась от той, что существовала в Средневековье в греко-славянских государствах Балкан. Османы так и не сумели по-настоящему освоить безлюдную степь: мусульман-колонистов здесь было немного, да и те, что были, редко покидали города (плотность населения в европейских владениях султана вообще оставалась невысокой); администрация содержалась за счет доходов, полученных в Египте; берега Дуная были столь сильно заболочены, что даже скот на продажу не вывозили по реке, а гнали по суше.
ЛЮДИ ДУНАЯ
ЮРИЙ ФРАНЦ КУЛЬЧИЦКИЙ
толмач и кофеман
Человек, научивший Европу пить кофе”, родился в 1640 году в православной семье мелкопоместных дворян русинского (украинского) происхождения в местечке Кульчицы в Галиции, в ту пору входившей в состав Речи Посполитой. Говорил на нескольких языках. В молодости участвовал в походах запорожских казаков, из турецкого плена был выкуплен сербскими купцами, которым потребовался толмач. Служил переводчиком в отделении австрийской Восточной торговой компании в Дар-уль-Джихаде (Белграде), позже переехал в Вену, где в 1678 году завел свое дело. В 1683 году сыграл важную роль в обороне Вены: рискуя жизнью, в восточной одежде выбрался из осажденного османами города с посланием к лотарингскому герцогу Карлу V. Смог вернуться в Вену с обещанием помощи от союзной армии. После снятия блокады городские васти наградили Кульчицкого за храбрость, он удостоился должности переводчика императорского двора. Легенда гласит, что в подарок от польского короля Яна III Собеского Кульчицкий получил триста мешков трофейного кофе. В 1686 году он открыл в центре Вены кофейню Hof zur Blauen Flasche (“Дом под синей бутылкой”), популяризируя новый для европейцев напиток. Считают, что Кульчицкий первым додумался добавлять в кофе молоко и сахар. Кофейня “Дом под синей бутылкой” закрылась в 1694 году, вскоре после смерти хозяина заведения от чахотки. В Вене Кульчицкий (Georg Franz Kolschitzky) стал фольклорным персонажем, его именем названа улица, ему установлен небольшой памятник. Польша и Украина считают Кульчицкого своим национальным героем. На Руськой улице во Львове работает кафе Під синьою фляжкою.
Османско-Габсбургская огненная дуга на века стала главной линией разлома Европы – еще и потому, что отношения выясняли два огромных государства с разными представлениями о мироустройстве; с двумя разными верами; две монархические династии сопоставимых гордости и спеси, с высочайшим мнением о собственной исторической значимости и со схожим ощущением своей доминирующей силы (только у Османов эта сила была почти исключительно военной, а у Габсбургов – в значительной степени еще и политико-дипломатической). Имперский тип сознания различает два типа врагов: слабых повергают между делом и относятся к ним с презрительным высокомерием; сильных, во многом, если не во всем равных себе (только с противоположным знаком: “наши доблести столь же велики, сколь ужасны их злодеяния”), побаиваются и уважают. Габсбургский дом был одним из самых старых и самым могущественным в христианском мире; Габсбурги, соразмерявшие свое величие с античным, гордились короной Священной Римской империи, в фигуральном смысле унаследованной у августов. Османы же наследовали напрямую Аллаху. “Султан есть тень Бога на земле, и у него ищет убежища всякий обиженный”, – изрек пророк Мухаммед. Вечное государство, Devlet-i Ebed-mddet, – так именовались владения султана. Исход цивилизационного конфликта – крест против полумесяца, шляпа против тюрбана, ятаган против шпаги – в конце концов и определил, каким окажется европейское Новое время. К началу этого исторического периода царства султана охватывали почти три пятые части Дуная; Османская империя, главная в военном и экономическом отношении держава тогдашнего мира, контролировала свыше полутора тысяч километров реки.
ЛЮДИ ДУНАЯ
ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ
автор “Книги путешествия”
Мехмед Зилли, известный как Эвлия Челеби, – восточный глобтроттер, почти полвека проведший в поездках по Османской империи и сопредельным с ней территориям, – родился в 1611 году в семье главного придворного ювелира и сестры великого визиря. Челеби получил прекрасное по меркам эпохи правовое и богословское образование, выучил наизусть Коран и красивым чтением святых текстов сумел добиться благосклонности султана Мехмеда IV. По совету отца способный юноша составил подробнейшее описание столицы Османской империи, вошедшее в первую часть десятитомной “Книги путешествия”. В 1640 году Челеби отправился в поездку по Черноморскому побережью Кавказа и в Крым. Затем последовали путешествия на Крит, на Ближний Восток, снова в Крым и по Закавказью, в Персию и Багдад. В 1651 году Челеби составил описание десятка болгарских городов, в 1656-м – османской Боснии, затем – земель Хорватии, Венгрии, Трансильвании и юго-запада современной Украины. Часто литератор следовал в обозе султанской армии, поэтому становился свидетелем или участником набегов и осады пограничных крепостей. В 1665 году в составе османского посольства Челеби попал в Вену, побывал в Молдавии и Валахии, после чего – в качестве почетного гостя хана Мехмеда Герая IV – отправился во владения крымских татар и, через населенные донскими казаками земли, в Поволжье. Следующее пятилетие включило в себя изучение юга и центральных районов Балкан, адриатических островов, хадж в Мекку. Последние годы жизни Челеби провел в Египте, систематизируя путевые впечатления. Скончался он предположительно в Каире в 1679 или в 1682 году, так и не завершив работу над “Книгой путешествия”. “Сейяхатнаме” – занимательное и в целом достоверное описание стиля жизни, нравов и бытовой культуры Османской империи и соседних с ней стран середины и второй половины XVII века. Это уникальное своей многосторонностью свидетельство эпохи, хотя Челеби упрекают в склонности к преувеличениям. Круг интересов османского путешественника чрезвычайно широк: от археологии и лингвистики до экономики и военно-инженерной теории. Дунайской зоне посвящены фрагменты 3, 5, 6 и 7-го томов “Книги путешествия”. Через несколько лет после смерти Челеби рукопись его книги в качестве подарка одному из вельмож привезли в Стамбул, однако труд путешественника не снискал популярности при дворе султана: “Сейяхатнаме” сочли “забавной, но беспорядочной хроникой”. Первым из западных исследователей на произведения Челеби обратил внимание австрийский востоковед барон Йозеф фон Гаммер-Пургшталь, в 1834–1850 годах издавший английские переводы первых двух томов “Книги путешествия”. Полная публикация травелогов Челеби на его родине растянулась почти на полвека (1896–1938) и, как считается, выполнена с искажениями. “Книгу путешествия” изучают и переводят до сих пор.
Долина Дуная стала основным северным пределом Pax Ottomana. Этот пугавший христиан “оттоманский мир”, объективно говоря, был кое-чем и хорош: тем, например, что смог приглушить веками раздиравшие юго-восток Европы феодальные междоусобицы, межплеменные и национальные противоречия, религиозную вражду. В военных условиях азиатские хозяева действовали свирепо, жестоко подавляли посягательства на свою власть и не церемонились с местными (только с венгерской территории в рабство угнали свыше миллиона человек), но в мирное время восточная административная машина функционировала без излишней строгости, скорее расслабленно. “…Это была империя исламская, воинственная, передовая и веротерпимая, – пишет в книге “Величие и крах Османской империи. Властители бескрайних горизонтов” британский историк Джейсон Гудвин. – Для тех, кто жил за пределами ее границ, в землях, именуемых в исламской традиции dar al-harb, Дом войны, она была источником непокоя и страха. Однако для народов, вошедших в ее подданство, Османская империя превращалась в dar al-islam, Дом мира; и настолько исполненным энергии и боевого духа было это государство, столь хорошо оно управлялось и столь удивительным воплощением человеческого гения представлялось современникам, что тем казалось, будто своим процветанием оно обязано все-таки силам не вполне человеческим – дьявольским или божественным, смотря на чьей стороне находился наблюдатель”.
Но и стороны менялись. Крестьяне порабощенных европейских стран часто относились к приходу турок как к освобождению от засилья “своих” феодалов. Привычно кровавые распри католиков и протестантов сменила при османах относительная толерантность – они не устраивали гонений на иноверцев. Не-мусульмане в империи султана были подданными второго сорта: они платили более высокие налоги, их церкви не могли быть выше мечетей, им не разрешалось надевать одежду зеленого цвета, приветствуя правоверных, они должны были слезать с лошади; самое главное, законы ислама имели верховенство над всеми другими законами.
Карло Боссоли. Турки, смотрящие на Стамбул. 1839 год.
Многие европейцы, приняв под давлением страха и обстоятельств магометанство, поднялись по карьерной лестнице Османской империи. Как и все универсальные государства, Высокая Порта[57] опиралась на одного Бога и на одного великого властителя – национальности и родные языки подданных значения не имели. Только одна из шестнадцати тысяч капель крови последнего султана была османской. В армию всегда активно рекрутировали жителей покоренных провинций – славян, валахов, греков, венгров, албанцев, которые не только храбро воевали проив своих же соплеменников, но и отправлялись под знаменем пророка в заморские походы. На границе Египта и Судана до сих пор проживает племя мадьярабов, представители которого считают себя потомками венгров, прибывших в Нубию в 1517 году по приказу султана Селима I для несения патрульной службы. Нубийских мадьяр вновь “открыл” для исторической родины четыре века спустя офицер и авантюрист Ласло Алмаши; его романтизированный образ знаком зрителям фильма “Английский пациент”.
На берегах дунайских низовий, на задворках Византии, первые разъезды акынджи[58] появились в конце XIV века. Эти всадники, должно быть, казались местным рыбакам и землепашцам настоящими полубогами, кентаврами, взявшими в руки оружие: они обладали умением пускать из лука по три или четыре стрелы в минуту и без видимых усилий поражали любую цель, развернувшись в седле. Если такого, совершившего проступок, кавалериста приговаривали к смерти, то коня казнили вместе с его хозяином. Османы легко преодолели сопротивление полудюжины враждовавших между собой государств на раскрошившемся севере ромейской империи. Юго-Восточная Европа, обитель православия, словно ждала новых завоевателей, ведь Византия уже научила варварские прежде народы Балкан всему, чему могла.
Первой крупной европейской державой, павшей под мечами воинов ислама, стала Болгария. Столицу Второго Болгарского царства[59] Тырново турки взяли в 1393 году, к тому времени уже покорив дунайские крепости Свиштов (переназванный в Зигит), Доростол (ставший Силистрией), Тутракан (обернувшийся Туртукаем), Русе (переименована в Рущук). Ключевое значение для этой кампании султана Баязида I Молниеносного имела победа в 1396 году над войском крестоносцев у придунайского же Никопола (превращенного в Нигболу). Болгарская династия Шишмановичей завершила свою историческую миссию трагически: царь Иоанн погиб то ли в бою, то ли в плену, его брата по отцу Иоанна Срацимира, управлявшего Видином, удавили в темнице. Дети этих царей, Константин и Фружин, вскоре попытались поднять восстание, но были разбиты. Последний Шишманович, Константин II Асен, правил то как вассал султана, то как вассал венгерского короля, то провозглашал независимость. После его смерти в 1422 году Болгария не упоминалась в летописях в качестве самостоятельной страны. Османы прочно закупорили низовья Дуная. Ожье де Бусбек, в середине XVI века посланник Священной Римской империи при султанском дворе, сравнил самих завоевателей с мощным водным потоком: “Турки подобны могучей реке, раздувшейся от дождей: стоит воде просочиться сквозь малейшую дырочку в дамбе, как она вся устремляется в это слабое место и производит великие разрушения”.
Султаны проглотили сербские и часть хорватских земель в несколько приемов. Территории Косова и Рашки, центры средневековой сербской государственности, покорились врагу примерно в тот же период, что и Болгария. Ключевыми для овладения сербским Подунавьем битвами стали успешные для янычаров и сипахи штурмы речных крепостей Голубац (1458) и Смедерево (1459). Белград (в ту пору венгерская пограничная крепость Нандорфехервар) держался до 1521 года; собственно, как раз падение этого города и открыло туркам свободную дорогу на Мохач, Буду и Вену.
ЛЮДИ ДУНАЯ
ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ
видинский паша
Осман Пазвантоглу родился примерно в 1758 году на территории нынешней Албании, а умер в 1807 году на территории современной Болгарии, в Видине. Выходец из семейства янычара (валаха или славянина происхождением из Боснии), он поступил на службу к князю Валахии, а в 1793 году, собрав орду наемников, взял под свой контроль обширный край на северо-западе Османской империи. В конце XVIII века страна переживала период междоусобиц, центральная власть ослабла, шайки разбойников-керджалиев, часто действовавшие под предводительством местных феодалов, бросали вызов султану. Пазвантоглу (его фамилия переводится как “сын стражника”) провозгласил в Видине независимое государство, границы которого простирались от Белграда до Варны. Попытки Селима III наказать бунтовщика не принесли успеха, три похода на Видин окончились поражениями. В 1799 году султан фактически смирился с мятежом, даровав Пазвантоглу прощение и пожаловав ему титул паши. Этот паша был противоречивой личностью. Покровитель наук и искусств, он основал в Видине библиотеку, посвятив ее своей матери. Легенда гласит, что по приказу паши изображения полумесяцев на шпилях минаретов заменили изображениями сердец. Несколько зданий того периода в городе уцелели, и Видин считается лучшим памятником османской урбанизации в Болгарии. Набеги воинства Пазвантоглу держали в напряжении окрестные территории. В 1802 году слухи о том, что керджалии видинского паши приближаются к Бухаресту, вызвали в городе сильнейшую панику. Видин поддерживал дипломатические отношения с несколькими государствами (включая республиканскую Францию), чеканил собственную монету. Страна паши Османа просуществовала до его смерти в 1807 году. По одной версии, Пазвантоглу отравил тайный агент султана. Согласно другим сведениям, паша сначала потерял глаз, а потом и жизнь в столкновениях с гайдуками[60]. В Болгарии образ видинского паши романтизирован (он якобы был безответно влюблен в девушку-христианку, отсюда и сердца на минаретах), зато в Румынии Пазвантоглу считают безжалостным убийцей. Именно таким этот турецкий феодал выведен в исторических кинодрамах Дину Кочи. В румынском языке сохранилось выражение “во времена Пазванте-одноглазого”, соответствующее русскому “при царе Горохе”. Султана Селима через год после смерти мятежного паши свергли и задушили в темнице.
К северу от низовий Дуная с Османской империей граничили зависимые от чужой воли государства, возглавлявшиеся монархами-марионетками, данниками, посаженными на шаткие престолы с соизволения султана и покорными его воле: Трансильванское, Валашское и Молдавское княжества, а также Крымское ханство (такие территории именовались “находящимися под защитой султана”)[61]. В середине XIX века российско-болгарский историк Спиридон Палаузов так описал характер отношений с Османской империей христианских вассальных территорий: “Если это сближение… есть чисто покровительственное, есть признание защиты сильнейшим слабейшего за известное вознаграждение, не нарушающее, впрочем, прав самостоятельности того, кто подчинил себя этому добровольному покровительству… Но Валахия, не окрепшая еще в своей гражданственности, во внутренней и внешней жизни, вынуждена была обстоятельствами признать покровительство народа, которого главная цель была завоевание”.
Главным фактическим отличием вассальных территорий от султанских провинций было то обстоятельство, что на формально свободных землях не размещались постоянные османские гарнизоны. Военные формирования местных феодалов и разного рода банды “народных мстителей” совершали разорительные трансдунайские рейды и с юга на север, и с севера на юг; речные крепости переходили из рук в руки, меняли государственную принадлежность, горели и отстраивались снова. Вассалы-христиане периодически демонстрировали строптивость, если султанские поборы становились непосильными или если политическая ситуация позволяла надеяться на успех независимости. На рубеже XVI и XVII веков, например, господарь Михай Храбрый на короткое время объединил под своей булавой Валахию, Молдавию и Трансильванию, даже хитро и храбро разгромил стотысячное войско великого визиря, но вскоре сам был разбит, а потом и убит политическими соперниками. Зависимость от Высокой Порты длилась и длилась, однако за любым историческим расцветом следует закат. К концу XVIII века Черное море перестало считаться “турецким озером” (до той поры, самодовольно писал восточный историк, “всякий носильщик-хамал на стамбульском рынке знал, что Туна есть главная река этого озера”) и конкурентами султанов в борьбе за низовья Дуная стали русские цари Теряя энергию агрессии, Османская империя утрачивала свой raison d’tre, ведь у любого универсального государства есть лишь один главный смысл существования: пожирать новые территории.
Жизнь империи сводится к войне и расширению пределов, так же как сводится к течению смысл реки. Султаны не знали церемоний коронации: в Высокой Порте эту традицию заменил обряд опоясывания каждого нового Великого турка мечом Османа. Безгранично увеличиваясь в размерах, теократическое государство становится неповоротливым, лишается управленческой гибкости и в конце концов разваливается на куски, рушится под своей тяжестью. “Величина и сложность державы османов не имели прецедентов в истории, – указывает Джейсон Гудвин. – Империя переросла средневековые механизмы, созданные для того, чтобы ею управлять”.
Содержать огромные армии – собственно армию да еще армии слуг, чиновников, священников – только на налоги от торговли и сельского хозяйства становилось все труднее. Времена богатых трофеев и легкой военной добычи уходили в прошлое. Пока тому способствовали обстоятельства, османы относились к разумной категории властителей: не стремились менять уклад жизни покоренных народов, лишь бы те платили налоги, не принуждали верить в своего бога и говорить на своем языке. Еще и оттого турецкий закат получился долгим: династия сползала с вершин славы и могущества два с половиной столетия, умудрившись пусть всего на несколько лет, но все же пережить своих главных соперников, Габсбургов и Романовых[62]. Сценами драмы заката стало и растянувшееся на несколько поколений вытеснение знамен Великого турка с дунайских берегов. Последний эпизод этой военной пьесы получился стремительным: крепость в Белграде (к той поре уже столице полунезависимой Сербии) турецкий гарнизон оставил в 1867-м, первая твердыня правобережья Нижнего Дуная Свиштов пала в русские руки в 1877-м, еще через год Османы навсегда потеряли и дельту реки. Молдавский господарь, вассал султана и русский союзник, автор “Истории турок” (1714–1716) Дмитрий Кантемир сравнивал траекторию развития Османской империи с дугой, ведущей от победы к поражению: на пути от расцвета государства к его упадку неудачи иногда зарождались в пору триумфа, но и в момент самого унизительного разгрома эта страна отбрасывала тень величия. Кантемир верно предсказал будущее Османов, впрочем, то же самое можно сказать и о судьбе любой другой империи.
На Дунае в целом Османская империя играла главенствующую роль с середины XVI до начала XIX столетия. Наряду с Нилом, Евфратом и Тигром река Tуна входила в число крупнейших водных артерий громадного государства, земли которого раскинулись в трех частях света. Собственно, реки его и обрамляли: Евфрат на востоке, Дунай на севере и западе. Турки укрепляли на речных берегах старые крепости и оборудовали новые опорные пункты. От Эстергона до Кили (Килии) возникла система оборонительных сооружений, в которой только крупных крепостей насчитывалось почти три десятка, – едва ли не равная древнеримской. Как и в эпоху Античности, дунайское пограничье и в мирное время формально оставалось военным: наместник любой провинции был полководцем, каждая дорога имела ратное назначение, торговые суда при необходимости превращались в боевые корабли. Стены и бастионы речных крепостей, естественно, выглядели помощнее древнеримских, поскольку за тысячелетие совершеннее стали и техника строительства, и штурмовые средства, в широкое употребление к тому же вошли порох и артиллерия. Но поскольку воевать бесконечно невозможно, солдаты обращались в крестьян: они сторожили границу, одновременно выращивая кукурузу и рожь, пробавлялись ловлей щуки и осетра, разводили пчел. Неустанными усилиями на турецком Дунае в идеальном состоянии поддерживались причалы, броды, переправы, верфи. Навигация сопровождалась традиционной для восточного мира караванной торговлей.
Томас Аллом. Ворота Высокой Порты. Литография, около 1840 года.
В тихом дунайском приграничье необычного и еретического было в избытке, любая религия пропитывалась здесь особым бунтарским духом. Хаос османского берега казался европейским путешественникам эзотерическим: ислам словно сжимал степные расстояния, сближал чуждые миры, объединял кочевое и оседлое население, албанцев и угров, ромеев и валахов, цыган и славян. Различные придунайские территории были неравнозначными по уровню хозяйственного развития, вооруженные конфликты часто исключали прямые экономические связи, но тем не менее даже в самые черные времена река оставалась важной дорогой европейской торговли. Эта контактная зона отличалась природной стабильностью, характерной для речного товарообмена во всем мире. Фернан Бродель называл Дунай “рыночной лентой Старого Света”. В силу непростых политических обстоятельств особое значение здесь приобрели фигуры торговца-посредника, энергичного коммерсанта, верткого контрабандиста, налаживавших разорванные войнами контакты. В долгом соревновании частных инициатив, в соперничестве немецких, еврейских, греческих, румынских, армянских купцов одерживали победу те, за кем оказалась более значительная государственная поддержка.
В XVI–XVIII веках Османская и Габсбургская империи подписали 21 мирный договор, в восемнадцати из которых упоминается Дунай. Вопросы приграничной торговли впервые были урегулированы в 1606 году – и с той поры коммерческие связи осуществлялись под надзором двух монархов. В 1663–1664 годах к выработке механизма торговых сделок вернулись опять, но все, что касалось режима судоходства, осталось расплывчатым. В 1665 году султан даровал австрийским купцам право на льготную торговлю до самой дельты за три процента от стоимости товаров. Когда в 1699 году турки лишились левобережья Среднего Дуная, позиции Австрии окрепли еще заметнее. Но пока Османская империя удерживала низовья реки, ее господству над основными маршрутами торговли ничто не угрожало. Российский коллега Броделя историк Виталий Шеремет написал об этом так: “Прекрасный голубой Дунай смягчал трагизм и предопределенность трехвековой борьбы отважного, но туповатого стамбульского ятагана с хитроумным и дальновидным венским вексельным билетом”.
Османская империя не терпела неопределенности, ценила четкие рубежи. На эту тему интересно импровизирует Джейсон Гудвин: подобно тому как Вселенная разделена на небо и землю, окружающий османов мир был расколот на Дом войны и Дом мира, султан повелевал двумя главными частями света и двумя морями, Черным и Белым (Средиземным), государство состояло из двух главных частей, Анатолии и Румелии, турецкий дом включал в себя гарем (помещения для хозяина и его близкой родни) и селямлык (комнаты для гостей), подданные делились на райю (послушное пастухам стадо – низшие слои населения) и аскери (служивых людей). Большая река Дунай была важна еще и тем, что проводила ясную черту: между быстро завоеванными и надежно освоенными землями и вассальными территориями, часто нестабильными, иногда враждебными, изредка опасными. Османские предрассудки включали в себя боязнь темных углов и стоячей воды – согласно старым верованиям, такие места притягивали злых духов. В пору расцвета восточная империя была быстрое течение и проточная вода; в тот момент, когда империя закостенела и застыла, она принялась умирать.
ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ
КАК ГОЛУБЯТНЯ ЗАЩИЩАЛА РЕКУ
Лео фон Барон. Крепость Голубац. 1891 год.
В 1426 году король Венгрии и Чехии Сигизмунд I Люксембургский заключил со своим сербским вассалом такой договор: владения деспота Стефана Лазаревича унаследует его племянник Джурадж Бранкович, если при этом уступит сюзерену из Люксембургской династии область под названием Мачва, а также две придунайские крепости, Белград и Голубац. Через год Стефан погиб на охоте, новый деспот Джурадж вознамерился выполнить обещание дяди, как вдруг заартачился командовавший гарнизоном Голубаца воевода Еремия. Он затребовал от короля двенадцать тысяч дукатов отступных, а когда Сигизмунд отказался платить, передал крепост туркам. Впервые османы овладели Голубацем в 1389 или 1391 году, когда их войско только-только вышло к берегам Дуная, но венгры тогда смогли выбить неприятеля из крепости. Уже к тому времени Голубац, построенный, как предполагают, в начале XIV века, был мощной фортеццей с десятью башнями 20–25 метров высотой и тремя секторами обороны. Эта крепость возведена на 1040-м километре Дуная, на скале у входа в ущелье, стены почти трехметровой толщины спускаются к реке, русло которой когда-то перегораживала железная цепь, так что Голубац в прямом смысле слова запирал Дунай на замок. И вот Еремия сдал свое грозное хозяйство неприятелю: как раз в тот момент, когда султан Мурад II после неудачной осады Константинополя возобновил наступление на Балканах. Деспот Джурадж не смог самостоятельно наказать воеводу-предателя, и весной 1428 года под стенами Голубаца появилась тридцатитысячная армия Сигизмунда: венгерская пехота, польская конница, итальянская артиллерия, лучники из Валахии, речная флотилия. Осада продлилась месяц и завершилась без решительного штурма: на помощь гарнизону поспешил сам султан. В одной из стычек погиб (или был взят в плен и убит) польский рыцарь Завиша Чёрный из Гарбова. Завиша, герой Грюнвальдской битвы, на турнире в Перпиньяне выбивший из седла самого Иоанна Арагонского, служил в пору позднего Средневековья ролевой моделью для рыцарских похождений. Юлиуш Словацкий и Генрик Сенкевич превратили его в фольклорного героя, его черные доспехи хранятся среди реликвий монастыря Ясная Гора, его именем в Польше называют футбольные клубы и патрули скаутов. Турки существенно укрепили Голубац и (с несколькими недолгими перерывами) владели крепостью почти четыре с половиной столетия. В 1867 году над донжоном подняли сербский флаг, а потом Голубац утратил оборонное значение. Заброшенная крепость стала ветшать, в ее подвалах развелись зловредные кровососущие мухи, причинявшие беды местным крестьянам. После Первой мировой войны через внутренний двор проложили отрезок прибрежной дороги, еще через полвека фундамент башен нижнего яруса ушел под воду: после появления гидроузла “Джердап” уровень воды в Дунае поднялся. В 2005 году наконец приступили к неторопливой реставрации: трын-траву выкосили, мусор вынесли, стены подлатали. Крепость, башни которой сравнивают со стаей нахохлившихся серых голубей, вернула себе прежнюю хмурую суровость.
Зыбкость реки закрепляется переброшенными через нее мостами. Знаменитые османские мосты – через Неретву (горбатый с высокой аркой в Мостаре) и мост Мес через реку Кир в Албании, в основание которого для прочности замуровали прекрасную деву. Турки многократно перепоясали и реки Дунайского бассейна. Самым впечатляющим, вероятно, был имевший военное значение мост, связывавший Рущук и Журжу. Другая переправа – 8-километровая деревянная, с цепью башен – через болота долины Савы в районе Осека (Осиек в современной Хорватии) открывала путь в Южную Венгрию. По мосту через Дунай в Ваце перегоняли скот. Любимец Сулеймана Великолепного, великий визирь Паргалы Ибрагим-паша, грек или италиец по рождению, навел понтонный мост в Буде, приспособив в качестве якорей колокола христианских храмов, но эта переправа просуществовала недолго. Судьба Ибрагима также сложилась несчастливо: он был задушен по приказу разгневавшегося султана.
На 951-м километре от устья Дуная, неподалеку от оконечности порожистого речного участка, с античных времен известного как Катаракты[63], располагался островок под названием Ада-Кале (“остров-крепость”) площадью в десяток квадратных километров. В начале XVIII века утвердившиеся было на Ада-Кале австрийцы построили форт для контроля за навигацией и даже провели подводный тоннель до южного берега реки, но потом уступили остров неприятелю. Турки продержались здесь полтора века. По условиям венчавшего войну 1877–1878 годов договора османский гарнизон в пятьсот штыков покинул Ада-Кале, но значение острова было столь ничтожным, что в соглашении о нем забыли упомянуть. Пядь речной земли на стыке границ Австро-Венгрии и Сербии оставалась турецким эксклавом, порто-франко для контрабандистов. Здесь действовали законы шариата, из Стамбула сюда присылали чиновников и судей, а в 1908 году островитяне приняли участие в выборах в меджлис. В 1913 году Ада-Кале наконец аннексировала Австро-Венгрия, а еще через десятилетие остров стал румынским.
Плодотворная литературная парадигма – клочок земли отрезан водами Дуная от треволнений и забот жестокого мира – вдохновила венгерского писателя Мора Йокаи. Часть действия вышедшего в 1872 году сентиментального романа “Золотой человек” классик мадьярской словесности перенес на “ничейный остров” на границе габсбургских и османских владений. Прообразом этого мистического царства спокойствия и красоты послужил Ада-Кале. Для чистоты эксперимента Йокаи сделал свой островок, ставший убежищем для вдовы разорившегося венгерского торговца Терезы и ее прекрасной дочери Ноэми, необитаемым. Тереза и Ноэми ведут успешное натуральное хозяйство: выращивают фрукты, собирают лечебные травы, а недостающее выменивают у заезжих речников и охотников. И главный герой романа, чудесно разбогатевший шкипер грузового судна “Святая Варвара” Михай Тимар, в конце концов обрел спокойствие в житии островитянина – после того как убедился, что ни деньги, ни власть, ни слава большого мира не приносят счастья.
Ада-Кале в конце XIX века. Фотография.
Ада-Кале в 1912 году. Открытка.
Реальность, конечно, кое-чем отличалась от книжного мира Йокаи, но политические перемены действительно мало влияли на образ жизни обитателей Ада-Кале. Островитяне, преимущественно турки, работали на маленькой табачной фабрике, ловили рыбу, возделывали виноградную лозу и инжир, исправно посещали мечеть. В 1931 году их навестил румынский король, а в 1967 году – турецкий премьер-министр. Сулейман Демирель приезжал не просто так: согласно югославско-румынскому гидропроекту Ада-Кале подлежал расселению и затоплению, поэтому в Стамбуле обеспокоились судьбой соотечественников. Крепостные бастионы, деревянную мечеть, дом Мустафа-паши и другие исторические постройки разобрали, чтобы перенести на остров Шимиян километрах в тридцати ниже по течению реки. Перенесли, построили опять – еще лучше, чем прежде, – но старый-новый форт стоит необитаемым. Турецкая колония на Шимияне не возникла: большинство островитян переселились на историческую родину, некоторые предпочли черноморский берег Румынии. Ценный ковер ручной работы, подаренный местной исламской общине султаном Абдул-Гамидом II, отправился в мечеть Констанцы.
В 1971 году Ада-Кале затопили. Последний клочок османской Атлантиды ушел на дно. Теперь над ним колышутся двадцать метров мутной дунайской воды.
9
Смысл реки
И дни ходит Марко, и ночи
В лесу над рекою Дунаем,
Все ищет, все стонет: “Где фея?”
Но волны смеются: “Не знаем”.
Но он закричал им: “Вы лжете!
Вы сами играете с нею!”
И бросился юноша глупый
В Дунай, чтоб найти свою фею.
Купается фея в Дунае,
Как раньше до Марка купалась;
А Марко уж нету… Но все же
О Марко хоть песня осталась.
А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!
Максим Горький. Легенда о Марко. 1902 год
Однажды, слегка одурев от писанины (кажется, это случилось к концу работы над главой “Австрийское зеркало”), я понял, что пришла пора отвлечься от литературного творчества. В Праге стояло жаркое августовское предвечерье. Поразмыслив, чем бы заняться, я решил совместить приятное с полезным: уселся на велосипед и покатил сонными улицами на грузовой вокзал в Жижкове, в бывших складских помещениях которого как раз открылась Пражская биеннале номер 6. По части современного искусства Прага, может, не Венеция и не Париж, но, по крайней мере, чешские кураторы умеют организовывать промышленное пространство так, чтобы работы актуальых художников естественно смотрелись на фоне заводских цехов, пожарных щитов и кустов электропроводки.
Вокзал – такая же верная и столь же расплывчатая метафора дальних странствий и вечного движения, как морской или речной порт. С 1933 года, постукивая колесами на рельсовых стыках, тяжелые составы увозили разноразные товары по жижковской узкоколейке в бесконечно далекие города типа Гамбурга и Роттердама, ведь сквозной речной маршрут с севера на юг Европы через Чехию не проложен. На ж/д путях у подржавевших платформ и теперь сгружены десятки контейнеров, но само здание вокзала объявлено памятником функционалистской архитектуры, когда-нибудь его бережно встроят в модный жилой квартал в стиле лофт. По жижковским перронам слоняется праздная неформальная молодежь, тут с удовольствием работают глянцевые фотографы и мастера видеоарта. И вот на Пражской биеннале номер 6 мне открылись дополнительные Смыслы Реки: то ли в голове после трудового дня крутились разные повороты книжного сюжета, то ли случился мимолетный промысел Божий. Так бывает иногда: куда ни глянешь – все ложится в строку.
Заслуженный мастер Ли Сенг Так из Южной Кореи передал на выставку в Прагу фотокартину с буддистским названием “Горящие полотна плывут по реке” (1964). Непонятно, что за картины запалил художник удушливыми масляными кострами, не указано, по какой именно реке они вот уже полвека уходят в вечность (в водную даль и, чадным дымом, в небо). В моем представлении это православные иконы дрейфуют (почему-то по Меконгу) навстречу своей двойной огненно-жидкой смерти: либо утонут, либо сгорят. Река мастера Ли не обязательно Меконг, скорее это просто Река, понятая как смертельная дорога. Тут, размышляя о скрещениях первооснов мира, я к месту процитирую Гастона Башляра: “Каждой стихии присуще свое состояние распада. Земля обращается в собственный прах, огонь – в собственный дым. Вода способствует наиболее полному распаду, она помогает нам тотально умереть”. Французский философ, импровизируя на темы сочетаний несочетаемого, цитирует немецкого мистика Новалиса (“Вода есть некое намокшее пламя”) и своего соотечественника, “прклятого поэта” Артюра Рембо (“Я требую. Я требую! – Удара вилами; капли огня”).
Наивное воображение приписывает реке (вообще воде) функции источника жизни, наделяет реку женским характером, некоторым глубинным материнством. Вода к тому же архетип чистоты; собственно, эта идея и основана-то на образе прозрачной жидкости. Течение реки не то что философу, но и дикарю сподручно сравнить с течением времени и жизни. И сделать вывод: если и когда поток иссякает, кончается время, наступает смерть. Монументальная скульптура работы Аллана Хаузера перед зданием Капитолия штата Оклахома, четырехметровая фигура скво-матери, называется “Так долго, как течет вода”. Скульптор Хаузер (его индейское имя Хаозоус означает Корчующий Корни) – потомок свободолюбивого вождя апачей Джеронимо. Хаузер всячески – дородной бронзой, пафосным названием, индейским мировосприятием – подчеркивает водную идею вечной жизни своего исчезающего народа, а вот скептичный Башляр сосредоточивается на морбидной функции потока: “Вода всегда течет, всегда падает, всегда истекает в своей горизонтальной смерти”.
На полу ангара жижковского вокзала пылится громадная запутанная охапка тонкой малиновой пряжи. Актуальный итальянский художник Альберто Гарутти вычислил расстояние от дверей своего ателье до выставочной площадки биеннале номер 6, чтобы свить “Нить длиной в 871 километр”. Зримое мягкое описание пути! А если бы Гарутти решился на речную метафору, прикинул я? Дунай втрое протяженнее дистанции от Милана до Праги, значит, куча ниток длиной в Дунай (скажем, цвета его буро-зеленой волны) пришлась бы посетителю примерно до пояса. А если упорядочить: один клубок – от Донауэшингена до Ульма, катушка поменьше – от Вены до Братиславы, шпулька поувесистее – от Будапешта до Оршовы?
Фанерная будка пограничника, украшенная криво вырезанными из цветной бумаги флажками, напомнила мне о заброшенном в придунайских лугах контрольно-пропускном пункте Райка, на словацко-венгерской границе. Установленная в переходе между складскими помещениями вокзала детская бутафория, инсталляция чешского художника Людека Ратхоуски (на родине он известен тем, что как-то написал изящный автопортрет собственной кровью), называется “Европа, Европа” и очевидно символизирует условность и бессмысленность любой фронтиры. Границы – вроде той, что изобразил Ратхоуски, – смешноваты, но все равно избыточны, они представляют собой, пусть фольклорные, знаки опасностей и запретов и при этом не способны поделить ни воздух, ни дунайскую воду. Даже если речь идет о “железном занавесе”, ржавчину колючей проволоки которого я обнаружил на прежнем речном рубеже идеологий Востока и Запада.
Прямо противоположную концепцию – медитативного понимания абстрактной свободы – являет проект словацкого художника Томаша Шолтыса “Человек на реке”, прямо апеллирующий к дунайской эстетике. Видеоперформанс буквально соответствует названию проекта: парень в джинсах и короткой куртке (это и есть студент братиславской Академии художеств Томаш Шолтыс), стоя на деревянной раме, медленно спускается по реке, под мостами и мимо порта, и все это можно бесконечно наблюдать – в движении или без движения – на огромном настенном панно. Маленький человечек, широченная река (сначала Морава, потом бесконечный Дунай), ее тусклое жидкое зеркало, почти неуловимый моушн. Томаш Шолтыс аки Христос; ничего не делает – просто стоит, просто плывет, просто течет вместе со временем и реинтерпретирует по своему хотению речное и городское пространства. Река – высшая форма медитации.
Такой же (и любой другой) интерпретации подлежат и все другие Смыслы Реки, думал я, отправляясь с вокзала Жижков в недолгий обратный путь. Река как парадигма любви. Река как поток ненависти. Речная гладь как отражение. Река как бездонная пучина. Река как склад потерянного и река как связь времен (“В древней реке ни одно из времен не гибнет безвозвратно, прошлое и настоящее сохранены бок о бок, тесно переплетаясь между собой”). Река как алтарь и как объект для жертвоприношений. Река как орудие наказания. Река как человеческая речь – так же журчит. Река как метафора жизни и как описание смерти. Река как вода или вода как река. Река как сакральный объект (“Дунай – не река, Дунай – Бог”, – написал Михайло Пантич). Река как цель (“Реки – это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь”, – из афоризмов Блеза Паскаля). Река как модель мироздания (“Вода вмещает все и потому – прозрачна” – это из Питера Акройда). Тут мой подсчет прекратился, но не потому, что иссохли речные смыслы. Я вернулся домой, устроил велосипед в чулане и, еще полистав главу об австрийском Дунае, уселся у телевизора смотреть футбол.
ЛЮДИ ДУНАЯ
АГНЕС БЕРНАУЭР
речная мученица
Йозеф М. Майер. Смерть Ангес Бернауэр. 1874 год.
Рыжеволосая дочь цирюльника из Аугсбурга прожила всего 25 лет, однако вот уже почти шесть веков ее трагическая судьба слывет одной из самых романтических историй Дуная. Легенда гласит: в 1428 году на рыцарском турнире в Аугсбурге 18-летнюю простолюдинку увидел и полюбил сын герцога Эрнста Альбрехт. История не уточняет, обвенчались ли Альбрехт и Агнес, однако известно, что избранница наследника престола не пришлась по нраву ни герцогу, ни его придворным. Эрнста столь сильно тревожила перспектива мезальянса, что, когда осенью 1435 года Альбрехт отправился на охоту, Агнес была объявлена колдуньей, приворожившей знатного вельможу. Ведьму утопили в Дунае. Разгневанный Альбрехт покинул отчий дом и отправился в Ингольштадт к родственнику, герцогу Людвигу, и заключил с ним оборонительный союз против собственного папаши. Но войны отца и сына не случилось: Альбрехт как-то свыкся с потерей и вскоре женился на дочери брауншвейгского герцога Анне, которая за четверть века брака родила своему супругу десять детей. В знак примирения с сыном Эрнст повелел построить в городе Штраубинг, где погибла Агнес, часовню. В пл часовни (на кладбище при соборе Святого Петра) вмурована мраморная плита с изображением “аугсбургского ангела” в одеянии монахини. Утопленница сжимает в руке розарий – католические четки. На самом деле неизвестно, где похоронена Агнес и похоронена ли она вообще, но для легенды это не важно. Важно, что память о жертве феодального произвола стала туристическим мифом, уже которое столетие провоцирующим музыкальные и литературные интерпретации на темы любви, смерти и опасностей эмансипации. Портрет Агнес Бернауэр работы неизвестного немецкого художника XVI века (скопированный через двести лет другим безымянным мастером), пожалуй, главная дунайская икона женской красоты. В 1855 году драматург Кристиан Фридрих Хеббель (автор трилогии “Нибелунги”) написал пьесу “Агнес Бернауэр”, героиня которой предстает в облике “германской Антигоны”. В 1949 году композитор Карл Орф (автор популярной сценической кантаты Carmina Burana) сочинил оперу “Женщина из семьи Бернауэр”. В Штраубинге несчастной Агнес посвящены и фонтан, и башня крепости, и театральный фестиваль, и городской сад, и миндальный торт. Во франко-итальянском фильме “Знаменитые любовные истории” (1961) в образе Агнес предстала Брижит Бардо. Кино, в отличие от жизни, окончилось счастливо: в решительный момент подоспел Ален Делон в костюме Альбрехта. Но на самом деле Дунай сыграл в судьбе рыжеволосой красавицы роковую роль, превратившись в метафору смерти и вечное пристанище безгрешной утопленницы.
Из всех получивших известность дунайских поэтических и песенных гимнов самым популярным должен оказаться тот, что оставляет возможно более широкий простор для интерпретаций, подумал я наутро, начиная изучение новой темы. Книга Акройда “Темза. Священная река” лежала на моем рабочем столе, открытая на той же странице – с пассажем о “воде, вмещающей все”: “Река – зеркало. У нее нет своей формы. У нее нет собственного смысла. Река – отражение обстоятельств: геологических или экономических… Вода – субстанция совершенно обыденная и вместе с тем абсолютно неуловимая. Вот почему ее часто характеризуют в отрицательных терминах. Она не имеет запаха. Она бесцветна. Она безвкусна… Как белый свет, вода содержит все, воплощая парадокс простоты и гетерогенности”.
Руководствуясь этими признаками – парадоксов простоты и разнородности, – и следовало приступать к изысканиям. Методика оказалась верной. С большим отрывом – в соперничестве со строфами и нотами Гёльдерлина, Горького, Йожефа, Штрауса и др., украинскими песнями “Їхав козак за Дунай” и “Соловейко при Дунае”, гимном Гавриила Державина, “Малороссийской песней” Антона Дельвига, симфонией Джо Завинула “Истории Дуная” и пр. – рейтинг популярности возглавил вальс “Дунайские волны”. Эту мелодию в 1880 году в военном гарнизоне на краю географии сочинил Ион Иванович.
“Дунайские волны”, пожалуй, самая известная в мире румынская музыкальная композиция, но сочинил ее серб, а русские, американцы, корейцы и израильтяне сочли своей. Йован Иванович родился в 1845 году в австрийской земле Воеводство Сербия и Темешварский Банат в совершенно бедняцкой семье, а скончался в 1902 году в звании майора в должности Главного инспектора оркестров румынской королевской армии. Деревенский пастушок, он выучился играть на свирели и четырнадцати лет был записан в полковой оркестр, где освоил сначала флейту, а потом кларнет. Иванович не получил музыкального образования, но тем не менее стал автором трех с лишним сотен старомодных танцевальных мелодий, среди которых обнаруживаются и славные вещички с волнующими названиями вроде “Московский сувенир”, “При дворе принцессы Вальс”, “Розы Востока” или “Судьба рыбака”. Считается, что в 1890-е годы Иванович побывал в России. Дунайский вальс он сочинил, будучи капельмейстером 6-го пехотного полка, расквартированного в румынском порту Галац. Значит, эта плавная мелодия навеяна личными наблюдениями, оттого она и получилась звучной и страстной. Иванович галантно посвятил “Дунайские волны” жене бухарестского музыкального издателя Эмме Гебауэр. Эмма была растрогана, но европейскую известность военный композитор получил не сразу, а только через десятилетие, когда вальс в аранжировке француза Эмиля Вальдтейфеля исполнили в Париже.
Подобных аранжировок, текстов, всевозможных песенных, музыкальных, тематических, даже идеологических трактовок вальса “Дунайские волны” – десятки. Меня столь увлекло их сопоставление, что, отбирая материал для книги, я переслушал вальс Ивановича в 135 (!) вариантах – столько смог обнаружить в сетевых музыкальных архивах. Простодушные подчас интерпретаторы обозначают это произведение по-разному: как вальс “старинный румынский”, “венский” (“Штрауса”, ну кто еще мог сочинить вальс про Дунай?), “классический русский” (“Дунаевского”, устроив путаницу из-за фамилии советского композитора), “радостно-грустный”, а также как вальс “Цыганская река”. Вальс исполняли, в частности, ансамбли Клауса Халлена и Поля Мориа, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, рок-гитарист Джим Кэпалди, оркестры МО СССР и ГАБТ СССР, Первое народное трио баянистов, квартет “Московская балалайка”, Том Джонс, Геннадий Каменный, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра. Есть и безымянные музыканты, один безыскусно подписался так: “Вальс звучит в моем исполнении”. Каждый играл и пел свое, вовсе не обязательно дунайское: подобно белому цвету или воде, эта музыка “содержит все, воплощая парадокс простоты и гетерогенности”. Другим вариациям я лично предпочел близкую к оригиналу версию 1914 года в подаче духового оркестра общества Zonophone под управлением Ивана Аркадьева.
Музыковеды считают “Дунайские волны” классикой жанра. Как любой вальс, это мелодия с размером такта 3/4, с сильной первой долей. Иванович все придумал ловко и все ладно сшил: смешивал и чередовал контрастные темы, эффектные замедления, бравурные секвенции, трогательные модуляции. Красиво начинает виолончельная группа: пам-ра-ра-рам, па-ра-ра, ра-ра-ра-а-мм; затем вступают духовые: пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам; переливаются скрипки: ти-ри-ри-рим, ри-рим-ри-рим; и уж в конце фрагмента подгрохатывают барабаны с литаврами: бррум-ту-ру-румм!
Румынский текст к музыке Ивановича написал местный стихотворец Карол Скроб: “Плавно Дунай свои волны несет…” Первородная версия песенки, о вечной страсти (“Сердце в груди от любви пополам… / О, приди, жду тебя, о, приди!”), и теперь пользуется в Румынии устойчивой популярностью в исполнении секс-символа социалистической эстрады Корины Кирияк. А вот корейская сопрано Юн Сим Док в 1926 году превратила вальс надежды о величавой реке в грустную притчу “Псалом смерти”. Трагической оказалась судьба этой исполнительницы: в Японии (где, собственно, и состоялась запись песни) 29-летняя Юн повстречала мужчину своей жизни, который ответил на ее чувство взаимностью, но, увы, был при этом женат. Обычаи восточного общества сыграли роковую роль: возвращаясь на родину, влюбленные не нашли другого выхода из ситуации, кроме как утопиться в море. Я отыскал перевод “Псалма смерти”. О да, это воистину печальная песня, в которой есть разящие строки о “танце на лезвии ножа”, но и слова нет о Дунае. Как, впрочем, и в варианте вальса на иврите, появившемся в Тель-Авиве вскоре после появления самого Государства Израиль и получившем распространение под названием “Свадебный вальс”.
В американской традиции мелодия “Дунайских волн” также приобрела инакое замыслу Ивановича смысловое звучание. В 1946 году режиссер Альфред Грин снял музыкальный байопик The Jolson Story с Лэрри Парксом в титульной роли. Певец и шоумен Эл Джолсон (Эйса Йоэльсон), стартовавший к славе в хоре мальчиков вашингтонской синагоги, по ходу своего творческого пути сформировал главные каноны американской эстрады и задал стандарты бурлеск-театра и менестрель-шоу. Для собственной кинобиографии Джолсон сочинил на мотив “Дунайских волн” “Юбилейную песню” (главный герой исполняет ее в честь своих пожилых родителей) – душещипательный romance с рефреном My darling, I love you so! Собственно, больше ничего дунайского в этой сладкой композиции, сопровождающей американские торжества по случаям любых годовщин бракосочетаний, обнаружить нельзя. В общем счете вальс “Дунайские волны” (или его аккорды в обличье “Юбилейной песни”) прозвучал в дюжине голливудских фильмов[64].
“В России этот вальс всегда очень любили, – цитирую рецензию советского музыковеда. – Долгое время он даже считался старинным русским вальсом и под такой рубрикацией публиковался в нотных изданиях и сборниках”. Первый перевод на русский язык, вполне в салонных традициях, выполнил в 1887 году Семен Уколов:
- Тих и красив дорогой наш Дунай,
- Где он течет, там страна – чистый рай.
- Там у людей взор нежней, жарче кровь,
- Там все мои мечты и любовь.
- Волны Дуная, тихо сверкая,
- С края до края гонят ладьи.
- Чувство не скрою, и за волною
- Летят с мечтою мысли мои.
Рифмы “Дунай – рай” и “кровь – любовь” подразумевают трагический финал. На берегах реки, “где я так счастлив был”, лирический герой находит лишь эхо прежних страстей: “Но все, увы, прошло как дым!” Полковых дам – что в Галаце, что, предположим, в Сызрани – этот вальс для пения разил наповал: “Горе одно мне суждено… / Прощай, прощай, радость моя!” Десятилетия спустя советский поэт Самуил Болотин отказался от образа Дуная как любовной кулисы. В его интерпретации река предстает чудом природы, “текущим сквозь века” потоком – с “серебристой тропкой луны”, “золотым костром звезд”, “отражениями сказочных гор”, “игрой драгоценных камней на бархатном дне”. Система понятий здесь – не горькие мужские чувства (они неведомы в Стране Советов), но абстрактный “вольный простор”, “великаны-корабли”, “дальний мирный край”, до которого в конце концов дотянется река:
- Дунай голубой – чудо-река,
- В воды твои смотрят века.
- Нет на земле – так ты и знай! –
- Краше тебя, Дунай!
- С вершин снеговых
- Альп и Карпат
- В лоно твое реки спешат.
- Влиться стремясь в воды твои,
- Звонко журчат ручьи.
В последнем куплете Болотин накрывает реку вместе с ее плакучими ивами тихой ночью, заставляет Дунай смирить силы: “и звезда улыбнулась звезде”… По меркам песенной лирики текст довольно изысканный.
В конце 1970-х годов в серии “Русские песни” в Париже вышла грампластинка Жана Татляна с очередной версией “Дунайских волн”. Татлян, выходец из семьи греческих армян, эстрадный артист жгучего южного шарма, получил в СССР известность в качестве исполнителя элегических композиций, частью написанных по канонам ресторанного шансона. Советская власть не простила ему эмиграции: записи старых выступлений Татляна уничтожили, а приезжать с новыми песнями в Москву или Ереван не приглашали. У той версии вальса, которую выбрал Татлян, нелады с географией: к сюжету приплетен “неведомый гул голосов из таинственной тьмы черногорских лесов”. Дунай назван рекой “славянской судьбы”, а от романтики Болотина не осталось и тени:
- Долго плутает по свету Дунай,
- Ищет дорогу в потерянный рай.
- И, камышами в затонах шурша,
- Стонет его душа.
- ....................................
- Горы закрыли дорогу ему,
- Горло сдавили и гонят во тьму.
- Молнии гаснут и просятся в плен
- Каменных серых стен.
- Рвется Дунай из Железных Ворот,
- Волны он в Черное море несет.
- Гневным кипящим котлом через край
- Тихо ревет Дунай.
Дунай у Татляна теоретически способен расколдовать царство погруженных в вечное забытье городов и “разорвать тишину”, но такого преображения – до самых финальных аккордов – все-таки не происходит. Певец, кстати, отказывает дунайским водам в праве быть голубыми.
Перед поэтом-песенником Евгением Долматовским, включившим сочинение Ивановича в репертуар Леонида Утёсова, коммунистическая идеология поставила совершенно конкретную задачу: превратить лирический вальс в военную балладу, что и было сделано. На берегах Дуная Утёсов увидел “отважных советских ребят, / Славных друзей и хороших солдат”:
- Девушки нежно смотрели им вслед,
- Шли они дальше дорогой побед,
- И отражением волжской волны
- Были глаза полны.
Долматовский осмысливает Дунай как исконно русскую реку, ставит через запятую с Волгой, при этом Дунай еще и остается перед русскими в долгу, поскольку “в жарких боях, защитив этот край, / Мы свободу твою отстояли, Дунай!”. Эта версия вальса для пения отпускает реке только один банальный эпитет (“Дунай голубой”), ведь Долматовский в послевоенном 1950 году писал вовсе не о реке, а о советской мощи. Смыслы смещаются: свободу парадоксальным образом символизирует не речной поток, а храбрый солдат. В целом создается впечатление, что, когда русско-советское ухо слушает мелодию Ивановича, русско-советский поэтический ум производит в основном депрессивные строфы. Дунай не дарит надежду, но внушает тревогу; у этой реки страдания непременно сдавленное горло и обязательно стонущая душа. Строчки из Карола Скроба: “Ты зацелуешь меня от любви, / Смерть, меня не зови!” – в советском контексте неуместны.
…Когда капельмейстер Иванович, насвистывая мелодию, которая, как выяснилось, дала ему пропуск в музыкальное бессмертие, глядел через Дунай, его взору открывалась довольно унылая картина: противоположный, правый берег – однообразная болотистая равнина, поросшая низкими деревьями и кустарником. В конце XIX века Галац соседствовал с Российской империей; 6-й пехотный полк как раз и прикрывал недалекую бессарабскую границу. Теперь память о сочинителе популярного вальса хранит грязноватый муниципальный пляж, обустроенный неподалеку от впадения в Дунай реки Сирет. Пляж называется “Дунайские волны”.
Правнук Иона Ивановича стал маститым российским классическим пианистом. Андрей Иванович преподает на кафедре специального фортепиано Петербургской консерватории и активно гастролирует. Но вальсов не сочиняет.
Если я сосчитал верно, то на берегах Дуная расположены двадцать городов с населением более пятидесяти тысяч человек. Это три полуторамиллионных мегаполиса – Будапешт, Белград, Вена; пять крупных по европейским меркам (под двести – за триста тысяч жителей) городов – Братислава, Галац, Нови-Сад, Брэила, Линц; еще пять “застотысячников”. Во всех этих городах я побывал. Возглавляет список столица Венгрии с населением 1 740 000 человек, замыкает Пассау в Германии (50 500). Из сотен небольших и малых придунайских поселений особняком стоит на речном берегу село Джурджулешты. Это самый южный населенный пункт Молдавии (три тысячи человек). Джурджулешты контролируют всю дунайскую линию республики (четыреста метров берега), в 1999 году полученную от Украины в обмен на участок автошоссе в районе села Паланка (самый восточный населенный пункт Молдавии).
Строго географически говоря, Джурджулешты расположены на реке Прут совсем неподалеку от ее слияния с Дунаем, но сам факт существования этого села теперь имеет и важное геополитическое значение. Дунайских государств после территориального размена стало не девять, а десять. Во всех междунайских организациях, на всех региональных встречах молдавский триколор полощется в равном ряду с флагами Германии, Венгрии, Австрии. В своем новом стратегическом статусе скромное село развивается опережающими темпами: в Джурджулештах в кратчайшие сроки построили нефтеналивную базу, а также пассажирский и сухогрузный терминалы с громким названием “Международный свободный порт”. Теперь каждый понедельник лайнер “Принцесса Елена” отправляется отсюда в “увлекательную и неповторимую морскую прогулку” Джурджулешты – Стамбул – Джурджулешты. Этот чудесный круиз предлагает отправившимся в путешествие счастливчикам не только “завтрак, обед и ужин во время движения”, но еще и “трапезу в первоклассном ресторане в Стамбуле с просмотром шоу, включающего танец живота”. Могли ли жители села Джурджулешты прежде даже мечтать о подобном?
ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ
КАК СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР ПЛЕЛ ВЕНОК
К середине 1950-х годов пафос военной победы в советском песенном творчестве наал сменяться лиризмом мирной жизни. Идеологические установки смягчились: поэты и композиторы осваивали тему братской дружбы народов Восточного блока, не обязательно связанную только с опытом освобождения от нацизма. Появилась серия песен, посвященных союзным Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии, Болгарии. Для таких песен, как “В любимом Бухаресте”, “Варна” (“Мне хорошо на зеленой болгарской земле…”), “Живи, моя Прага!”, “Привет Бухаресту!”, “Пани Варшава, товарищ Варшава”, “Песня о Белграде” (“Тут Сава с Дунаем встречаются, / Тут песни, как реки, сливаются / И наших народов сердца…”), требовался задушевный мужской вокал; равных Владимиру Трошину и особенно Марку Бернесу среди советских исполнителей не было. В 1962 году Евгений Долматовский вновь обратился к уже раз освоенной им дунайской теме. Вместе с композитором Оскаром Фельцманом он написал песню “Венок Дуная”, подведя своего рода итог творческим поискам на тему социалистического братства.
- Вышла мадьярка на берег Дуная,
- Бросила в воду цветок,
- Утренней Венгрии дар принимая,
- Дальше понесся поток.
- Этот поток увидали словаки
- Со своего бережка.
- Стали бросать они алые маки,
- Их принимала река.
- ………………………………………
- Встретились в волнах болгарская роза
- И югославский жасмин.
- С левого берега лилию в росах
- Бросил вослед им румын.
- От Украины, Молдовы, России
- Дети Советской страны
- Бросили тоже цветы полевые
- В гребень дунайской волны.
Концепция песни соответствовала политическому моменту: капиталистические западные немцы и австрийцы с дунайских верховий розы в волну не опускали; Молдавия рифмы ради получила латинизированное название; и Россия, не имевшая выхода к Дунаю, но без которой не обошлось, сохранила право “тоже бросить” скромный цветок. Песню с очаровательным акцентом исполняла затянутая в рюмочку польская француженка Эдита Пьеха, в мужском варианте – голосистый азербайджанец Муслим Магомаев. В 1968 году СССР оккупировал Чехословакию. Оттепель – и алые маки – закончилась.
Здесь, на бывшем пустыре, отрезанном от Дуная и Прута только узкоколейкой, на стыке самых дальних рубежей трех государств, особое звучание должно приобретать понятие “Европа”. Автодорога из украинского города Рени в Румынию через новоприобретенные земли Молдавии устроена так, что сразу после погранпункта шоссе E87 втыкается в трассу E584, потом минует еще одну заставу, а оттуда виден уже и мост через Прут, за которым несут службу пограничники из Галаца, быть может, потомки тех самых пехотинцев 6-го полка, что полтора столетия назад маршировали под музыку оркестра Ивановича. Всю Молдавию – слева новенький, с иголочки, Международный свободный порт в виде хаотичного скопления ангаров и бензозаправка с устрашающим названием Tirex Petrol, справа стадион сельского футбола Dunrea и российская автоколонка “Лукойл” – можно промахнуть за две минуты, если б не придирчивая и подчас небескорыстная строгость сотрудников контрольных служб. Коли не повезет (что более чем вероятно), застрянешь на полдня, успеешь поразмышлять о Смыслах Реки.
Нагромождение разного рода преград – полицейские шлагбаумы в голове и за хвостом плотной автоколонны, слева-впереди плещется одна большая река, впереди-наискось волнуется другая, по разноформатному забору по бокам, да еще бензиновая вонь, и радиоприемник обещает ветер и осадки – заставляет саму природу жизни вступать здесь в вопиющее противоречие с ее дурацкими условностями и нелепыми ограничениями. Будучи фрагментом такой дорожной сцены, Дунай предстает в роли досадного, убивающего время и пожирающего силы препятствия. Однако та же река и с не меньшим успехом способна выступить в образе парадной императорской дороги. На нарядных барках со знаменами и вымпелами или на пароходах, украшенных символами власти и букетами цветов, любили сплавляться по Дунаю Бабельсберги, Виттельсбахи, Габсбурги, османские паши и валашские господари. Не монархи благословляли реку – она благословляла монархов.
Милан Кундера в знаменитом эссе о трагедии народов, зажатых между Россией и Германией, вывел главное правило построения Центральной Европы: максимальное разнообразие при минимальных размерах. Центральная река Дунай, наколовшая на себя – словно кусочки мяса на шампур – обычаи, навыки, традиции, языки, уклады многих народов Европы, “правило Кундеры” подтверждает. И одновременно опровергает, потому что краски этой пестроты стерты вечной монотонностью водного потока. Я взялся бы утверждать, что дунайские пейзажи невероятно живописны и переменчивы, если бы с такой же степенью убедительности нельзя было доказать, что они на редкость статичны и малопривлекательны – эти бесконечные луга и лесопосадки, однообразные степи и пустоши, необозримые камыши и плавни. По яркой и невзрачной реке, навевающей тревогу и покой, забвение и отчаяние, европейский Запад неспешно перетекает в европейский Восток. На словацких, болгарских, украинских широтах это заметно отчетливо, еще и потому, что Дунай – единственная основательная горизонтальная голубая нить Старого Света, различимая даже на маленьком школьном глобусе.