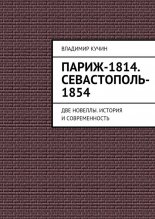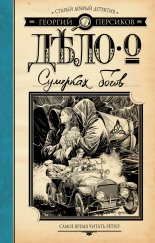Сонька. Продолжение легенды Мережко Виктор

— Боже…
Из спальни вышла артистка, молча налила в три фужера вина, посмотрела на Катеньку.
— Что?
— Нет, ничего, барыня.
— Сболтнул уже?
— Никак нет-с, — замотал головой Изюмов. — Молчу как сом-с.
Табба взяла свой фужер, опрокинула до дна, с трудом устояла на ногах, держась за стол. Дотянулась до лица Изюмова, цепко взяла его за скулы, притянула к себе и неожиданно поцеловала его жадно и страстно.
Катенька смутилась, пить не стала, быстро покинула гостиную.
Артистка отпустила вконец растерянного и красного Изюмова, пьяно попросила:
— Теперь вы… Слышите?.. Теперь вы поцелуйте меня.
Тот смотрела на нее, не в состоянии ничего сделать.
— Оглох?
— Не могу-с… — пробормотал артист. — Так сразу… — И добавил: — Я люблю-с…
— Кого?
— Вас.
— Так почему не целуешь?.. — Табба крепко взяла его за сорочку, притянула к себе. — Я велела, а ты не целуешь! Почему? Говори, сволочь! Почему? Презираешь, что меня выгнали из театра?.. Презираешь? Радуешься?! — Она вдруг сильно ударила его по лицу, затем стала хлестать не останавливаясь, что-то кричала, плакала, рвала на Изюмове сорочку, не отпускала.
Катенька бросилась оттаскивать хозяйку, та все равно пыталась достать артиста, а он, торопливо поправляя изодранную сорочку, отбивался, защищался, потом бросился к выходу.
Табба упала на диван, каталась на нем, рыдала, рвала на себе волосы, просила о милосердии.
— Господи, помоги мне… Помоги мне, Господи!.. За что Ты меня наказываешь, Господи!
Володя Кочубчик, опираясь на трость с набалдашником, одетый в белый костюм, с подстриженными волосами и бородой, степенно вошел в гостиную, остановился перед сидящей в кресле Анастасией, почтительно склонил голову.
— Здравствуйте, мадемуазель. Благодарю вас за милосердие, которое вы мне оказали. — И с некоторой даже кокетливостью представился: — Владимир Михайлович, ваш верный слуга и раб.
Сонька, Михелина и Никанор находились здесь же. Воровка смотрела на Кочубчика с нежностью и гордостью. Дочка — холодно и брезгливо. Дворецкий — беспристрастно и строго.
— Рабов здесь нет, — с напускной строгостью поправила его княжна, — а вот служить вам здесь придется исправно, — перевела взгляд на Никанора. — Во всем будете отчитываться и подчиняться моему дворецкому Никанору.
— Как прикажете, княжна, — снова склонил голову Володя.
— Прошу относиться к работающим с должным уважением и полагающейся строгостью.
— Строгость обещаю.
— И уважение.
— Уважение тоже будет, мадемуазель.
Анастасия снова повернулась к дворецкому.
— Покажи хозяйство Владимиру Михайловичу, Никанор, — велела она.
— Слушаюсь, барышня.
Дворецкий и Кочубчик ушли. Сонька, явно волнуясь, посмотрела на дочку, потом на княжну.
— Ну, как он вам?.. Хороший ведь, правда?
Михелина молчала, Анастасия тоже.
— Он вам понравится! — заверила воровка. — Чуточку пообвыкнет, оботрется, и вы на него не нарадуетесь.
— Лишь бы ты, мама, радовалась ему, — заметила дочка.
— Да я уж рада. Так рада, что голова совсем не своя.
— Мне кажется, он выпивающий, — по-взрослому строго заметила княжна.
— Конечно выпивающий. Бывало! — согласилась воровка. — А жизнь какая ведь на него свалилась?.. Разве там не пьют?
— Здесь пьянства быть не должно, передайте.
— Да я уже говорила!.. И объясняла, и просила, и даже угрожала!.. Все понял, со всем согласен. Да и с кем здесь пить?
— С самим собой, — усмехнулась Михелина.
— Если зайца долго бить, его можно научить даже спички зажигать, — попыталась отшутиться воровка.
— Как бы заяц сдачи не дал.
Лицо матери вдруг стало злым, жестким.
— А что это здесь вы мне морилово устроили?!. Пьет не пьет, сдачи даст не даст!.. Могу ведь манатки собрать, и все ваше станет нашим!
— Сонь, ты чего? — попыталась обнять ее дочка.
Мать сбросила ее руку.
— Сама за него переживаю, не меньше вашего!.. И следить за ним стану так, мало не покажется! — Повернулась и быстро покинула комнату.
— Мне ее жалко, — тихо произнесла Анастасия.
— Мне тоже, — кивнула Михелина. — Но я бы такого не полюбила. Скользкий какой-то.
— А мне он показался мужчиной забавным, — улыбнулась княжна. — И я даже понимаю твою маму.
Сонька сидела на диване в халате, наблюдала, как готовился ко сну Кочубчик. Он не спеша и любовно повесил в шкаф белый пиджак, затем, скача то на одной ноге, то на другой, стянул брюки, после чего принялся снимать сорочку.
На теле были видны синяки, ссадины, глубокие шрамы — следы былой жизни.
Воровка подошла сзади, обняла.
— Любимый… Единственный. — Поцеловала глубокий шрам на груди. — Бедненький мой.
— Это твои паскуды ширнули. Сам удивляюсь, как оклемался, — пожаловался Володя.
— Но ведь оклемался, и слава богу.
— Кость крепкая от папки с мамкой, мать бы их за ногу!
Сонька повернула его лицом к себе, через паузу спросила:
— Может, тебе денег дать?
— Зачем? — искренне удивился вор.
— Мужчина всегда должен быть при деньгах. А потом — вдруг захочется сходить к корешам.
— К каким корешам?
— Которые на воле.
Кочубчик рассмеялся.
— Говоришь так, будто здесь арестантская.
— Не арестантская, а все одно первое время скучать будешь. — Воровка явно проверяла его. — Дать?
— Не-е, мама, не надо… Я тут как у Христа за пазухой. Не желаю видеть все это блудилище. — Неожиданно добавил, снова рассмеявшись: — А понадобятся тугрики, тут есть чего цопнуть!
— Нет, Володя, здесь этого делать нельзя. Мне поверили, я за тебя отвечаю.
— Шутка, мама!.. Шутка! — Кочубчик ласково придавил ее нос пальцем. — Да и попробуй тут чего дернуть!.. Одна малявка так зыркает, что волосы на жопе шевелятся… Или еще этот хрен старый.
— Володя… Володечка… Даже не вздумай.
— Ну, Сонь, как неродная!.. Зачем воровать, когда как у Христа за пазухой. Да еще такая мамка рядом! — Он обнял ее и стал целовать.
Сонька задыхалась, теряла сознание, ловила его губы своими, тихо и томно стонала.
— Мама… родная… ты самая лучшая… А я тварь, мама.
Они упали на кровать, и ласки продолжались в постели.
…Потом они не спали. Тихо, полусонным голосом Кочубчик рассказывал Соньке о своей жизни.
— Когда братки меня пришили, пролежал я в лесу, считай, целую неделю. Все в память никак не приходил. Пока не подобрала одна хавронья.
— Какая хавронья? — не без ревности насторожилась воровка.
— Да так, баруха из соседней деревни. Вот у нее и оклемывался почти год.
— Молодая?
Володька повернул к ней голову, окинул оценивающим взглядом.
— Не очень. Чуток тебя помоложе будет.
Сонька проглотила сказанное, с деланым безразличием спросила:
— Ну, оклемался… И чего дальше?
— Дальше стал шарить мозгом, чего делать, куда лыжи направить.
— Дом-то хоть целый остался?
— Такой целый, что хотя б одно бревно в пепелище отыскать! — хмыкнул вор. Помолчал, переживая обиду, продолжил: — А куда двигать ноги, Сонь?.. На волю — враз твои товарищи прирежут. Жить у этой чувайки — тоже тоска смертная.
— Детей меж вами не осталось?
Кочубчик хохотнул.
— Осталось!.. Свинья с сиськами да поросята с мисками! — то ли отшутился, то ли чего-то недосказал он. Дотянулся до кисета, закурил.
— Не кури здесь! — шепотом приказала воровка. — Барыня ругается!
— Барыня… От горшка — до ремешка! — пренебрежительно сплюнул вор. — Вот и понял тогда, что алюсником быть — самое безопасное дело. Ни мокрухи тебе, ни бомбилово, никакого другого гоп-стопа!.. Копыто протянул, жалости по самое некуда подпустил, сказочку какую-нибудь даванул, и, глядишь, к вечеру и на хлебушек, и на курево, и на шмыгаря — на все хватает! К тому ж и синежопые подобных бухариков в упор не желают видеть.
— И что ж, воры тебя больше не искали? — с недоверием поинтересовалась Сонька.
— Искали!.. Еще как искали!.. Какой-то люмпик бздо пустил про меня, пришлось катиться по железке из Москвы в Тверь, из Твери вот в Питер… А тут пока никто еще не вынюхал — все чинно, кучеряво. — Бросил окурок в стакан с водой, пошутил: — Может, ты на меня стуканешь?.. А, Сонь?
Она прикрыла ему рот ладошкой, навалилась всем телом.
— Любимый… Самый желанный и самый единственный. — И стала снова целовать его нежно, до головокружения.
На улице был уже полдень, но Табба от безделья не спешила покидать постель, валялась в ней бессмысленно и тягостно.
Катенька подкатила к ее кровати на столике утренний чай с цукатами, налила в чашку.
В это время раздался звонок в дверь.
Обе напряглись, артистка почему-то полушепотом бросила прислуге:
— Спроси кто.
Та быстро направилась в прихожую, крикнула:
— Кто здесь?
— Граф Петр Кудеяров.
— Я доложу!
Катенька вернулась обратно, сообщила:
— Граф Кудеяров.
— Петр или Константин?
— Не запомнила.
— Подай ему кофею, пусть ждет в гостиной.
Прислуга понятливо кивнула, заспешила встречать гостя.
Петр, как всегда улыбчивый, с огромной коробкой конфет в руках, вошел в квартиру, игриво провел рукой по изогнутой талии Катеньки, передал ей подарок.
— А где сама?
— В туалетной комнате. Скоро будут.
Граф профланировал в гостиную, бросил трость на диван, рухнул с удовольствием на стул, забросил ногу на ногу.
Катенька поставила на стол чайный прибор, поинтересовалась:
— Может, желаете вина?
— Скорее желаю… вас! — хохотнул Петр и тут же выкрутился: — Вас! Желаю вас спросить, как величают?
— Катерина.
— Вы прелесть, Катерина. Почему я не замечал вас раньше?!
— Замечали, просто забыли. В театре!
— Память! — хохотнул граф, стукнув себя по лбу. — Мужская память короче дамских волос! — И снова заинтересованно оглядел служанку. — Откуда сами, мадемуазель?
— Из Великого Новгорода, сударь.
— Неужели там такие прелестные девушки?!
— Я — худшая из них! — улыбнулась она.
Ответ весьма понравился Кудеярову, он рассмеялся еще громче.
— Непременно поеду в Великий Новгород выбирать невесту!
— А чем плоха моя хозяйка?
— Ваша хозяйка? — вскинул брови Петр. — Ваша хозяйка лучшая из лучших!.. Такие на земле не рождаются!
Из спальной комнаты вышла одетая в красивый узорчатый халат Табба, протянула графу для приветствия руку.
— Здравствуйте, граф.
— Мадемуазель! — воскликнул тот и приложился к ручке. — За эти дни вы стали еще прелестнее!
— Благодарю. — Артистка села напротив. — А вы, я вижу, в отличном расположении духа.
— Потому как нет повода унывать! Стоит лишь взглянуть, к примеру, на вашу прислугу, и настроение — верх меры.
— Верх меры — это плохо, — холодно заметила Табба и кивнула Катеньке: — Ступай к себе, нам надо поговорить.
— Хорошо, барыня.
Артистка дождалась, когда девушка уйдет, повернулась к гостю.
— Вы решили навестить опальную артистку?
— Почему нет? — легко спросил тот, отпивая чай. — Вы прекрасно знаете о моем к вам расположении.
— Тем не менее не ударили палец о палец, чтобы защитить меня!
— Защитить?.. Как?.. Чем защитить?.. Вас защищает публика!
— Ну да. Гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
— Ошибаетесь. Театр потерял публику!.. Зал полупустой, представления мертвые, горения никакого!
Табба неожиданно увидела высунувшиеся из кармана графа часы с бриллиантами, которые она когда-то не решилась забрать.
— С чем пришли, граф?
— Проведать.
— Всего лишь?
— Вы хотели большего?
— Конечно.
— Например?
— Например, жду, что вы сделаете мне предложение.
Гость расхохотался так громко, что даже сам почувствовал бестактность смеха.
— Пардон…
Табба смотрела на него холодно, не мигая.
— Это так смешно?
— Ни в коем случае. Просто я не знал, что до такой степени вам нравлюсь.
— А кто вам сказал, что вы мне нравитесь?
— Вы!.. Вы ведь ждете мои руку и сердце?
Табба по-прежнему не сводила с него тяжелого взгляда.
— Жду, когда вы сообщите, с чем явились.
Граф отодвинул чашку, сел ровно, опершись локтями на стол.
— Грубо, но верно… Я явился с предложением к вам уехать из Санкт-Петербурга.
— Предложение чье?.. Гаврилы Емельяновича?
— Мое. Вокруг вас разрастается скандал. Уйма слухов и домыслов. И чтобы прекратить все это, надо уехать. На месяц, на два, на полгода!.. Но уехать! В провинцию!.. Там вас примут с распростертыми объятьями!
— Боитесь, что скандал заденет вас?
— Меньше всего. Я был мало замаран вашими знакомствами, поэтому опасаться особенно нечего… За вас боюсь.
Табба с иронией усмехнулась.
— Думаете, меня отправят за решетку?
— И этого не исключаю. Дело о покушении на полицейское начальство еще не закрыто, к тому же может всплыть история вашей матушки.
— Это похоже на шантаж.
— Всего лишь факты.
Табба отвела глаза от гостя, некоторое время смотрела на окно, на подоконнике которого ворковали голуби, уверенно заявила:
— Нет, вы все-таки боитесь за себя. Боитесь, что я потащу вас за собой… Помните ваше приглашение в ресторан на сборище бунтовщиков?
— Не было. Не было такого. Вы из ресторана уехали с господином поэтом!
— Следствие разберется.
Кудеяров несколько растерянно потер взмокшие ладони, достал из внутреннего кармана сюртука портмоне, вынул оттуда сотенную купюру, положил на стол.
— Мне важна моя репутация. Тем более в это нездоровое время. Поэтому прошу вас, покиньте город. Если надо, предоставлю экипаж. А по возвращении буду всячески хлопотать о восстановлении в театр.
Табба повертела купюру, отодвинула от себя.
— Во-первых, сто рублей — не деньги, чтобы сносно прожить где-то даже месяц.
— Могу предложить еще. — Петр извлек из портмоне вторую такую же купюру.
— Во-вторых… — спокойно продолжала артистка, накрыв деньги ладонью. — Во-вторых, во мне заинтересовано следствие, и если я сообщу, что вы желаете способствовать моему бегству, репутация ваша упадет еще больше.
— Это также шантаж, но уже с вашей стороны, — усмехнулся натянуто граф.
— Не отрицаю, — согласилась девушка. — Поэтому деньги я возьму, уезжать никуда не стану, а по поводу театра… — Она призадумалась. — Уверяю, театр придет ко мне сам. И вы будете первым, кто притащит мне цветы.
Девушка поднялась, ее примеру последовал и гость.
— Я готов носить вам цветы уже с сегодняшнего дня, — сказал Петр.
— Это лишнее. Могут неправильно понять, и у вас возникнут дополнительные проблемы. — Табба обняла его, поцеловала в щеку, моментально выудив из кармана Кудеярова часики. — Благодарю, граф, за трогательный визит.
Петр суетливо взял трость, так же суетливо откланялся и быстро пошел к двери.
Артистка смотрела ему вслед и улыбалась только уголками рта.
Глава восьмая
Кресты
Сонька оглядела Кочубчика со всех сторон, полюбовалась на его белый костюм, сидевший на нем как влитой, поправила любимому прическу, разгладила бородку.
— Что-то нехорошо у меня на душе, Володя.
— Не парься, мама, — отмахнулся тот. — Будто на японца провожаешь.
— Не на японца, а все одно боязно. Как бы тебя ляшаги не заприметили.
— Разве у меня на лбу написано, что я вор?
— Не написано. Со стороны — прямо джентльмен какой. А как к своим корешам причалишь, так и пойдет хвост следом.
Володя повернулся к ней, с досадой объяснил:
— К корешам не пойду. Хвост не зацеплю. А для тебя, возможно, кой-чего щипну.
— Не надо, Володя! — испугалась воровка. — Не дай бог, словят. Я ж тебе денег дала!