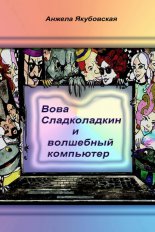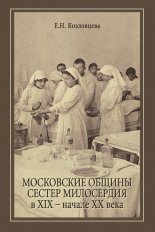Биография Шерлока Холмса Реннисон Ник

К тому времени, когда Дью вернулся с арестованными из заокеанского вояжа, Холмс почти наверное пришел к собственным выводам, которые изложил старшему инспектору.
Холмс уже сталкивался с Дью много лет назад. Молодым констеблем Дью служил в Уайтчепеле во время убийств Джека Потрошителя и даже присутствовал при обнаружении изуродованного труппа Мэри Келли – «самое ужасающее воспоминание за всю мою карьеру в полиции», как он описывает это в мемуарах. Однако, невзирая на давнее знакомство, Дью не пожелал опираться на теорию, которую предложил ему Холмс.
В рассказе «Львиная грива» Холмс признает: «Моя память похожа на кладовку, битком набитую таким количеством всяких свертков и вещей, что я и сам с трудом представляю себе ее содержимое».
В одном из таких «свертков» оказалась информация о том, как иногда используют скополамин – препарат, ставший причиной смерти Коры Криппен. Это было обезболивающее и успокоительное средство, и Холмс отчетливо представлял себе, что на самом деле произошло.
Кора действительно приняла скополамин, но сделала это в неведении. Криппен же не собирался убивать жену. Он тайком давал ей лекарство, стараясь уменьшить ее сексуальные аппетиты. То ли доза была слишком велика, то ли возникли какие-то побочные эффекты, но на руках у злополучного Криппена оказался труп жены. Запаниковав, он попытался избавиться от тела и потому придумал историю про бегство в Америку.
Пока Холмс силился убедить полицию в своей версии событий, ему как нельзя кстати пришлось то, что Уотсон в рассказе «Пропавший регбист» назвал «философским спокойствием», с которым он всегда относился к своим неудачам.
Дью, проникшийся безотчетной неприязнью к Криппену, выслушал сыщика внимательно, однако остался верен своему убеждению, что доктор с самого начала собирался убить жену и что ему следует предъявить обвинение в преднамеренном убийстве. К бесконечному огорчению и гневу Холмса, именно в этом преступлении суд признал виновным Криппена 28 ноября 1910 года. Он был повешен, а накануне казни послал прощальную записку своей любовнице Этель Ле Нев[104]. «Мы встретимся в другой жизни, – писал он. – Мы всегда были едины сердцем и душой, в мыслях и поступках, даже во плоти и духе, и я не могу не думать, что мы снова будем вместе в иной жизни, в которую я ухожу слишком рано».
Невзирая на прочие занятия, Холмс продолжал жадно читать те страницы газет, на которых печаталась криминальная хроника. Ни одно сообщение о грабеже или убийстве, ни один отчет коронера о внезапной и таинственной смерти не могли избегнуть его внимания.
Двадцать третьего июля 1912 года он прочел о дознании по делу о смерти Бесси Уильямс, в девичестве Манди, которую нашли утонувшей в собственной ванне в курортном городке Эрне-Бей, на северном побережье графства Кент. Лечивший Бесси Уильямс врач счел, что у нее случился эпилептический припадок, пока она мылась в ванне.
Изучив детали дела, Холмс сразу же понял, что врач ошибся. Разве не подозрительно, что всего за несколько дней до смерти Бесси составила завещание, согласно которому все ее сбережения (2579 фунтов 13 шиллингов 7 пенсов) переходили к ее мужу? Как могла довольно крепкая женщина, пусть даже подверженная эпилептическим припадкам, утонуть так, как это произошло, по утверждению врача?
Лишь один раз прочитав отчет, Холмс пришел к выводу, что муж Бесси, человек, называющий себя Генри Уильямсом, – хитрый и бессердечный убийца, избежавший правосудия.
У Холмса уже не было, как прежде, знакомых в Скотленд-Ярде. Лестрейд и Грегсон вышли в отставку. Сменивший их Уолтер Дью также ушел из полиции – по иронии судьбы, чтобы стать частным сыщиком.
Холмс, сам наполовину отошедший от дел, обнаружил, что новое поколение инспекторов Скотленд-Ярда хотя и вежливо выслушивает его идеи, не собирается возобновлять расследование. Для них дело Бесси Уильямс было закрыто, и они не собирались открывать его по настоянию престарелого частного детектива, сколь бы блистательной ни была его прошлая карьера.
Занятый работой на спецслужбы и предстоящей контрразведывательной игрой, кульминацией которой стало разоблачение германского агента фон Брока, Холмс не имел времени доискиваться до истины. Об этом упущении он еще пожалеет.
Генри Уильямс, чье настоящее имя было Джордж Джозеф Смит, обнаружил, как он считал, безупречный способ избавляться от ненужных жен, как только те, следуя его уговорам, составляли завещание в пользу супруга. Многоженец с массой личин и имен, Смит утопил в ванне еще по меньшей мере двух жен. До конца своих дней Холмс корил себя, что не настоял на своем, когда понял, что совершаются убийства.
Глава четырнадцатая
«Поднимается восточный ветер»
В годы царствования Эдуарда VII, между 1901 и 1910 годами, Шерлок Холмс заметно отошел от криминальных расследований, которые сделали ему имя. Поездка в Бирмингем для оправдания Джорджа Эдалджи была одолжением старинному другу. Эпизод с «Львиной гривой» подвернулся ему случайно, когда он поправлял здоровье в своем коттедже в Саут-Даунсе.
Холмс сохранял интерес к преступному миру, но держался от него на расстоянии. В 1905 году он, вероятно, сухо улыбнулся, прочитав о деле Стрэттонов, в ходе которого двух братьев судили и признали виновными в убийстве благодаря отпечатку большого пальца, обнаруженному на месте преступления. Это был первый раз, когда британское правосудие опиралось на способ опознания, который Холмс рекомендовал более двадцати лет назад.
Вероятно, ему вспомнились события июня 1891 года и его затянувшийся до глубокой ночи разговор с генеральным инспектором бенгальской полиции Эдвардом Генри. Именно Генри, вернувшийся в Лондон заместителем главы Скотленд-Ярда, учредил Бюро отпечатков пальцев.
Когда Холмс покидал побережье Суссекса, его все больше и больше затягивала деятельность новоиспеченных секретных служб МИ-5 и МИ-6.
Помимо «Его прощального поклона», истории о том, как Холмс обезвредил немецкого агента фон Борка, Уотсон рассказывает о трех делах, заставивших детектива погрузиться в мутный мир на стыке международной дипломатии и шпионажа. Одно из них – случай с «Морским договором» в 1887 году – предшествовало его трехлетнему отсутствию. Два других – инциденты со «Вторым пятном» и с «Чертежами Брюса-Партингтона» – датируются годами, непосредственно следующими за возвращением детектива в Лондон.
В рассказе «Морской договор» блестящая карьера, которую делал в министерстве иностранных дел Перси Фелпс, школьный товарищ Уотсона, оказывается под угрозой из-за пропажи важного государственного документа. Его украл, пользуясь удобным случаем, будущий шурин Фелпса, который рассчитывал поправить свое финансовое положение, продав сведения о договоре какой-нибудь иностранной державе.
Британия действительно заключила с Италией (и Австро-Венгрией) секретный договор, известный как Средиземноморское соглашение (Средиземноморская антанта), остававшийся в силе между 1887 и 1896 годами, и вполне возможно, что из-за этого документа возник какой-то закулисный кризис, который Уотсон вплел в опубликованный им рассказ.
Случай со «Вторым пятном» Уотсон сознательно не датирует («год и даже десятилетие не могут быть указаны»). Рассказ его начинается с посещения Бейкер-стрит двумя лицами, «пользующимися европейской известностью», – премьер-министром лордом Беллинджером и министром по европейским делам Трелони Хоупом.
Вновь пропал важный документ, и Холмс должен отыскать его. В данном случае это письмо «одного иностранного монарха», обеспокоенног «недавним расширением колоний» Британской империи. «Тон письма довольно резкий, – говорит премьер, – и некоторые фразы носят столь вызывающий характер, что его опубликование, несомненно, взволновало бы общественное мнение Англии. И даже более, сэр: могу сказать не колеблясь, что через неделю после опубликования письма наша страна будет вовлечена в большую войну».
Вопреки попыткам Уотсона соблюсти конфиденциальность, совсем не трудно догадаться, что премьер-министр лорд Беллинджер – это лорд Солсбери[105], а недипломатичный европейский монарх – кайзер Вильгельм II, имевший привычку бомбардировать бестактными посланиями иностранные правительства без ведома своих министров.
Холмсу удается спасти положение, установив, что супруга министра по европейским делам стала жертвой шантажиста и похитила письмо по требованию этого негодяя. Война предотвращена.
Наиболее интересно из этих дел то, которое Уотсон описал в рассказе «Чертежи Брюса-Партингтона». Оно вращается вокруг новейшего проекта подводной лодки.
Королевский военно-морской флот до странности долго не осознавал, в какой степени подводные лодки способны изменить самую природу войны на море. Одним из немногих морских офицеров высшего ранга, рано оценившим их потенциал, был адмирал Джон Фишер. В 1904 году, девять лет спустя после кражи чертежей Брюса-Партингтона, Фишер все еще писал: «Не думаю, что мы хотя бы на йоту осознали, какой гигантский переворот неизбежно произведут субмарины как наступательное оружие войны».
В 1890-х годах наиболее совершенные подводные лодки строились не в Европе, а в США, и конструировал их ирландский националист Джон Филипп Холланд (Голланд). Именно одна из субмарин Холланда, вполне возможно, скрывается под туманом, которым Уотсон окутывает эту историю.
По иронии судьбы права на конструкцию Холланда были приобретены в США «Электрик боут компани», затем продавшей их концерну «Виккерс», на верфях которого в приморском городке Барроу-ин-Фернесс начиная с 1900 года строились первые британские субмарины.
Кроме этих случаев, описания которых нашпигованы сбивающими с толку намеками и ложными следами, Уотсон больше нигде не упоминает о причастности Холмса к шпионажу и контршпионажу. Однако Холмс сыграл центральную роль в создании и МИ-5, ведущей борьбу с внутренними врагами государства, и МИ-6, призванной собирать информацию о врагах внешних.
Занимая в МИ-5 особое полуофициальное положение, которого он добился еще на заре существования этой службы, Холмс вербовал агентов, коих не мог утянуть ко дну даже бурный водоворот анархистских и революционных политических интриг Ист-Энда.
Уже с осени 1908 года он получал донесения (возможно, от агента по фамилии Орлов), предостерегавшие, что группа латышских эмигрантов, обосновавшихся в Лондоне после провала революции в их собственной стране, может составить серьезную угрозу для общественного спокойствия.
Мир, в котором жил и действовал Орлов, походил на тот, что описан в «Секретном агенте» Джозефа Конрада. Роман Конрада, мрачно-ироничная история анархистов-бомбометателей и политического заговора, вдохновлен событием, о котором, скорее всего, знал Холмс, хотя произошло оно как раз перед его возвращением в Лондон.
Под вечер 15 февраля 1894 года двух сотрудников Гринвичской обсерватории встревожил звук, похожий на взрыв снаряда, донесшийся из парка снаружи. Выбежав узнать, что произошло, они увидели скорчившегося на земле мужчину, который зажимал рану в животе. Он оказался двадцатилетним французом, неким Марсиалем Бурденом, приехавшим в Гринвичский парк на трамвае из своей квартиры в Фицровии. Другие пассажиры сообщили полиции, что Бурден вышел из трамвая с пакетом в руках. И вскоре стало ясно, что в пакете была бомба, которая взорвалась преждевременно, смертельно ранив француза.
Конраду, писавшему многие годы спустя, попытка взорвать бомбу в обсерватории представлялась «кровавой бессмыслицей, настолько нелепой, что никакими логичными или нелогичными рассуждениями установить ее причину было невозможно». Однако за этим крылась своя изощренная логика.
Бурден был членом того же спаянного кружка французских анархистов, что и Казерио, который убьет французского президента Сади Карно в июне 1894 года, а также Юрэ, Убийца с Бульваров. Обреченная на провал миссия Бурдена в Лондоне сводилась к эксперименту с целью проверить мощность взрывчатки, которую изготовляла организация. Его, так сказать, самопожертвование послужило достаточным доказательством тому, что бомбы не лучшее средство для покушений, и Казерио использует более надежную альтернативу – нож, – чтобы убить французского президента.
Ну а кем был Орлов? Почти наверное внимание Холмса обратил на него Шинвелл Джонсон[106]. Он снабжал Холмса информацией более двух лет и пользовался доверием латышей все это время. Не исключено, что он и сам был латышом. Как мы увидим, он оказался в группе, окруженной полицией и солдатами на Сидней-стрит, и, подобно столь же таинственному Петру Маляру, скрылся оттуда в хаосе, последовавшем за осадой.
Большинство анархистских группировок предпочитали разговоры действиям. Латыши же, пришел к выводу Холмс, намеревались действовать. И в очередной раз его предупреждения, хотя и поддержанные Майкрофтом, были проигнорированы.
Первые признаки того, что латвийские анархисты представляют собой подлинную угрозу, появились в начале 1909 года, когда двое из них, Пауль Хефельд и Яков Лапидус, отправились на Тоттнэм и напали на автомобиль, перевозивший деньги для выплаты жалованья рабочим резиновой фабрики Шнурмана. Хефельд уже упоминался в донесениях Орлова Холмсу как особо необузданный и фанатичный революционер, и теперь он с товарищем продемонстрировал, что опасения Орлова были вполне оправданными.
Экспроприация с самого начала катастрофически не задалась. Шофер автомобиля не собирался отдавать деньги без борьбы, так что боевики, оба вооруженные, открыли стрельбу и ранили его, прежде чем сбежать с наличными.
Услышав звуки выстрелов, на место происшествия поспешили несколько полицейских. Хефельд и Лапидус запаниковали и, ведя беспорядочную стрельбу, ранили маленького мальчика, проходившего мимо (он потом умер в больнице). Констебль Тайлер, по-видимому, загнал их в угол, но Хефельд направил на него пистолет и застрелил в упор. Тайлер истек кровью на месте.
Затем Лапидус и Хефельд захватили трамвай и под дулами пистолетов заставили вагоновожатого помочь им скрыться. Полицейские, успевшие выхватить оружие, вскочили в другой трамвай и отправились в погоню, обмениваясь выстрелами с боевиками.
Лапидус и Хефельд спрыгнули с трамвая и завладели стоявшим у обочины молочным фургоном. Почти немедленно они его перевернули, пытаясь свернуть за угол на слишком большой скорости. Бросив разбитый фургон, они хотели воспользоваться запряженной лошадьми повозкой зеленщика, но не сумели снять ее с тормоза. Двигаясь с чинной неспешностью и все еще паля по преследующим их полицейским, они в конце концов были вынуждены бросить и повозку.
Теперь они припустили по дорожке вдоль Чингфордского ручья. Она вела в тупик. Первым Хефельд, а за ним Лапидус застрелились при приближении полицейских. Лапидус умер тут же. Хефельд протянул три недели и умер, произнеся напоследок слова: «Моя мать в Риге», которые ничем не помогли следствию.
Трагедия и фарс сплелись в «Вопиющем тоттнэмском насилии», как назвали эту акцию анархистов. Однако события следующего года доказали, что опасения Холмса относительно латышей вполне оправданны.
В декабре 1910 года полицейский констебль во время обхода улицы Хаундсдич (в лондонском Сити) услышал непонятный шум, доносившийся из трех строений, именуемых Эксчейндж билдингс. Человек, открывший дверь на его стук, показался ему подозрительным, и констебль поспешил заручиться помощью коллег.
Несколько полицейских возвратились к дому, и сержант Бентли опять постучал в дверь. Тот же человек пригласил Бентли войти, но едва сержант переступил порог, из задней комнаты выскочил еще один мужчина и дважды выстрелил в полицейского, ранив его в плечо и в шею. Вторая пуля перебила позвоночник Бентли.
Остальные члены шайки, которые копали туннель к подвалу ювелирной лавки на Хаундсдич, теперь выбежали из соседнего строения, непрерывно стреляя. Пули поразили еще нескольких полицейских, но единственный оставшийся на ногах констебль по фамилии Чоут героически попытался задержать убегающих анархистов.
Схватив одного, позднее опознанного как Георг Гардштейн, он попытался вырвать у него пистолет. Товарищи Гардштейна несколько раз выстрелили в Чоута, который получил не менее полдесятка ран и позднее умер. Одна из пуль попала в Гардштейна, смертельно его ранив. Шайка скрылась, унося с собой своего раненого сообщника.
В течение следующих двух недель ее местопребывание оставалось неизвестным. Затем Орлову, которому латыши все еще доверяли, удалось сообщить Холмсу о том, что происходило.
Вскоре после стрельбы на Хаундсдич двое членов шайки засели в доме № 100 по Сидней-стрит. Сам Орлов теперь был с ними. Вскоре дом окружила полиция, а жителей соседних домов эвакуировали[107].
Холмс и высшие полицейские чины надеялись, что с помощью Орлова, все еще пользующегося доверием анархистов, засевших в доме латышей, при всей их отчаянности, можно убедить сдаться.
Однако в дело вмешался министр внутренних дел Уинстон Черчилль, нетерпеливо требовавший незамедлительных результатов, и отдал приказ привлечь к штурму армию. Первыми утром 3 января 1911 года на Сидней-стрит прибыли шотландские гвардейцы из лондонского Тауэра. Снайперы заняли позиции на верхних этажах соседних зданий, откуда они могли осыпать дом градом пуль. Сам Черчилль приехал вскоре после полудня и тут же де-факто вступил в командование собравшимися на улице отрядами различных сил правопорядка.
Пока Черчилль расхаживал, позируя перед камерами, Холмс изнывал от бешенства. Неуклюжие меры, к которым прибегли власти, грозили уничтожить сеть осведомителей, с таким тщанием создававшуюся им три предыдущих года. Его собственный агент очутился в ловушке дома № 100 на Сидней-стрит.
Сыщик метался между кабинетом Майкрофта в Уайтхолле и Ист-Эндом, пытаясь вновь взять инициативу в свои руки. События, однако, все больше выходили из-под его контроля.
Прибывали всё новые пополнения, всё новые воинские части. Революционеры и солдаты всё чаще обменивались залпами, а затем из окон верхнего этажа заклубился дым, и вскоре здание заполыхало, вынуждая людей внутри отступать в комнаты, еще не тронутые огнем.
Затем, когда здание было полностью выпотрошено, полицейские и солдаты двинулись на приступ. В выгоревшем остове дома обнаружили трупы двух анархистов – Сваарса и Соколова. Соколова поразил пулей в голову кто-то из снайперов, когда он встал возле открытого окна. Его товарищ задохнулся от дыма. Третий человек, предположительно находившийся в здании и известный как Петр Маляр, исчез.
В книге, вышедшей в 1920-х годах, Черчилль охарактеризовал Петра Маляра как «одного из тех диких зверей, которые в более поздние годы в конвульсиях Великой войны пожрали и растерзали русское государство и русский народ».
Похоже, однако, что Орлов и загадочный Петр были одним и тем же лицом и Холмс каким-то образом сумел в суматохе пожара устроить бегство своего агента с Сидней-стрит, а затем помог ему скрыться из страны. Едва ли сыщик был доволен таким исходом. Он лишился самого надежного и смелого своего агента.
Потребность Черчилля находиться в центре событий позднее высмеивалась его политическими противниками. «Нас озаботило появление в иллюстрированных газетах фотографий министра внутренних дел в опасной зоне, – заметил в Парламенте лидер тори Бальфур. – Я понимаю, что там делал фотограф. Но министр внутренних дел?» Сам Черчилль позднее признал неблагоразумным свое присутствие возле осажденного дома, но вред был уже нанесен.
Деятельность МИ-6 по большей части вначале была направлена на сбор информации о главной сопернице Британской империи – Германии. Их будущую конфронтацию писатели рисовали уже после стремительного разгрома Франции Пруссией в 1871 году.
В «Битве при Доркинге» Джорджа Чесни, престранной фантазии, немецкие армии вторгаются на Британские острова и, несмотря на героический отпор, данный им под этим городом в графстве Суррей, сметают все на своем пути. Опубликованный в «Блэксвудс мэгэзин» в том же году, этот опус вызвал бурные споры.
К 1909 году убеждение о неизбежности войны между Германией и Британией прочно укрепилось в общественном сознании. Литературные поденщики, такие как бесстыдный Уильям Ле Ке, который выдавал на-гора по нескольку книг в год с заглавиями вроде «Вторжение в 1910 году» и «Шпионы кайзера», разжигали страхи перед мародерствующими гуннами, форсирующими Ла-Манш.
Газеты изобиловали жуткими байками. Немецкие официанты в Лондоне сплошь шпионы. По всей Англии затаились немецкие отряды, ожидая приказа извлечь оружие из тайных арсеналов, расположенных в пределах видимости Чаринг-Кросс. Одна газета – «Уикли ньюс» – до того была одержима шпиономанией, что пригласила своих читателей активно выявлять шпионов и назначила специального редактора для сбора информации о германских лазутчиках.
Вот в этой-то атмосфере жгучей подозрительности и тревоги и родилась Секретная разведывательная служба (МИ-6), в которой работал Холмс.
Хотя Холмс выглядит довольно эксцентричным для секретных служб, как агент он был не более инороден, чем первый глава МИ-6 Мэнсфилд Смит-Камминг. Фамилия Мэнсфилда стала двойной после женитьбы на богатой наследнице Мэй Камминг: ее семья настояла, чтобы он добавил фамилию жены к своей собственной, что было оговорено в брачном контракте.
Он начал карьеру морским офицером, но двадцатишестилетним (что весьма необычно) был списан на берег из-за таинственного недуга. Кое-кто утверждал, что причиной тому послужила морская болезнь. На берегу Камминг делил свое время между Саутгемптоном, где командовал батареями, и новым европейским турниром по мотогонкам. Он был энтузиастом-пионером «моторизма», как иногда называли этот спорт, пока не стал жертвой страшной катастрофы, в которой его сын погиб, а он сам лишился ноги.
С момента своего создания на протяжении нескольких десятилетий МИ-6 функционировала в сюрреалистической, почти фарсовой атмосфере. Камминг сидел в своем офисе («За весь день в кабинете никто не появился», – записал он как-то в своем дневнике), ожидая посетителей, которые не могли явиться, поскольку местонахождение офиса было засекречено. Работая почти в полном одиночестве и часто оплачивая из собственного кармана самое необходимое, вроде пишущих машинок и писчей бумаги, он пытался выполнять задачи, по его мнению на него возложенные.
Вербуемые агенты в большинстве своем оказывались даже хуже чем дилетантами. В 1910 году Тренч и Брендон, два армейских офицера, номинально подотчетных Каммингу, отправились в пеший поход по Балтийскому побережью Германии, сочетая отдых со шпионажем. Они были схвачены немецкими властями через несколько дней после отъезда из Англии. Причем собранную ими информацию обнаружили под матрацем Тренча в номере отеля. Они были отданы под суд и приговорены к нескольким годам заключения в немецких тюрьмах.
Попытавшись лично встретиться со своими полевыми агентами, Камминг столкнулся с разными сюрпризами. Один, подписывавший свои сообщения «мадемуазель Эспье», оказался дюжим агрессивным бельгийцем, заинтересованным главным образом тем, как бы выжать из Камминга побольше денег. Другой был полупомешанным фантазером, помышлявшим только о том, чтобы дать ход якобы изобретенному им фотоаппарату, умещающемуся в галстучной булавке.
Даже к 1912 году положение почти не улучшилось. В подобных обстоятельствах Холмс, несмотря на возраст (ему было пятьдесят восемь), оказался ценным приобретением. Под фамилией Олтемонт[108] ему предстояло быть завербованным немецким мастером шпионажа, известным как фон Борк, при обстоятельствах, описанных в рассказе «Его прощальный поклон».
Фон Борк, скорее всего, псевдоним, выдуманный Уотсоном для немецого морского атташе в Лондоне Вильгельма Виденманна, который руководил шпионской сетью внутри и вокруг военно-морских баз Чатема, Росайта и Скапа-Флоу.
Большинство его агентов были известны английской контрразведке, но их не трогали, потому что, как написал Черчилль, к тому времени первый лорд адмиралтейства (военно-морской министр), «их место займут другие, нам, возможно, неизвестные. А так мы читаем их сообщения, которые затем регулярно переправляем их нанимателям в Берлине».
Работа контрразведчика, за которую взялся Холмс (почти несомненно, по настоянию Майкрофта), стоила ему двух лет жизни. «Сперва я отправился в Чикаго, – рассказывает он Уотсону, – прошел школу в тайном ирландском обществе в Буффало, причинил немало беспокойства констеблям в Скибберине и в конце концов обратил на себя внимание одного из самых мелких агентов фон Борка, и тот рекомендовал меня своему шефу как подходящего человека. Как видите, работа проделана сложная».
Расписывая ухищрения, при помощи которых он создал себе репутацию заклятого врага англичан, Холмс умалчивает о том, чем именно он занимался изо дня в день на протяжении этих двух лет. Помимо приведенного выше сухого подведения итогов, крайне трудно найти сведения о том, где он находился и что делал.
Упомянутое им ирландское тайное общество в Буффало вполне могло быть одним из тех, с которыми он столкнулся в 1880-х годах. «Беспокойство», причиненное констеблям в Скибберине, вне всяких сомнений, подразумевает антианглийские волнения, охватившие этот ирландский город в 1913 году.
Скибберин издавна был центром националистической активности (целый ряд первых лидеров фениев родились там), и уличные беспорядки, длившиеся несколько дней, оказались достаточно серьезными, чтобы со всего графства к Скибберину были стянуты полицейские подкрепления.
Тогдашние газеты, как ирландские, так и английские, содержат до странности мало сведений об этих мятежных вспышках. Лишь очень немногие вообще про них упомянули. «Дублин газетт» – одна из этих немногих – перечислила смутьянов, арестованных полицией. И среди них значится Джозеф Олтемонт.
Если цель Холмса состояла в том, чтобы создать себе curriculum vitae[109] рьяного противника англичан, то арест в Скибберине был крайне полезным к ней прибавлением. Знай Уотсон о деятельности Холмса в 1913 году, он, возможно, сильнее тревожился бы за здоровье своего друга. Не так-то просто участвовать в уличных беспорядках, если тебе пятьдесят девять и ты вдобавок страдаешь ревматизмом.
Когда в августе 1914-го над Европой разразилась гроза войны, Холмс превратился в отшельника, редко покидавшего свой коттедж в Саут-Даунсе, куда время от времени до него доносился грохот канонад Западного фронта. Агентурная работа между 1912 годом и началом войны изрядно вымотала его. Теперь, шестидесятилетний, он горько разочаровался в международной политической системе, которая не воспрепятствовала развязыванию мировой бойни.
В конце рассказа «Его прощальный поклон» он говорит: «Скоро поднимется такой восточный ветер, какой никогда еще не дул на Англию. Холодный, колючий ветер, Уотсон, и, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания. Но все же он будет ниспослан Богом, и когда буря утихнет, страна под солнечным небом станет чище, лучше, сильнее».
Эта блаженная уверенность, столь не похожая на обычный мрачный реализм Холмса, продержалась недолго. Уход Холмса от мира, который Уотсон датирует 1903 годом, следует отнести к годам Первой мировой войны. В мире, где миллионы молодых людей испытали ужасы окопов, Холмс обнаружил, что наблюдения за миниатюрными трагедиями и триумфами его пчел приносят хотя бы толику утешения.
Для других война обернулась еще более тяжким испытанием. Дойл потерял своего любимого сына Кингсли. Его брат Иннес, два зятя и два племянника тоже были убиты. В результате у Дойла возникла неутолимая потребность отыскать смысл в мире, который все более выглядел бессмысленным.
Спасение он обрел в спиритизме. К 1916 году Дойл был готов оповестить прессу о своем убеждении в существовании мира духов. Не прошло и нескольких месяцев, как он начал выступать с лекциями на эту тему и стал наиболее знаменитым из всех, кого спиритам удалось обратить в свою веру, бесценной гарантией интереса к ним публики и газет.
И Холмс, и Уотсон, каждый по-своему, испытывали смущение за старого коллегу, который все больше увязал в спиритизме.
Дойл давно интересовался незримым миром и с 1893 года был членом Общества психических исследований, основанного тремя давними знакомцами Холмса – Эдмундом Гарни, Генри Седжвиком и Фредериком Майерсом.
Тем не менее прежде он всегда сохранял здоровый скептицизм по отношению к наименее правдоподобным свидетельствам о существовании иных миров. Теперь же писатель словно бы впал в почти безграничное легковерие.
В 1917 году две девочки из йоркширской деревни Коттингли, шестнадцатилетняя Элси Райт и ее кузина десятилетняя Френсис Гриффитс, сфотографировали фей, которых, по их утверждению, видели в лесу за домом Элси. Их единственной целью было доказать своим сомневающимся родным, что они говорят правду о гостьях из страны фей.
История эта вряд ли вышла бы за пределы деревни, если бы мать Элси не укусила муха мистицизма, заставившего ее посещать собрания теософского общества в Брэдфорде по соседству. На одном из них она показала фотографии. Известие о них распространилось в спиритических кругах и в конце концов привлекло внимание Дойла.
В 1920 году, три года спустя после того, как были сделаны фотографии, он написал статью для «Стрэнд мэгэзин», приветствуя это прямое доказательство существования иного мира. По настоянию Дойла Элси с Френсис вновь отправились в лес и вернулись с тремя новыми снимками, которыми он проиллюстрировал свою следующую статью.
В 1922 году Дойл опубликовал книгу «Появление фей», в которой ручался своей репутацией за существование фей в Коттингли. Весьма прискорбное решение.
На взгляд современного человека, привыкшего к всевозможным манипуляциям с изображениями, более чем очевидно, что фотографии – подделка. «Феи» – вырезки из книги или журнала, которые девочки укрепляли в поле или в лесу вблизи своего дома. Затем они позировали рядом с «феями» и создавали фотографии, на которых Френсис смотрит, как «маленький народец» танцует перед ней, а Элси болтает с подружкой, обладающей парой радужных крылышек.
Как заметил тогда в передовице редактор одной газеты, «для истинного объяснения этих фотографий с феями требуется разбираться не в оккультных науках, но в детях». (В старости и Элси, и Френсис признались, что это была просто шалость, которая постепенно набирала обороты по мере того, как все больше и больше легковерных людей убеждали себя в подлинности фотографий.)
Уотсон, как и большинство друзей Холмса, тактично помалкивал о феях из Коттингли. Холмс, который почти не виделся с Дойлом после их совместной поездки в Бирмингем в 1906 году, не последовал примеру друга. Прибегнув к своему излюбленному способу общения, он отправил Дойлу следующую телеграмму: «Никаких фей в лесу Коттингли. Девчонки маленькие лгуньи».
Дойл оставил телеграмму без внимания. Кроме отголосков войны, другие мощные психологические факторы подливали масло в огонь его веры. Стоит вспомнить, что акварели Чарльза Олтемонта Дойла, выполненные в традициях викторианской «сказочной живописи», часто изображали людей в окружении существ из иного мира. На рисунке «Зачарованный пикник» дородный и несколько ошалелый джентльмен (возможно, это автопортрет) сидит на траве среди остатков пиршества, а эфирные созданьица играют его часовой цепочкой, парят в воздухе перед ним и лакомятся объедками. А теперь его сын, казалось, был готов поверить в подобные видения.
Глава пятнадцатая
Величайшая из тайн в заключение
К январю 1920 года, когда приближался его шестьдесят шестой день рождения, Холмс был донельзя измучен. Работа тайного агента, которую он выполнял перед войной, подорвала бы силы и куда более молодого человека.
В 1916 году его против воли втянули в расследование жизни и гомосексуальных пристрастий сэра Роджера Кейсмента, которого судили за государственную измену. По просьбе Майкрофта (старший брат настаивал, что это дело национальной важности) Холмс принял участие в расследовании, крайне ему неприятном и обернувшемся для него конфликтом с Дойлом, который был в числе взывавших о милосердии к Кейсменту. Это также содействовало его депрессии и упадку сил.
Приступы ревматизма, мучившие его до войны, возобновились с еще большей силой. Смерть Майкрофта во время страшной эпидемии инфлюэнцы, вспыхнувшей вслед за заключением перемирия в 1918 году, явилась тяжелейшим ударом. Хотя оба брата всю жизнь отличались сдержанностью, их связывали крепчайшие узы доверия и любви.
Тем не менее 1920 год стал свидетелем упорных усилий Холмса доказать непричастность Роберта Лайта к убийству Беллы Райт, чьи имена получили широкую известность в связи с так называемой тайной зеленого велосипеда.
Летом 1919 года Белла Райт, привлекательная молодая женщина двадцати одного года, работала на фабрике в Лестере, а жила у своих родителей в деревне Стоутон неподалеку от города. Во второй половине дня в субботу 6 июля Белла, заядлая велосипедистка, поехала отправить кое-какие письма и навестить дядю, жившего в соседней деревне.
Она приехала в коттедж дяди в начале вечера. За ней, видимо, кто-то следовал. Таинственный молодой человек на зеленом велосипеде фирмы БСА въехал за девушкой в деревню и бродил возле коттеджа ее дяди весь час, что она пробыла там.
Белла отнеслась к своему преследователю совершенно спокойно. Родным она сказала, что понятия не имеет, кто это, но что он ходил за ней по пятам еще днем и навязывался с разговорами, пока они ехали бок о бок по проселкам. Она как будто сочла его безобидным надоедой, и, когда примерно в половине девятого отправилась домой, его присутствие словно бы ее не расстроило и не испугало.
Час спустя труп Беллы был обнаружен на обочине проселка. Причиной смерти стал выстрел в голову.
С самого начала это сочли убийством. Как иначе могла Белла встретить свою смерть? Началась охота на молодого человека, который приставал к ней, но тот как будто сквозь землю провалился.
Холмс, больной и подавленный смертью Майкрофта, жил тогда в Суссексе и, вероятно, читал про это дело, но никаких причин присоединиться к полицейскому расследованию у него не было.
Проходили месяцы, и казалось маловероятным, что убийца будет найден. Затем в феврале 1929 года лодочник на канале вблизи Лестера выудил из воды зеленую велосипедную раму. Полиция сумела установить владельца велосипеда – школьного учителя и ветерана войны Рональда Лайта, который в предыдущее лето жил поблизости.
Задержанный полицией, Лайт мог только отрицать, что велосипед принадлежал ему, и твердил, что никогда не появлялся вблизи места убийства. Однако улики – серийный номер велосипеда и показания нескольких свидетелей, которые опознали в нем человека, следовавшего за Беллой, – почти наверное подводили его под петлю.
Вот тогда защитник Лайта сэр Эдвард Маршалл-Холл обратился за помощью к своему старому знакомому Шерлоку Холмсу. Преодолев апатию, в которой он пребывал большую часть предыдущих девяти месяцев, Холмс приехал в Лестершир и за несколько дней создал убедительную версию смерти Беллы.
Это было вовсе не убийство, но трагический несчастный случай. Роковую пулю послал не Рональд Лайт. Она вылетела из ружья какого-нибудь фермера, собравшегося пострелять ворон в поле возле проселка, по которому ехала Белла. Никто понятия не имел, что одна из пуль попала совсем не в птицу.
Вооруженный фактами, которыми Холмс успел снабдить его, Маршалл-Холл без труда сумел убедить присяжных в невиновности Лайта.
«Случай с зеленым велосипедом» явился еще одним триумфом дедуктивного метода Холмса, отточенного за сорок с лишним лет, но, как ни грустно, его последние годы были омрачены нездоровьем. Проекты, о которых он говорил много лет, оставались всего лишь несбыточными мечтами.
Холмс часто упоминал о намерении написать magnum opus – великий труд, который охватил бы опыт всей его жизни. «На склоне лет, – говорит он в рассказе „Убийство в Эбби-Грейндж“, – я собираюсь написать руководство, в котором сосредоточится все искусство раскрытия преступлений».
Нет никаких данных, что этот шедевр когда-либо увидел свет. В середине 1920-х даже держать ручку было ему почти не по силам, но Холмс, скрытный до самого конца, отказывался нанять секретаря.
Одним из немногих развлечений, какие 1920-е годы предоставляли Холмсу, пока его здоровье ухудшалось, а неспособность работать делалась все более очевидной, стало знакомство с кинофильмами, сюжеты которых – спасибо Дойлу – строились на основе ранних приключений сыщика.
До 1920 года нет никаких указаний, что Холмсу нравилось новорожденное искусство кино, хотя его первое соприкосновение с кинематографом восходит к предыстории этого жанра, к 1890 году, когда он расследовал исчезновение Луи Лепренса.
Разумеется, Холмса всегда чаровал театр – это пристрастие уходило корнями в его одинокое и трудное детство. Когда он был мальчиком, игрушечный театр, подаренный бабушкой по отцовской линии, служил ему лекарством от стрессов и напряжения, которые он испытывал в семье. В юности пребывание на профессиональной сцене, как бы скоро оно ни оборвалось, породило в нем симпатию к актерам и театру, которую он сохранил до конца жизни.
Часто цитируемое высказывание Уотсона о том, что «сцена лишилась прекрасного актера, когда он занялся расследованием преступлений», чистая правда. Не счесть эпизодов, приводимых Уотсоном, в которых наглядно проявляется страсть Холмса к перевоплощению и переодеваниям (даже когда в этом нет особой необходимости).
Читатель постоянно ощущает, что Холмс, если бы мог, превратил бы свою жизнь в сплошное театральное представление. В «Долине Страха» он говорит: «Уотсон уверяет, что в душе я артист… Есть во мне это, я люблю хорошо поставленные спектакли». И действительно, чтобы проникнуть в дом Ирэн Адлер, он ставит небольшую драму.
В каком-то глубоком, фундаментальном смысле натура Холмса была театральной. Он упивался моментами кульминационного напряжения и резкими контрастами, предлагаемыми театральной сценой. Неспособный испытывать эмоции так, как их переживает большинство людей, Холмс разыгрывал страсти, чтобы лучше в них разобраться.
Он играл любовь, и ненависть, и желание, чтобы познать то, что многим другим дается без таких ухищрений. В этом смысле Холмс больше принадлежит XXI веку, чем викторианской эпохе. Если предлога для драмы не подворачивалось, он его создавал. В «Камне Мазарини» он замечает рассерженному лорду Кантлмиру, которого только что разыграл: «Мой старый друг доктор Уотсон скажет вам, что я обожаю подобные мистификации. И кроме того, я питаю слабость к драматическим эффектам». Работа детектива предоставляла много подобных возможностей.
Наша профессия, мистер Мак, – откровенничает Холмс с инспектором Макдональдом в «Долине Страха», – станет убогой и жалкой, если ее не обставлять декорациями, на фоне которых становятся заметней наши успехи. Тупо предъявить обвинение, грубо схватить за руку – что примечательного в таком denouement?[110] Но быстрое разрешение загадки, хитрая ловушка, верное предвидение грядущих событий, триумфальное подтверждение смелых теорий – не в этом ли гордость и оправдание дела всей нашей жизни?
Холмс прекрасно сознавал, что его самолюбивое желание неожиданно, без вступлений и переходов, ошарашить публику конечными логическими выводами сродни трюкачеству. Как-то он сказал:
Видите ли, мой дорогой Уотсон… не так уж трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий простейшим образом вытекает из предыдущего. Если после этого удалить все средние звенья и сообщить слушателю только первое звено и последнее, они произведут ошеломляющее, хотя и ложное впечатление.
Фокуснику, наверное, опасно таким вот образом отрывать подоплеку своей магии, но Уотсон, например, словно бы никогда полностью не постиг смысл того, что поведал ему Холмс. До конца жизни он продолжал изумляться трюкам своего друга.
В последнее десятилетие своей жизни Холмс, практически лишенный возможности вести расследования, которых жаждала его театральная натура, все больше и больше увлекался фильмами, воспроизводившими его собственные былые дела.
Ко времени смерти он уже десятки раз появлялся на экранах. Первым упомянутым в титрах актером, сыгравшим Холмса на экране, был Морис Костелло в двенадцатиминутной ленте, вольном переложении «Знака четырех». За ней быстро последовали новые картины.
В 1914 году бирмингемский режиссер Г. Б. Сэмюэлсон адаптировал для экрана «Этюд в багровых тонах». На роль Холмса он выбрал – главным образом за предполагаемое физическое сходство с великим человеком – Джеймса Брейджингтона, по профессии бухгалтера. Фильм снимался в Англии, где заменой каньонам Скалистых гор служило ущелье близ деревни Чеддер, в графстве Сомерсет (самое большое в Соединенном Королевстве), а пляж возле Саутпорта создавал жалкую видимость солончаковых пустошей Юты.
Нарождающаяся голливудская киноиндустрия фильмы о Шерлоке Холмсе производила регулярно. В одном из них роль сыщика исполнил Френсис Форд, старший брат легендарного режиссера Джона Форда.
Европейские киноверсии рассказов Уотсона начали появляться еще в первом десятилетии XX века.
Виго Ларсен, датский актер, хладнокровно проигнорировал тот факт, что, будучи плотным коротышкой, куда больше походит на доктора Уотсона, чем на Шерлока Холмса, когда начал сниматься в серии фильмов, запущенной в 1908 году.
В 1918-м «Эбони филм» даже сняла «Черного Шерлока Холмса».
Для многих зрителей лучшими исполнителями роли Шерлока Холмса остаются Бэзил Рэтбоун и Джереми Бретт. Рэтбоун играл детектива в фильме «Собака Баскервилей» 1939 года, десять лет спустя после смерти Холмса, и нет никаких сведений, что они когда-либо встречались. Джереми Бретт, воплотивший образ Холмса в ряде телесериалов между 1984 и 1994 годами и почти полностью слившийся с ним, родился уже после смерти сыщика.
А вот актер, который знал Холмса и мог изучить его во плоти, который очень часто изображал Холмса на экране и питал к нему восхищение с примесью досады, оказался полностью забыт. Более того, фильмы, в которых он играл Холмса, в большинстве своем не сохранились.
До кинодебюта в 1911 году Эйлле Норвуд долго подвизался на театральной сцене. Он был всего на семь лет моложе Холмса (родился 11 октября 1861 года). Настоящее имя его – Энтони Эдвард Бретт (с Джереми они однофамильцы).
В 1921 году британская кинокомпания «Столл» задумала серию коротких фильмов, основанных на рассказах Уотсона, и режиссер Морис Элви[111] рекомендовал Норвуда.
Переговоры со «Столл» Уотсон и Холмс вели через своего агента Конан Дойла. Всякий раз, когда речь шла о приобретении прав на использование его фамилии и образа, Холмс обычно предпочитал держаться в тени, но теперь Элви и Дойл уговорили его встретиться с Норвудом за завтраком «У Симпсона» на Стрэнде.
Завтрак удался. Норвуд был счастлив познакомиться с легендарным, пусть и удалившимся от дел сыщиком. В свою очередь, Холмс, чьи мысли обратились к его театральной молодости, с радостью обнаружил, что актер знал многих его партнеров по сцене и даже играл с ними в разных спектаклях. Его быстро убедили, что Норвуд идеально подходит для создания его образа в кино, и Холмс решил, что роль следует отдать именно ему.
Когда Джеффри Бернард, глава производственного отдела «Столл», усомнился в способности Норвуда изменить свою внешность, как того требовали сценарии некоторых фильмов, актер и детектив злокозненно стакнулись провести его.
На следующий день в студии появился кокни, водитель такси, и вступил в яростную, пересыпаемую ругательствами перепалку с Бернардом. Только когда скандалиста выставили со студии, выяснилось, что это переодетый и загримированный Норвуд. Почти весь предшествующий вечер они с Холмсом посвятили подготовке розыгрыша.
Именно Холмс и Норвуд придумали повторить мистификацию сродни той, которая вовлекла Джейбеза Уилсона в странное приключение с «Союзом рыжих» тридцать лет назад.
Они убедили «Столл» поместить в «Таймс» объявление, гласившее, что «выгодная однодневная работа предлагается двадцати рыжим кудрявым мужчинам, здоровым духом и телом. Предпочтение будет отдано тем, кто служил в вооруженных силах Его Величества и имеет некоторый сценический опыт».
К их восторгу, кандидатов в студию явилось почти вдвое больше, чем требовалось. Рыжекудрых здоровяков потом наняли статистами для фильма.
Норвуд оставался поклонником Холмса до конца своих дней. «Ничто не выводит его из равновесия, – написал он как-то, – но это человек, который, не подавая виду, интуитивно улавливает главное и обдумывает в полном бездействии, пока не наступит минута применить свой удивительный детективный талант».
Тем не менее стремительно возникшая дружба длилась недолго. Хотя Холмс и продолжал притворяться, будто ни один из фильмов его не интересует, он посмотрел по меньшей мере несколько из них и пришел в страшное раздражение из-за того, как «Столл», по его мнению, нарочно искажала факты.
Последовал залп коротких и сердитых открыток Конан Дойлу, Элви, Бернарду и особенно Норвуду. Сыщик негодовал на то, как «Столл» осовременила дела и жонглировала деталями, чтобы уложить сюжет в двадцатиминутный формат.
Конан Дойл, уже привыкший к придиркам Холмса, отделывался успокоительными, ни к чему не обязывающими банальностями. Бернард и Элви, по горло занятые съемками фильмов, ограничивались уведомлениями о получении открыток. Норвуд отвечал гораздо подробнее, защищая фильмы и свою игру в них, но раздражение, вызванное нежеланием Холмса считаться с трудностями, которые приходится преодолевать кинематографистам, все же прорывалось.
Взаимное расположение, возникшее за завтраком «У Симпсона», было утрачено, хотя Элви мимоходом упоминает приезд Холмса на съемки «Собаки Баскервилей» под конец 1921 года. Сохранился рекламный кадр из фильма, возможно запечатлевший Холмса, беседующего с Норвудом. Если камера действительно «поймала» Холмса, это единственная известная фотография детектива.
Опять-таки в 1921 году «Столл» устроила гала-банкет в Балморалском бальном зале ресторана «Трокадеро» по случаю выпуска в прокат фильмов о Холмсе. Среди произносивших тосты был Дойл, который по ходу своего спича бросил загадочную реплику «в сторону», воспроизведенную одной из газет. Она заставляет думать, что на банкете, возможно, присутствовал и сам Холмс, на сей раз преодолевший свое отвращение к подобного рода празднованиям.
«Случай с зеленым велосипедом» был последним криминальным расследованием, где Шерлок Холмс играл центральную роль и где его «особые дарования» позволили открыть истину, словно бы окутанную непроницаемой тайной.
Тем не менее он продолжал знакомиться с сенсационными делами, о которых кричали заголовки газет в 1920-х годах. Вопреки плохому здоровью (ревматизм прогрессировал и уже давал о себе знать рак, который его убьет), он сохранял интерес к преступлениям и преступникам и время от времени переписывался с друзьями вроде сэра Эдварда Кларка и сэра Эдварда Маршалла-Холла.
Иногда его вмешательство сообщало новое направление уже ведущимся расследованиям. Так, в 1922 году он телеграфировал Маршаллу-Холлу свое заключение по поводу дела Эдит Томпсон, которую считали причастной к убийству ее мужа любовником: «Томпсон – жертва грязных измышлений публики». Его мнение не помогло бедной Эдит Томпсон. Ее повесили 9 января 1923 года. Это был последний известный вывод Холмса касательно преступлений, раскрытию которых он посвятил жизнь.
Пролить свет на последние шесть лет жизни Холмса биографу еще труднее, чем проследить его блуждания в период трехлетнего отсутствия. Он оставляет в подтверждаемой документами хронике еще меньше следов, чем в начале 1890-х.
Дойл как будто потерял всякую связь с детективом после банкета в «Трокадеро». К этому времени писатель настолько отдался делу спиритизма, что земные контакты утратили для него всякое значение.
Уотсон продолжал публиковать отчеты о былых приключениях в «Стрэнд мэгэзин», и мы знаем, что он посетил коттедж в Саут-Даунсе по крайней мере три раза в 1925 и 1926 годах, чтобы обсудить их публикацию со старым другом.
Если не обнаружатся новые сведения, связывающие Холмса с расследованием преступлений в 1920-е годы (а нельзя исключать, что такие сведения найдутся), мы будем вынуждены заключить, что уход от дел, якобы состоявшийся за двадцать лет до того, теперь стал реальностью.
Здоровье сыщика ухудшилось настолько, что он редко бывал способен покинуть Суссекс и посетить Лондон, сцену почти всех величайших триумфов его карьеры. Быть может, светлые дни, когда отступали недуги, отдавались сочинению давно обещанного magnum opus, охватывающего «все искусство раскрытия преступлений».
Если так, то остается шанс, что эта рукопись – один из величайших потерянных шедевров криминалистики – еще обнаружится на чердаке или в подвале у кого-то, кто понятия не имеет о хранящемся у него (или нее) сокровище.
Двадцать третьего июня 1929 года Шерлок Холмс скончался в своем доме в Саут-Даунсе. Ему было семьдесят пять лет, и полвека он оставался единственным в мире сыщиком-консультантом.
В последние годы Холмса лечил практиковавший в Истборне доктор Джеймс Визи Хакстейбл, который ежедневно навещал знаменитого пациента. В 1960-х годах доктора Хакстейбла, тогда уже восьмидесятилетнего старца, разыскал в Гастингсе, где он жил на покое, журналист Би-би-си, собиравший материалы для программы «Монитор», посвященной Холмсу. Он записал воспоминания врача о последних днях детектива.
В сцене на смертном одре, которую сыщик однажды разыграл для Уотсона и которую тот описал в рассказе «Шерлок Холмс при смерти», он словно бы заговаривается в бреду, но бормочет не о зеленых полях, как Фальстаф, а о дне океана, который грозят заполнить плодовитые устрицы, и о том, что чувствует батарея, когда изливает электричество в непроводник.
В реальности Холмс не бредил на смертном одре. Видимо, он сохранял остроту ума до последнего вздоха. Хакстейбл сообщил журналисту, что, несмотря на сильнейшие боли, сознание больного оставалось ясным.
В последний день Хакстейбл сделал Холмсу укол морфия и теперь вспомнил ироничную улыбку умирающего, а также слова, которые тогда не понял. «Он прошептал: „Мой друг Уотсон этого не одобрил бы“. Его голос в последние дни был очень слабым, но эти слова я хорошо расслышал. А затем он сказал что-то вроде „величайшая из тайн в заключение“. Я отошел, чтобы приготовить все для новой инъекции, а когда вернулся в спальню, он уже умер».
Теперь со смерти величайшего детектива прошло почти восемьдесят лет, и с каждым годом число людей, помнивших реального человека, а не легенду, которой он стал, становится все меньше. Собственно говоря, Фред Арчер может быть единственным.
В 1929 году Арчер, тогда четырнадцатилетний мальчик, живший в деревушке Фристон, каждую неделю доставлял продукты в маленький коттедж среди Саут-Даунса. Теперь, приближаясь к своему девяностолетию, Фред все еще ясно помнит странного внушительного старика, которого видел иногда. «Честно сказать, я его боялся. Я понятия не имел, кто он такой, не знал, что он знаменитость, ну и прочее. Для меня он был просто стариком, который жил в коттедже на холме. Он был жутко худым и поджарым и внушал мне страх. Я никогда не знал, что он скажет, и половину того, что он говорил, я не понимал».
На момент смерти Холмса Уотсон не виделся с ним уже три года. Единственно известным следом их общения за этот период остается типично сухая телеграмма от детектива на покое: «Пожалуйста, объясните шоскомбский вздор», в которой он выразил свое мнение о последнем из рассказов Уотсона, увидевших свет, – «Происшествии в усадьбе Олд Шоскомб», опубликованном в «Стрэнд мэгэзин» в апреле 1927 года.
Сам Уотсон не оставил никаких сведений о том, какие мысли или чувства вызвала в нем смерть Холмса. Тем не менее, вопреки некоторой холодности, возникшей между ними после Первой мировой войны, он, без сомнения, переживал примерно то же, что и почти сорок лет до этого, когда поверил, будто Холмс нашел свою смерть в Рейхенбахском водопаде. Тогда Уотсон назвал Холмса «самым благородным и самым мудрым из всех известных мне людей».
Ко времени своей смерти Холмс был – вот парадокс – и самым забытым, и одним из самым известных людей в мире. Великие дни его расцвета – дни, когда он раскрывал тайны для коронованных особ Европы, странствовал по миру как непризнанный посол Британской империи и вел борьбу с величайшими преступниками века, – остались далеко позади.
Реального Шерлока Холмса забыли, если не считать тех немногих, с кем этот замечательный человек соприкасался непосредственно. Никаких паломничеств пылких поклонников к дверям суссекского коттеджа. (Легко вообразить себе сухое раздражение, с каким столкнулся бы паломник, дерзнувший постучать в эту дверь.)
Однако Шерлок Холмс, существовавший в созданном Уотсоном параллельном мире, стремительно превращался в легенду. Несомненно, в 1920-х годах множество людей читало о его подвигах в полной уверенности, что Холмс – вымышленный персонаж, и никому в голову не пришло бы, что рассказы Уотсона вдохновлены человеком из плоти и крови, теперь борющимся с раком в уединении Саут-Даунса.
После смерти слава Холмса только продолжала расти. Нынче он стал культовой фигурой. Его образ в крылатке и дирстокере, созданный Сидни Пейджетом (пусть даже он списан скорее с брата художника, чем с оригинала), узнают буквально во всех странах мира. Без сомнения, у самого Холмса подобное вызвало бы сардоническую улыбку. Но как и при жизни Холмса, культовая фигура заслоняет собой реального человека. Все труднее подходить объективно к его жизни и достижениям. Тот Шерлок Холмс, которого сотворил Уотсон, восторжествовал над реальным Шерлоком Холмсом.
И все же пока еще можно проследить карьеру Холмса под наслоениями легенд и выдумок, накопившимися за годы после того, как Уотсон в «Этюде в багровых тонах» впервые возвестил о появлении сыщика, не похожего ни на каких других.
Как ни странно, Уотсон и преувеличивает всезнание Холмса, и принижает его достижения. Холмс не был всеведущим. Как вы имели случай убедиться, на протяжении своей карьеры он допускал некоторые серьезные ошибки, особенно в том, что касалось Мориарти и ирландского вопроса, но влияние Холмса на британскую историю между 1880-ми годами и Первой мировой войной было значительнее, чем признавал его Босуэлл. По разным причинам Уотсон не упомянул ни об участии сыщика в предотвращении покушения на королеву Викторию, ни о его ключевой роли в становлении секретных служб, ни о его причастности к некоторым громким криминальным делам, ни о его миссии секретного посланника в Тибет, Персию и Судан.
По любым меркам, это были триумфы экстраординарного человека. Шерлок Холмс одновременно был и типичным продуктом своей эпохи, класса и национальности, и бунтарем, вступившим в противоречие с ценностями и устоями общества, в котором жил. Он был нонконформистом, трудившимся ради сохранения статус-кво; рационалистом, слишком хорошо отдававшим себе отчет в опасной силе иррациональности; поборником порядка и власти закона, испытывавшим странное влечение к беспорядку и беззаконию; мизантропом, верившим в служение людям, своим собратьям. В любых обличьях, которые он принимал, Шерлок Холмс продолжает завораживать. Подробная история его многогранной карьеры, скрываемой при его жизни и после его смерти, только добавляет притягательности его загадочной личности.