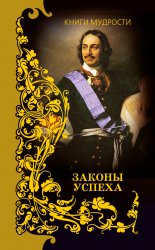Еще вчера. Часть первая. Я – инженер Мельниченко Николай

Короткие записки из блокнота – иногда целая драма. Особенно запись от 30 октября. О ней я расскажу чуть позже. Дальше, без упоминания о тягомотине оргмероприятий, приведу только некоторые записи о людях и основных событиях
05. 11. 51. 2 ноября проведен вечер худ. самодеятельности сварочного факультета и литературного факультета пединститута.
Член бюро И. Ляховая плохо посещает лекции, слишком увлекаясь общественной работой. Указать в личной беседе.
В ЗВ-13 проведено собрание. Вопрос – об отношении к девушкам, особенно к Дробкис. Ее мать хотела писать в ЦК ВЛКСМ. Факты в основном не подтвердились. Комсомольцы требовали вызвать на собрание мать Дробкис: она сама плохо поставила себя в группе. Все же в группе к ней был не чуткий, не товарищеский подход. Поговорить с Дробкис об отношении к ней группы, дать ей общественную работу. Выяснить роль Скульского.
Аналогичных записей – целый блокнот. Необходимы некоторые пояснения. Начнем с конца. Девочка Дробкис – нервное, избалованное мамой дитя, впрочем, – не лишенное чисто женского обаяния. На третьем курсе технического вуза она впервые узнала, что такое болт. Влюбленная в Юру Скульского, она умудрилась сделать это чувство достоянием широкой общественности. Юра, – наш кудрявый красавец и певун, не совсем корректно «закрыл» ее чувства. Учеба вся была завалена. Кроме того, своими амбициями и фантазиями она так восстановила против себя всю группу, что речь уже шла об ее суициде. Думаю, что наше, достаточно тактичное, вмешательство было нужным и своевременным. Курсовой по деталям машин она уже делала в общежитии в нашей комнате под присмотром Коли Леина и моим. Там-то мы и узнали, что она не ведает, что такое болт…
Инна Ляховая, девушка с задумчивыми серыми глазами из младшего курса, увы, сохла по мне. На всех бюро она садилась в первом ряду и не спускала с меня глаз. Готова была взвалить на себя любую нагрузку, лишь бы общаться с «предметом». Сначала было непонятно, некоторое время – лестно, потом – надоело. Со всей «комсомольской принципиальностью» я вынужден был сказать ей, что ничего у нас не будет. Дурочку было немного жалко. К счастью, она горевала, кажется, недолго. Забегая вперед, скажу, что аналогичным образом мне пришлось ответить на признание Гали Куриленко, лучшей волейболистки института, высокой и стройной, а также одной из наших девушек-шефов. Поля Трахт, с которой мы дружили в институте, была умная девушка: сама все поняла, да и ее жених Озик не спускал с нее глаз. Судьба явно вела меня к другим берегам…
Самодеятельность была отдушиной многих и предметом головной боли для комсомольского руководства. В институте были классные хор и танцевальный коллектив, которыми руководили профессионалы. На факультетах все было попроще, но ближе. Между факультетами существовала в самодеятельности острая конкуренция. Наш сварочный был гораздо меньше гигантов химического или электротехнического, но мы не собирались сдаваться. Как и в «наскальной живописи» – стенной печати. Возле наших «дацзы бао» всегда стояла толпа студентов и веселилась. Этой «прессой» заведовал Сережа Кучук-Яценко, будущий член-корр. Академии Наук Украины, симпатичный парень с черной шапкой непокорных кудрей. Рисовал совершенно убойные картинки Миша Терех, – оба со старшего курса.
В самодеятельности главной составляющей был хор, очевидно из-за отсутствия ярких вокальных дарований. В хоре можно было каждому гудеть понемножку, но умелый дирижер из этого жужжания и гудения мог выстроить нечто удобоваримое, точнее – «удобослышимое».
Хором сначала руководил воспитанник военно-музыкальной спецшколы Миша Кандин из моей группы. Миша – невысокий бледнолицый блондинчик с гладко зачесанными назад длинными волосами. Миша нервно, можно сказать – болезненно, реагировал на любые отступления свободных тружеников вокала от воинских уставов. Он мог руководить хором, только если хористы стояли в четком строю, пожирали глазами начальство (его) и неукоснительно, молча и с рвением выполняли его предначертания. (Молчать нужно было только во время прослушивания ЦУ и ЕБЦУ; затем, конечно, вопить в указанном руководством направлении). В нашей вольнице такая схема работала со страшным скрипом. Репетиции хора состояли из гневных призывов маэстро к порядку и унылых причитаний о невозможности работы с таким человеческим материалом. Другого, увы, – не было. Бедный Миша совсем извелся. Окончательно его выбил из колеи пустячный случай. В тишине лекции, под дружный скрип перьев, задумчивый голос с задних рядов (с неба?) произнес:
– А Кандин сегодня опять пьяный.
Кандин взвился:
– Кто сказал??? Когда меня видели пьяным???
Заданные столь экспрессивно вопросы почему-то повергли аудиторию в безудержное веселье, а Мишу – в исступление. Лекция прервалась, Кандин начал доказывать всем, что он никогда не напивался, и, если и пил, то совсем немного. Тут уже народ совсем неприлично начал валиться от смеха…
С тех пор и повелось: в самый неподходящий момент раздавалось: «А Кандин опять пьян!». Кандин взвивался, и все начиналось сначала. Измученный маэстро обратился с жалобами к своему другу – добродушному и покладистому Боре Вайнштейну. Тот сочувственно поддакивал жалобщику, а в заключение назидательно произнес:
– Вот что бывает, когда напьешься всего-то один раз!
Миша чуть не убил своего друга…
Командовать нашим хором был приглашен жених Поли Трахт, лощеный и вежливый Озик Мисонжник, учащийся какого-то музыкального училища. Он приходил со своей скрипкой, спокойно пережидал шум вокальной тусовки и начинал работать. Запели мы лучше, в хоровом гаме появились партии первых и вторых голосов, дружный рев иногда переходил в задушевное мурлыканье, когда такового требовал текст. Пели мы в основном военные песни – «Вот солдаты идут», «Соловьи», «Дороги», «Темная ночь» и другие, – широко известные и любимые. (Когда эти песни небрежным голосом оторви-бабы заголосила Гурченко, я просто разлюбил ее. Зачем повреждать, искажать то, что знает и любит весь народ?)
Хор наш был на высоте, но нам для разнообразия не хватало сольных номеров. Кто-то сказал, что поет Петрунькина Галя, маленькая блондиночка из младшего курса. Она пропела куплет «Гуцулки Ксени». Голосок и «видимость» были так себе, но я настоял, чтобы Петрунькину включили в программу. Соло, почти народная, украинская, – вот три «за», которыми я оперировал. В спешке согласились, что едва не привело к катастрофе.
На вечере Петрунькину выпустили в первой части. Дитё вышло на сцену и начало тихо-тихо «чирикать». Первый куплет народ слушал, ожидая всплеска эмоций у певицы после невзрачного начала. Всплеска не последовало: в таком же ключе были произнесены второй куплет и припев. Народ приуныл, ожидая, когда это кончится. Кончилось не скоро: Петрунькина знала и без устали чирикала в том же стиле тридцать один (!) куплет этой песни, со всеми повторами припевов и подробностями. На четвертом куплете народ начал стучать ногами. На седьмом – начал в массовом порядке покидать зал, особенно ребята из других факультетов, отпуская шуточки о самодеятельности сварочного факультета. На шипение из-за кулис «Кончай! Заткнись!» и на топот зала Петрунькина не реагировала: она «поймала кайф», это был ее звездный час. Закатив глаза, она «песню, что задумала, допела до конца».
Пришлось срочно объявлять перерыв, а после него выпускать на сцену Севу Троицкого, чтобы вернуть в зал зрителей…
(Надо заметить, что тогда мы не были закалены современной попсой, когда даже не куплеты, имеющие смысл и логику, а просто несколько слов – часто дурацких, – повторяются десятки раз подряд. Слушая такое «эссскусство», уже с умилением вспоминаю простодушную Петрунькину, а к исполнителям попсы обращаюсь с призывом: «Ежели ты, неутомимый наш, знаешь еще хотя бы пару слов, кроме этих, – то произнеси их!». Увы, не внемлют…)
С девушками пединститута у нас завязалась дружба через общих знакомых киевлян. Встретилось комсомольское руководство факультетов и договорилось о совместных мероприятиях. У них уже тогда было очень мало мужиков, у нас – девушек, поэтому идея с энтузиазмом была подхвачена широкими слоями народа. На наш вечер пришло очень немного их девушек, никому они не были знакомы, поэтому намеченная «стыковка» не состоялась. Вместе с комсоргом Марией, симпатичной и юморной девушкой, мы придумали другой план. Собрав деньги, мы закупили около сотни билетов в театр имени Ивана Франко. Места были на галерке, самые дешевые. Билеты поделили так, чтобы справа от нашего парня сидела их дева. Все шло по плану, мы с Марией уже радовались удачному замыслу. Потух свет, начался спектакль. Мы считали, что темнота – знакомству не помеха.
Внезапно в одном ряду начал разгораться громкий скандал, затем появились две дежурные служительницы Мельпомены, которые вывели под белы ручки нашего Ивана Мусиенко. Я ушел следом разбираться, и мой спектакль с этого момента слегка изменил название и профиль. Долгие дебаты внесли некоторую ясность в запутанный вопрос. Оказалось, что справа от нашего Ивана по каким-то причинам села совершенно посторонняя девушка, да еще ожидавшая своего парня. Иван, жаждая плановой встречи и руководствуясь общим стратегическим замыслом, полез знакомиться, тем более, что дева ему понравилась. Дева ему ответила категорическим «фе». Иван возмутился: раз комсомол приказал, ты просто обязана познакомиться со мной. Не понявшая ничего дева пыталась покинуть «зону знакомства», но великан Мусиенко слегка усадил ее опять, после чего дева начала вопить. Две служительницы еле вытащили из рядов театралов нашего Ивана. Понятно, какой именно спектакль смотрела в это время вся галерка.
Мне пришлось вертеться ужом, ежом и лисой одновременно, чтобы: а) угомонить Ивана; б) успокоить возмущенную деву; в) уговорить служительниц не нажимать кнопку вызова милиции. Мой спектакль кончился благополучно, а тот, который шел в зале, – неизвестно.
В дальнейшем наша дружба с педагогическими девушками плавно «сошла на нет», как ни старалась комсомольская верхушка соединить разрывающиеся нити массовых «дружб». Позже я понял истинную причину. Наши ровесники девушки уже были «на выданье». Впереди их ждали сельские школы с очень ограниченными мужскими ресурсами. Поэтому в наших ребятах они видели прежде всего женихов и активно демонстрировали это. А свободолюбивые «наши» еще не были готовы к такому повороту событий: впереди была большая жизнь и нужная для нее свобода. Конечно, я имею в виду общие тенденции. Несколько симпатичных девушек «прижились» у нас, но их встречи с нашими ребятами были уже сугубо индивидуальными, без привлечения общественности. Возможно, девушкам впоследствии и удалось стреножить наших диких мустангов…
Мы – орудие в чьих-то руках
Философ легко торжествует над будущею и минувшею скорбями, но он же легко побеждается настоящею
(К. П. № 112)
Я не знаю, как писать этот раздел даже сегодня. Считать себя «борцом за идеи партии», – совесть не позволяет. Быть просто «слепым исполнителем», – мне вообще не дано природой. Мой командир А. М. Шапиро по моему поводу шутил: «Если Мельниченко утонет, – ищите его вверх по течению». (Кстати, позже я узнал из афоризма Ежи Леца, что это не так уж и плохо: «чтобы добраться до источника, надо плыть против течения»).
Придется просто описать голые факты. Но прежде, чем их «раздеть», хочу рассказать о двух предыдущих историях, которые весьма способствовали дальнейшему безобразию.
В комнате Поли Трахт, с которой мы дружили с первого до последнего курса, проживала некая Белла Сандлер; училась она, кажется, на химфаке. Девочка была так себе: неопределенные кудряшки над круглым, каким-то пятнистым лицом, и круглые же, слегка навыкате глаза. Одежда ее, даже при наших, очень невзыскательных «прикидах», навевала мысли о еще более нищенском существовании. По рассказам Полины, у нее в каком-то местечке (так на Украине называют небольшой еврейский городок) проживала одна мать и еще несколько детей в страшной бедности. Белле сострадали и помогали все: профком выделял бесплатные путевки в дома отдыха, комитет комсомола и дирекция института оказывали периодически материальную помощь, освобождали от платы за общежитие. К праздникам и со стипендии, когда себя чувствуешь почти Крезом, мы всегда скидывались по трешке-пятерке для бедной Беллы, чтобы она хоть в праздники не была голодной. Наши сердца еще не зачерствели и были открыты для сострадания.
Теперь – история о моих первых в жизни наручных часах, средства на которые я заработал тоже первой сваркой на заводе. Напомню, эти часы подарили уставшему от службы сержанту из войск, нашему командиру, который, вместо атак и рытья окопов в раскаленном песке, уводил нашу группу в прохладную тень рощи. На деньги, собранные ребятами взамен часов, я не мог купить другие: их тогда не было в Киеве. Деньги, 420 рублей, чтобы не растранжирить, я положил на аккредитив, где они мирно почивали несколько месяцев. Мне очень недоставало прибора времени особенно теперь, когда я был связан с множеством людей и встреч, помимо лекций и учебы. Все товарищи знали о моей беде и помогали искать. И вот поступил долгожданный сигнал: в магазин на Воздухофлотской привезли партию часов! Я немедля ринулся в город. Ближайшая попутная сберкасса находилась на Керосинной, куда я и прискакал на трамвае. В сберкассе была небольшая очередь, и я внедрился в ее хвост «крайним». За столиком что-то писала Белла Сандлер, мне показалось, – испуганная моим появлением. Уже подошла моя очередь, когда кассир сберкассы подала громкий призыв: «Девушка, ну где же вы? Все ваши бумаги давно готовы!». Призыв относился к Сандлер, и она вынуждена была подойти к окну кассира прямо передо мной. И тут я понял причину ее испуга и долгого сидения за столом: она тянула время, чтобы я получил свои «часовые» и успел «отвалить». Получилось все «с точностью до наоборот»: я оказался так близко, что мог проследить операцию от начала до конца. В те жестокие времена грабителей было мало, денег – тоже, и вся деятельность сберкасс происходила на виду у народа, отделяясь от последнего только метровым барьером с узкой полоской стекла.
Зрение у меня даже теперь неплохое, тогда же я мог читать, кажется, любой текст на любом расстоянии и в любом положении. То, что я увидел и прочел, лишило меня дара речи. Бедная-бедная, просто нищая, – Белла Сандлер, которой мы, стипендионные Крезы, скидывались на черный хлеб, вносила 10 000 (десять тысяч) рублей на сберкнижку, на которой уже было более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
Откуда такие деньжищи??? Тогда в магазинах стояли в продаже автомобили «Победа» по 9 тысяч рублей. Это для большинства обычного народа были безумные деньги, и машины пылились: не было спроса, точнее – денег, еще точнее – легальных денег. Заработать столько, чтобы положить на сберкнижку около 40 тысяч рублей, было невозможно даже супернародным артистам, тем более, – таким «прелестницам», как наша ободранная Белла. Их можно было только украсть, добыть аферой, причем способами, не оставляющими никаких следов, иначе тобой немедленно занялись бы «компетентные органы». И сама по себе Белла, только маленькая часть, пылинка, чего-то очень большого. И если «пылинкам» достаются такие куски, то сколько же имеют заправилы этой, несомненно, – подпольной, организации?
Это был момент истины. Меня, и не только меня, нагло и цинично обманывали. Это я, истинный нищий, заработавший тяжким трудом свои гроши, подавал милостыню миллионеру, одетому в рубище нищего. Мне плюнули в душу, показав, кто истинный хозяин в этой жизни.
Часы себе я купил. Теперь они были просто очень нужным, хотя и не самым дешевым, наручным прибором времени. Вторые в моей жизни часы почему-то перестали быть любимым и тайным предметом моей гордости.
А теперь уже можно рассказать о малозаметной записи в моем деловом блокноте секретаря КСМ бюро факультета: 30. 10. 51. Бюро сорвалось из-за отсутствия аудитории. Поставить вопрос перед комитетом. Бюро собрать в четверг 01. 11. 51. Вопросы – те же.
Признаюсь, – это я умышленно сорвал бюро, которое собирал и которым руководил.
Накануне меня вызвали в комитет комсомола института. Институтский КСМ секретарь Шлюко учился на металлургическом факультете и был гораздо старше нас. Шлюко воевал, был офицером, несомненно, – членом ВКП(б): на такие важные должности просто комсомольцев не назначали. Должность эта выборная, конечно, но я не оговорился: никакие выборы «на самотек» тогда не «пускались». Думаю, что сейчас этот «самотек» тоже не допускают, изменились только методы «регулирования свободного волеизъявления». Вот о влиянии на свободу в комсомольских выборах и пойдет дальше речь.
Шлюко принял меня в своем обширном кабинете с глазу на глаз, усадил меня напротив, и вперил в меня строгий взгляд. Я сидел спокойно, ожидая вопросов или ЦУ.
– На твоем факультете должны начаться выборы комсоргов групп и курсовых комсомольских бюро, – начал Шлюко, не мигая, и глядя мне прямо в глаза. (В комсомольской среде «партайгеноссе» по неписаным правилам обращались друг к другу на «ты»).
– Да, на следующей неделе. В курсовые бюро еще в прошлом году, с согласия комитета института, мы должны избрать только по три человека: на курсе всего по две группы.
– Хорошо, раздувать штаты не надо, – согласился Шлюко. Ты на бюро уже утвердил рекомендуемые кандидатуры комсоргов групп и курсов?
– Еще нет. Скоро соберу бюро для этого.
– Так вот. Ты лично должен обеспечить, чтобы комсоргами групп и курсов были избраны только лица основной национальности, не афишируя это, – Шлюко чеканил каждое слово, пристально и сурово глядя мне прямо в глаза. – Понятно?
Мне было непонятно. Свое непонимание я изобразил вопросительным взглядом.
– Ну что здесь непонятного? – уже смягченно, слегка удивился секретарь. – Мы где живем? На Украине. Значит, люди основной национальности – кто? Украинцы и русские. Теперь понятно?
Теперь стало почти понятно, хотя определения того, кто не должен был стать комсоргом групп, не прозвучало. Мы – дети своего времени, читаем газеты и слушаем радио о тайных и подлых делах врачей-вредителей, знаем также их национальность. Кроме того, в институте просочились неведомыми путями слухи о разделении радиофака на два, почти одинаковых. Факультет потребовалось «засекретить», в связи с тем, что студентам надо было изучать новейшие секретные устройства и технологии, касающиеся напрямую безопасности страны. Это не смогли сделать, так как около 60 % студентов оказались лицами «не основной» национальности, имеющей уйму родственников и других связей «за бугром». Лично мы несколько дней назад были потрясены открытием истинного лица одной беднейшей студентки. Да, теперь стало понятно. Я откланялся, слегка озабоченный. Увы: заботы мои были не о том, зачем это надо делать, а только о том, как это сделать.
Рекомендуемые кандидатуры комсоргов групп и курсов должны быть обсуждены и утверждены на бюро факультета. А в нашем бюро из семи человек людей «основной национальности» было только двое: Миша Дрыга и я сам. Два человека, лучший друг Коля Леин и моя воздыхательница Инна Ляховая, – «гибриды», остальные, в том числе мой товарищ Полина Трахт, – «не рекомендуемой» национальности. Поэтому полностью открыть нашу задачу в руководимом мной «органе» я смог только Мише Дрыге. Мы вдвоем тщательно перебрали списки всех групп и выбрали людей, которых мы вдвоем будем рекомендовать на бюро, чтобы оно, бюро, рекомендовало их к избранию в группах. Таковы законы «свободных» комсомольских выборов. Этот выбор кандидатов для нас был весьма трудным: люди «основных национальностей», к сожалению, редко блистали отличной учебой или общественной активностью, тем более – их сочетанием.
Бюро 30 октября 1951 года я назначил по необходимости на поздний вечер: часть курсов занималась во вторую смену. Собрались все. Пустых аудиторий в это время было достаточно. Вопрос один: о выборах комсоргов в группах. Начинаем с первого курса. Комсоргами там мы рекомендуем, скажем, Иванова и Петренко. Первый курс никто не знает, рассчитал я, и с предложенными кандидатурами бюро согласится. Однако выступает член бюро Лазарь Адамский, который закреплен от бюро за первым курсом. Он уже детально познакомился с первокурсниками и аргументировано возражает. Иванов уже успел «сачкануть» семинар по ОМЛ, заваливает черчение. Петренко туго соображает, неизвестно, как он вообще прошел сито вступительных экзаменов. Лазарь предлагает рекомендовать к избранию Либермана, медалиста киевской школы, которого он давно знает также как очень активного общественника и отличного парня. Комсоргом другой группы Адамский предлагает Вайнштока, характеристики которого почти идентичны либермановским. Я возражаю. Во-первых, по моим наблюдениям, школьные медалисты чахнут в институте (сам Лазарь, круглый отличник там и тут, легко опровергает мой тезис); во-вторых, – такие люди, как Иванов и Петренко, быстро растут и выпрямляются под грузом принятой на себя ответственности. Разгорается всеобщий теоретический спор об ответственности, учебе, общественной активности и прочем. Время идет. Лазарь спохватывается:
– Ну, что мы спорим? Давайте проголосуем!
Голосуем. За Иванова голосуют три человека: Дрыга, я и Ляховая, которая зачарованно смотрит мне в рот. Все остальные – за Либермана. Против Петренко голосует даже Ляховая. Большинством утверждаются Либерман и Вайншток. Заседаем уже около часа, и я объявляю технический перерыв на 10 минут: надо перекурить и все такое прочее.
Закуриваю прямо в безлюдном коридоре и быстро иду к главному входу. Там дремлет дед-вахтер, дожидаясь, когда все запоздалые покинут главный корпус. Я без обиняков обращаюсь к нему:
– Вы можете выключить свет во всем правом крыле? Выключайте! Очень надо! Деду не терпится закрыть корпус, чтобы заняться чаепитием и поспать, поэтому он радостно выполняет мою просьбу-предписание. Правое крыло главного корпуса погружается во мрак. Ощупью добираюсь до комнаты нашего заседания и объявляю, что света уже не будет, а бюро переносится на ближайшие дни.
Уныло совещаемся с Мишей. Мы потерпели полное фиаско даже на двух группах первого курса. На старших курсах, где хорошо известно, «кто есть ху», наше положение почти безнадежно. Приходим к простому выводу: без участия «широких масс» мы блистательно завалим порученное дело. Разрабатываем тактику привлечения этих самых широких масс, намечаем своих «агентов влияния», распределяем все группы только на двоих.
Второго заседания бюро по выдвижению кандидатур я так и не собрал. Список, намеченный только мной и Дрыгой, я понес в комитет показать Шлюко. У меня еще оставались какие-то сомнения, и я их решил прояснить до конца. Ведь «прямое слово» не было нигде и никем не произнесено. А что если все это плод моей возбужденной фантазии? Я передал список Шлюко со словами:
– Тут по группе ЗВ – 9 мы наметили оставить прежнего комсорга – Цезария Шабана. Но он – поляк.
– Ну и что? – удивился Шлюко.
Вот теперь все стало ясно. Этот короткий вопрос был равен длительной лекции. Отныне поляки, волей Главного Комсомольца Политехнического института, наравне с русскими и украинцами, вошли в число основных национальностей, проживающих на Украине.
Утром начинаем работать. По три-четыре человека из группы вызываются в деканат: по одной группе на каждой переменке. Там происходит один и тот же разговор, с одной и той же, усвоенной в комитете, интонацией:
– У вас скоро будут выборы комсорга группы и курса. Мы живем на Украине и комсоргами должны стать люди основной национальности, – русские и украинцы. Афишировать нашу позицию мы не имеем права, поэтому объясните это своим близким друзьям…
– А, бей жидов, спасай Россию, – откликались особо понятливые.
– Я вам этого не говорил, – сурово предупреждал я зарывавшихся.
Большинство молча усваивали требования, и уходили, на ходу соображая, что и кому можно сказать и что сделать. Точно так же поступил и я в комитете института. Об отказах и, тем более, – возражениях, не было и речи.
На переменке меня схватил за пуговицу Лазарь Адамский и с тоской спросил:
– Коля, скажи мне, что, – есть указание евреев в комсомоле не избирать?
– Лазарь, я тебе ничего не могу сказать по этому вопросу, – неопределенно пожал я плечами. Конечно, у него осталась неясность, отчего я «ничего не мог сказать»: ничего нет, ничего не знаю, ничего не хочу говорить, ничего не могу говорить. Врать я не особенно умею, а правду сказать – не имел права.
Выборы на факультете прошли на удивление гладко и спокойно. Только на втором курсе в состав курсового бюро вошло 1 (одно) лицо «не основной национальности».
Тогда мной владели «смешанные чувства», как у человека, наблюдающего падение в пропасть тещи на его собственном автомобиле. С одной стороны: на моем участке фронта я неплохо выполнил порученную мне очень непростую работу. Сумма таких работ позволяла руководству страны (или кому?) прижать многоголовую и вездесущую гидру. Что гидра существует, – я теперь знал точно. С другой стороны: работа была довольно подлой и грязной по отношению к моим друзьям «не основной национальности»: бригадиру Веркштейну, учившему меня премудростям слесарного мастерства, верной Молке, таскавшей тяжелые ящики зерна с точным счетом, и, конечно, – по отношению к близкому другу, беззаветному трудяге и справедливому человеку Коле Леину… Каким все же надо быть осторожным, выбирая себе родителей!
В дальнейшей жизни у меня набралось много фактов и событий – хороших и плохих – общения и работы с людьми «не основной» национальности; хороших было гораздо больше. Вчера, во время работы над этими страницами, из Израиля нам позвонил мой друг Леня Лившиц. Мы оба были очень рады общению. Нерадостная весть: наша любимица Валерия сломала ногу и сейчас сидит в гипсе. Сколько же страданий выпало на долю этого талантливого человека! Нам всегда очень ее не хватает: на любой вопрос был ответ у этой полупарализованной девушки с энциклопедическими знаниями…
Наш хлеб – расплавленный металл
… в мире нет прекрасней красоты,
чем красота горячего металла!
(из песни, не попсовой)
Мы в институте все больше изучаем наши основные сварочные дисциплины. Их неожиданно много: дуговая сварка, теория сварочных процессов, тепловые процессы, электросварочные машины и аппараты, автоматическая сварка, контактная сварка, сварные конструкции, газовая сварка и резка, контроль швов, пускорегулирующая аппаратура, проектирование сварочных цехов, организация производства. Почти все предметы сопровождаются лабораторными занятиями, курсовыми проектами и, конечно, практикой.
Лекции по дуговой сварке нам читает К. К. Хренов – громоздкий пожилой мужчина со слегка отрешенным взглядом светлых, слегка на выкате, глаз. Хренов – самый титулованный наш преподаватель: академик, лауреат Сталинской премии. Премию он получил в 1946 году за разработку подводной сварки и резки металлов, которая особенно нужна была в годы войны. Хренов по образованию – электрик, поэтому он нам читает также курс по источникам питания. Его речь по-профессорски округла и точна, но без всяких эмоций, что слегка убаюкивает тех, кому эти материи не очень интересны.
(Я уже слегка набил синяков и шишек на сварочной стезе, и мне все интересно. Почему, например, мой сварочный генератор на заводе самовольно менял плюс на минус и наоборот, что резко ухудшало качество сварки? Такое было ощущение, что ты разучился варить. В конце концов, тогда я понял, отчего ухудшается сварка, и просто менял местами клеммы кабелей. Теперь я понял, почему так происходит и как этого избежать проще).
Нам читают лекции и проводят практические занятия М. Н. Гапченко, М. М. Борт, Л. А. Бялоцкий, смешливый Жора Васильев (поэтому его отчество не запомнилось, – а читал он нам очень нужный курс пускорегулирующей аппаратуры).
Несомненно, самой колоритной и любимой личностью на факультете среди преподавателей был Дед – доцент Иван Петрович Трочун. Вскоре он стал деканом нашего факультета, сменив на этом посту Гапченко, уехавшего, кажется, к китайцам. Наш Дед внешне очень смахивал на хитроватого колхозного «дядька». Одевался он соответственно: например, галстук на нем казался совершенно чужеродным предметом, надетым по приказу свыше и глубоко чуждым своему носителю. Обширную лысину обрамлял венчик волос непонятного цвета. Поверх очков смотрели в упор глубоко посаженные темные глаза.
И. П. Трочун читает нам теорию сварочных напряжений и контактную сварку. Сварочные напряжения – самая тайная и глубокая наука нашей профессии, недоступная и непонятная дилетантам. Только ее понимание может предотвратить многие, кажущиеся непонятными, аварии и катастрофы. Примеры, приводимые лектором, наглядны и потрясающи, его пояснения – глубоки и понятны. Наш факультет потихоньку разворачивают на кораблестроение: именно там наибольшее количество сварки и аварий, связанных с ней.
Очень красноречивы примеры американских кораблей «Либерти», названных у нас позже лидерами типа «Ленинград». Широко применив сварку, американцы совершили подлинную революцию в судостроении. Цикл постройки судна водоизмещением 4600 тонн от закладки до выхода в море составлял всего 22 дня! Большинство грузов по лэнд-лизу Америка доставляла в СССР крупными конвоями судов «Либерти» в северные порты СССР в Баренцевом и Белом морях. Вскоре, кроме боевых потерь, «Либерти» стали нести непонятные технические потери: при полном штиле суда внезапно разламывались пополам и тонули, либо на корпусе появлялась огромная трещина от палубы до киля. Более поздние исследования объяснили причины этого явления: виновата была в первую очередь неправильная технология сварки, не учитывающая возникающих собственных напряжений! ИПТ наглядно показывал нам зарождение и влияние этих напряжений, избегая заумных формул, понятных только создателям – соискателям ученых степеней и званий…
Но главным отличием нашего Деда была его «внелекционная» речь, состоящая из коротких и рубленых предложений. По краткости и афористичности речи Дед намного превосходил прославленного позже златоуста Черномырдина.
Вот несколько запомнившихся пассажей нашего деда. При объяснении многоэтажной формулы по теплопередаче в металлах (многоэтажная формула изобиловала частными производными, всеми тригонометрическими функциями, логарифмами – натуральными и десятичными и занимала целую страницу книги). Самое интересное в том, что применяемые в этой супернаучной формуле коэффициенты были весьма произвольными и эмпирическими, что ставило под сомнение всю научную ценность расчетов по этой формуле. Дед поясняет формулу:
– Ну, прочитаете в книжке. Бумага все выдержит… Жулье от науки тоже хочет кушать…
При чтении лекции ему помешал шум: это Владик Крыськов что-то оживленно обсуждал с Мариной Георгиевской.
– Крыськов! Вы и ваша подруга. Пересядьте. Впрочем, – выйдите.
Крыськов и «подруга» молча покидают аудиторию: Дед не терпит пререканий. На переменке Владик подходит к деду:
– Иван Петрович, за что вы меня выгнали?
– Так оно, как говорится, здесь половину надо бы выгнать…
Рухнула где-то конструкция из-за грубой ошибки инженера. Мы разбираем этот случай на лекции. На недоуменный вопрос: «Как же так? Этот человек ведь КПИ окончил!», Дед философски отвечает:
– КПИ многие кончают…
Наш Дед особенно раскрывается в узком кругу «приближенных», точнее – тех, кому он доверяет. Это Юра Яворский, еще пару человек. Я тоже вхожу в число этих приближенных, уж не знаю почему. Дед берет журнал и начинает по алфавиту обзор «вверенного личного состава».
– «А..»… Ну, это, вообще, глупо-тупое животное. «В..», «С…»… Здоровые ребята, кулаком могут дверь вышибить, а дрожат… Чего дрожат? «Х» – готовая домохозяйка, но теперь с дипломом будет… Он ей нужен? «У» – хитрости больше, чем ума… «Z» – ну, этот проползет в любую щель, и мылом не надо намыливать…
Характеристики Деда при всей краткости – убийственно точны. «Нормальных» ребят и присутствующих Дед тактично обходит.
Наша «внеучебная» встреча с ИПТ произошла через несколько месяцев после окончания института. Под Новый 1955 год вечером в нашу комнату в общежитии на Стачек 67 заявляется Дед «в масштабе один к одному». В комнате проживает четыре человека, в том числе – Ю. Попов и я. Дед приехал в Ленинград, на какой-то семинар и оказался без жилища. Он смиренно просит нас предоставить ему таковое на одну ночь. Мы от радушия чуть не выскакиваем из своих штанов:
– Иван Петрович! Какие могут быть разговоры! Вот Павка уходит, его постель в вашем распоряжении! (Павка Смолев, техник с завода Жданова, будущий Главный строитель реконструкции крейсера «Аврора»).
Дед с достоинством принимает наше приглашение. Мы с Юркой выскакиваем в коридор на совещание: дорогого гостя надо достойно принять, но у нас хоть шаром покати. К концу месяца в общежитии ИТР судостроителей и занять не у кого: все свои получки растягивают максимум на первые полмесяца, затем «перебиваются». Дед по непонятным признакам мгновенно оценивает ситуацию и достает бумажник:
– Ну, молодому легче бегать…
Юрка без зазрения совести хватает четвертной и устремляется за хлебом насущным, в котором водка занимает изрядную долю. Через полчаса у нас пир горой. Мы рассказываем Деду о наших достижениях, он кратко повествует о возне в стане «жуликов от науки». Среди всех разговоров Дед смущенно признается:
– У меня здесь друг живет… можно было бы и у него переночевать, но он в командировке. Жена – одна – неудобно… Ей, конечно, 60 лет… Все равно – неудобно…
Подогретые халявной водкой, мы ржем от кажущейся нам чрезмерной щепетильности нашего Деда. В наши 20 с небольшим, мы твердо уверены, что после 50 лет мужиков и баб уже можно мыть в одной бане…
Следующее, увы, – последнее, наше свидание с Дедом прошло в 1965 году в Киеве на праздновании 10-летия нашего выпуска. Дед был грустным, болел, видно, предчувствовал близкий конец… С гордостью за нас и тихой завистью наблюдал он за нашим, все еще молодым, буйством…
Ассистент Л. А. Бялоцкий нам тоже что-то читал, уже и не упомню – что именно. Это был крупный упитанный мужчина с шапкой курчавых рыжеватых волос над красноватым лицом со светлыми навыкате глазами. У него что-то не заладилось с защитой диссертации, и он в гордом звании «ассистента» был допущен к преподаванию. Его лекции были весьма ординарными, скучными и не остались в памяти. Пишу о нем потому, что он был также секретарем факультетского партбюро, то есть, по умолчанию – моим непосредственным идейным вдохновителем и начальником как «генсека» факультетского комсомола. Руководил он мной так же вязко и пунктуально, ни на иоту не отступая от последней передовой «Правды». Когда он потребовал от меня «поднять уровень сознательности комсомольских масс» (такое требование на текущий момент было в передовой статье «Правды»), мне следовало верноподданнически закатить глаза и заявить примерно так:
– Да, конечно, Лев Александрович, – я тоже чувствую, что мы тут не дорабатываем, особенно в свете последних Решений Партии. Позвольте мне заглянуть к Вам для согласования плана мероприятий по данному вопросу, который мы хотим разработать на бюро…
Бялоцкий бы сыто рыгнул (делал он это с блеском) и милостиво разрешил бы аудиенцию, а я бы подшил в папку очередную глубоко бесполезную бумагу и успешно двигался бы вверх по партейно-служебной лестнице, уже теперь мог бы стать Сталинским стипендиатом, как «исполнительный», «преданный делу партии» и т. п. – человек. К сожалению, я человек очень не выдержанный, испытывающий постоянный цейтнот, к тому же – отягощенный подлинными заботами и проблемами своих избирателей. Я впадаю в холодную ярость и от идиотизма поставленной задачи, и от формы ее постановки.
– Куда и как ее поднять? – сдерживая эмоции, деловито задаю я «простенький» вопрос, предлагая тем самым «фюреру» самостоятельно составить план требуемых мероприятий. Ему это, конечно, не по зубам: он руководит «вообще». Бялоцкий осуждающе смотрит на меня и величественно удаляется: дескать, задача сформулирована и поставлена, теперь ее может выполнить любой дурак.
Трения постепенно нарастают из-за моего упрямства и нежелания играть в эти игры. На помощь Бялоцкому приходят другие члены партбюро; меня начинают «воспитывать». К концу четвертого курса комсомольское и партийное «бюры» на грани холодной войны. К счастью, меня «снимают» по другим причинам: на 5 курсе уже быть генсеком «не положено»: надо заниматься дипломным проектом.
Взгляд из партийного будущего. Несколько лет я был аполитичным и абсолютно счастливым человеком. Из комсомола я выбыл не то по возрасту, не то из-за неуплаты членских взносов, короче – незаметно. Затем меня, как передовика и орденоносца, настойчиво пригласили в КПСС, затем избрали в партбюро. История повторилась: я восстал при «партийных» пытках моего лучшего прапорщика, после чего был опять низвергнут до состояния «рядового». Последний раз меня «прорабатывали», когда я сдал партбилет, обвинив верхушку КПСС в развале великого государства – СССР, на укрепление могущества которого я потратил всю активную жизнь. Видать, по умолчанию – не могу я «колебаться вместе с линией партии»…
В овечьей шкуре
Вред или польза действия обусловливается совокупностью обстоятельств.
(К. П. № 2)
В конце третьего курса ко мне обратился Миша Шовкопляс с «маленькой» просьбой: сдать физику на вступительном экзамене в Киевскую сельхозакадемию. Его односельчанин, друг и даже родственник, поступал туда на заочное отделение. Когда-то давно он окончил техникум пчеловодства, неплохо разбирался в сей, очень непростой, науке. Труба позвала его на повышение и потребовала высшего образования, во всяком случае – справки о пребывании в звании студента-заочника. По всем предметам он готовился, их более-менее знал, а вот по физике ожидал полного краха.
– Ну а сам-то, что? – спросил я.
Миша отшутился на тему: «Папа может, но бык – лучше». Миша воевал, все школьные науки у него выветрились давно, хотя благодаря трудолюбию и упорству в институте учился неплохо. «Врага уничтожить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь». Конечно, я согласился: друг моего друга – мой друг. Начали договариваться о деталях. Фотографию Ивана Лавриненко на зачетной книжке, изготовленную сельским умельцем, без особой натяжки можно было признать моей, хотя Иван был на несколько лет старше. Вдохновенный труд сельского фотографа значительно упростил нашу задачу: мы не совершали уголовно наказуемого подлога важного документа.
С большим трудом я добыл учебник Фалеева и Перышкина (помню!) для средней школы, чтобы не вякнуть нечто, чего по молодости лет я еще не должен был знать. Кое-что прочел с интересом: почему-то этого я раньше не знал. Свое образование я завершил к назначенному сроку и, первым сдав свой экзамен, проехал весь Киев от Святошино до Голосеево, где встретился в условленном месте с Иваном. Он был расстроен: экзамен по физике перенесли на другой день, а сегодня его группа сдает химию.
– Может быть, ты сможешь сдать химию? – с робкой надеждой спросил Иван.
Химию мы уже закончили в предыдущем семестре, к химии я не готовился… Но я вспомнил о длинной обратной дороге с унылым чувством «не солоно хлебавшего» и решил рискнуть экзаменом Ивана:
– Может быть, – прорвемся! – успокоил я не столько Ивана, сколько себя. Иван наложил еще одно, очень тяжелое ограничение. Оказывается, среди преподавателей Академии был один, который лично знал всех Лавриненков, в том числе – Ивана, как облупленных.
– Какой он из себя? Как выглядит? – спросил я Ивана.
Из сбивчивых и противоречивых описаний я уловил только, что наш враг – «солидный». При его обнаружении, я должен был немедленно ретироваться, даже во время сдачи экзамена. Новая вводная не добавила мне оптимизма, но отступать было уже поздно, и, с благословения моего клиента, я отправился то ли в ад, то ли в чистилище.
Ад выглядел как большая аудитория с расположенными амфитеатром деревянными партами. Несколько человек были разбросаны по всему помещению и сосредоточенно грызли карандаши и морщили лбы, готовясь к ответу. За столом внизу у доски сидела усталая женщина, принимая экзамен. Я предъявил книжку, вытащил билет и направился готовиться.
Выбрал себе третий ряд вблизи от входных дверей, чтобы сразу улизнуть после появления врага. Рядом сидел и напряженно соображал кругленький человек средних лет в полувоенном френче, который как форму тогда носили «ответственные работники», хромовых сапогах и галифе, с побритой до синевы головой, которого я мысленно обозначил как директора совхоза. У него были какие-то шпаргалки, очевидно – чужие, так как он безуспешно их листал, пытаясь найти ответ на билетный вопрос.
Пробежал свой билет, вопросы показались несложными, кроме одного; реакция – обычная: окислительно-восстановительная. Написал краткие тезисы ответа и уравнение-реакцию. По «темному вопросу» я знал тоже все, кроме формулы суперфосфата. Решил за помощью обратиться к «директору совхоза»: уж он-то должен знать от чего произрастают булки.
– Формулу суперфосфата знаете?
– Сейчас найду, – откликнулся «директор» и озабоченно начал шебаршить шпаргалками. Вскоре я понял, что он ничего не найдет.
– Ну, черт с формулой, – прошептал я. – Все остальное я знаю.
Последние слова явно заинтересовали моего соседа, и, свернув свои шпаргалки, он приник к неожиданному источнику информации.
– Что такое «амфотерность» знаешь?
Я знал. Объяснил, привел примеры, которые он радостно записывал. Разобрали потихоньку и другие вопросы. Исправил ему уравнение реакции: у него из обычных реактивов получалось соединение, тянувшее своей новизной на Нобелевскую премию. Сосед приободрился, моя помощь была весьма своевременной.
Сдача экзамена за столом у доски проходила очень медленно. Солидные ученики пороли такую чушь, что преподавательница, очень усталая и добросовестная женщина, просто задыхалась. Она пыталась навести их как-нибудь дополнительными вопросами, фактически – подсказками, на верный ответ. Однако семена ее подсказок попадали на слишком каменистую почву и не давали никаких всходов, что ее просто убивало.
Между тем дверь аудитории открылась. В образовавшуюся щель вплыл объемистый живот, за ним последовал «солидный мужчина». Я напрягся: не мой ли вражина? Но тут же, по мелким шагам к столу и заискивающей улыбке, определяю его как очередного «директора», сдающего химию и временно успокаиваюсь. Следующих входящих я уже определяю не по объему туловища, а по его наклону и размеру шагов, что быстрее и точнее.
Подходит очередь моего соседа. Он просит меня пойти первым, чтобы еще подумать. Отправляюсь к усталой преподавательнице: долго сидеть мне опасно. Коротко отвечаю на первый вопрос. Следует дополнительный. Отвечаю так же коротко. Доходит до фосфора, в том числе и суперфосфатов. Отвечаю так же скупо.
– Какие кислоты образует фосфор?
Называю и пишу формулы. Экзаменаторша просто оживляется, усталые глаза загораются радостью. Дополнительные вопросы она теперь задает не из желания что-то подсказать: ей просто приятно общаться с человеком, который понимает ее химию.
– Для чего нужны фосфаты? Из чего производят суперфосфат? Где в СССР есть месторождения апатитов?
Добираемся до реакции. Она просматривает уравнение: оно верно.
– А если вместо этого взять вот такое соединение?
– Реакция не пойдет: у нас два окислителя.
Еще несколько вопросов и ответов. Совершенно счастливая женщина выводит на моем экзаменационном листе жирное «отлично». Я тоже счастлив, забираю лист, прощаюсь и бодро выхожу из аудитории. В коридоре из-за угла на меня бросается заждавшийся Иван.
– Ну, как? – с робкой надеждой спрашивает он.
– Отлично, – с гордостью заявляю я.
– Нет, какая оценка?
– Я же говорю – отлично, – передаю Ивану экзаменационный лист. Иван вглядывается в оценку на бумаге со своей фотографией; его лицо вытягивается и бледнеет.
– Ты что наделал? – трагическим голосом спрашивает он. Я смотрю на него с немым вопросом, не понимая.
– Здесь из сотни сдававших только две четверки, десятка полтора троек, остальные – двойки!!! Теперь вот – одна пятерка…Мной же заинтересуются!!!
До меня начинает доходить весь ужас содеянного и невозможность пересдачи на другую оценку. Оправдываюсь: откуда мне было знать, что директора и главные агрономы так плохо знают химию? В конце начинаю утешать Ивана: ну, приналяжешь и выучишь, в конце концов, эту химию, – не так уж много должны знать школьники. Иван уныло качает головой: ему теперь химию придется изучать самостоятельно и очень хорошо изучать…
После двух экзаменов и броска через весь Киев я проголодался, и Иван кормит меня комплексным обедом в студенческой столовой. Продолжаем разговор. Основного дела то я не сделал: физики не сдал. Договариваемся о следующей сдаче. Иван с опаской глядит на меня:
– И не вздумай получить больше четверки!
Я виновато, но твердо обещаю исправиться.
В назначенный день Иван ведет меня к физическому кабинету, где поступающие сдают физику. Там уже огромная очередь. Скромно стаю в нее последним. Ко мне подкатывается мой единственный знакомый «директор», с которым мы вместе сдавали химию.
– Физику знаешь?
Я молча показываю большой палец. Директор берет меня за руку и бесцеремонно раздвигает животом очередь.
– Лавриненко идет со мной, – небрежно объясняет он недовольным.
Вскоре мы оказываемся в кабинете и берем билеты. Экзамен принимают двое: суровый мужик и симпатичная молодая женщина. Перед женщиной сидит сельский атлет с выпирающими буграми мышц и красным от непривычных умственных усилий лицом. Вслушиваюсь в их разговор, длящийся уже довольно долго.
– Вот вы взяли стол и передвинули его на другое место. Какое действие вы совершили?
– Ну, я приложил… напряжение!!! – выдавливает из себя Геркулес, краснея еще больше. Женщина представляет себе это «напряжение» и снисходительно поправляет:
– Вы приложили не напряжение, а силу… Ну, вот вы этой силой передвинули стол на какое-то расстояние. Какое действие вы совершили?
– Я совершил… напряжение! – силач явно зациклился на научном слове «напряжение», другие слова он начисто забыл.
Женщина какое-то время отдыхает, но, уразумев, что из «напряженной» колеи ее ведомый самостоятельно не выберется, устало говорит:
– Передвинув стол, вы совершили ра-бо-ту!
– Ну!!! Конечно!!! – Геркулес восторженно вскакивает с явным намерением немедленно совершить это действо со всеми столами аудитории, чтобы показать, насколько ему стало понятным определение «работы».
Экзамен продолжается. Смотрю на своего подшефного директора. Кажется он в нокдауне.
– Что такое земной магнетизм? – сдавленным шепотом вопрошает он меня. Объясняю таким же шепотом. Вижу – не понимает. Говорю ему:
– Записывай, там – просто прочтешь!
Диктую ему в формате Детской энциклопедии «Хочу все знать» ответы на все вопросы его билета. Директор, к счастью, пишет быстро. Имея все ответы по билету, он смог оценить окружающую обстановку и даже характер экзаменаторов:
– Пойдешь к мужику! – он бесцеремонно навязывает мне свою волю.
Я согласно киваю и выхожу к месту казни, – «к мужику». Запинаясь и спотыкаясь, но довольно внятно отвечаю на первый вопрос билета. С такой речью пятерки мне не видать как своих ушей. Перехожу ко второму вопросу и начинаю ощущать зияющий пробел в своей подготовке: я не знаю, должны ли знать школьники понятие «вектор». Если нет, а я его произнесу, то Иваном Лавриненко действительно заинтересуются. Начинаю петлять, безбожно эксплуатируя золотые слова «ну», «вот» и другие, а также паузы.
– Ну… сила – это… она имеет… это… направление. (На этом месте вообще глохну).
– Что еще имеет сила, кроме направления? – неприязненно смотрит на меня «мужик».
– Ну… это… Кроме направления? Ну, что еще?… А… ну, это… величину, вот…
– И как все вместе это называется?
– Сила… имеет… это… величину и … как его… направление – тоже.
«Мужик» начинает звереть:
– Ну, сила! Ну, имеет! Ну – величину! Ну – направление! Ну – и как это все вместе называется???
Экзаменатор уже заразился моей лексикой и сейчас мне воткнет тройку или вообще «погонит». Выпаливаю:
– Сила является вектором: она имеет величину и направление.
Экзаменатор удовлетворенно кивает и продолжает кивать дальше. «Опять иду на пятерку», – думаю я про себя и начинаю снова блеять и спотыкаться на ровном месте. Впервые в жизни я играю с экзаменатором как кот с мышкой, которая думает, что именно она является котом. В результате – получаю искомую «четверку».
Иван встречает меня. Теперь он очень доволен, и мы отправляемся в студенческую столовую кормиться за его счет. Стаем в хвост длинной очереди. Обнаружилось, что после сдачи двух экзаменов я успел стать популярным. Ко мне подходят «директора» и «главные агрономы»:
– Ну, ты молодец, Лавриненко, поздравляем!
Я принимаю поздравления, Иван смущенно согнул шею в очереди впереди меня. Вдруг меня пронзает током: на несколько человек перед нами в очереди скромно стоит директор Деребчинского сахарного завода Кравченко, который знает меня, «как облупленного». У него красавица дочка Галя; вокруг нее на каникулах вьется вся деребчинская студенческая тусовка. Папа охотно принимает и знает всех студентов: кто, где и как учится. Стоит ему повернуться, и он очень удивится моей новой фамилии и амплуа. Я хватаю руку Ивана и насильно вытягиваю его из очереди. Мы быстро уходим, не оборачиваясь, под удивленными взглядами моих новых друзей-товарищей. Только на улице Иван начинает понимать, какой опасности мы избежали. Уезжаю, не солоно хлебавши: другие пищеварительные учреждения в Голосеево нам не ведомы. Дальше Иван должен сдавать сам. Он обещает после поступления прийти к нам в общежитие, чтобы отпраздновать это событие. Но я вскоре уехал на практику и Ивана больше не видел. Ау, Лавриненко! За тобой комплексный обед: первое, второе и – это обязательно – компот!!!
Технические нестыковочки на стыках
И при железных дорогах лучше сохранять двуколку.
(К. П. № 144)
После третьего курса у нас первая производственная практика по основной сварочной специальности. Теоретически мы должны вникнуть, интересоваться, работать над собой и над материалом. Практически: после всех наук надо отдохнуть, оглядеться, собраться с силами.
Несколько человек из нашей и параллельной группы на практику направлены на киевский завод «Ленинская кузница», в просторечии – «Ленкузня», или еще проще – «Кузня». Это старинный заводик, который тогда выпускал речные буксиры, баржи, небольшие речные же танкеры. Завод располагался совсем рядом с Днепром, лето было жаркое, и наша небольшая группа рассчитывала неплохо позагорать и отдохнуть за счет совмещения приятного с полезным. Однако вскоре мы оказались вблизи некоего технического Бермудского треугольника, который значительно сократил наши пляжные намерения
«Вверенный нашему развлечению» завод тогда имел особый статус негласного полигона патоновского Института Электросварки. Именно на этом «придворном» заводе отрабатывались в производственных условиях новые сварочные автоматы, технология, оснастка и изделия, особенно – листовые конструкции больших размеров. Корпуса танкеров и барж состоят фактически из больших сварных листов, на которые уже потом привариваются профили продольного и поперечного наборов, придающих прочность и жесткость всей конструкции. Еще большее значение сварка полотнищ из листов имеет для строительства огромных резервуаров и газгольдеров. Чтобы понять это, надо слегка углубиться в историю.
Резервуаров всегда требуется огромное количество, особенно для хранения нефти и ее производных. Строились резервуары всегда долго и трудно, даже после того как старинная клепка была заменена быстрой сваркой. Аварии первых сварных резервуаров, вызванных непониманием внутренних напряжений, неизбежно появляющихся при сварке, – это особая тема. К нашему времени конструкция резервуаров и технология сварки в основном уже была отработана. По классической технологии днище резервуара – стальной «кружок» диаметром 10–20 метров – сваривалось из отдельных листов на клетях, чтобы можно было подобраться снизу к сварочным швам: это нужно было для их контроля на плотность (непроницаемость). Листы сваривались внахлест, когда кромка одного листа ложилась на край другого. Только в зоне примыкания днища с будущей стенкой (уторный шов) вырезались «замки», и листы днища сваривались встык, чтобы образовать ровную поверхность, без уступов, возникающих в нахлесточных соединениях. Технология (особенно – последовательность сварки) была очень строгая. Если она нарушалась, то днище готового резервуара «вздыбливалось» буграми (т. н. хлопунами) высотой до 2 метров(!), что зачастую делало невозможным эксплуатацию резервуара.
Сваренное и проверенное на плотность днище опускалось на основание, после чего приступали к сборке и сварке цилиндрического корпуса. Стальные листы, размером 6 х 1,5 метров, толщиной от 4 до 10 мм и весом до полутонны, изгибались на вальцах до кривизны цилиндра корпуса, подавались наверх и приваривались в нужном месте. Работа чрезвычайно трудоемкая и длительная, причем, обычно – в полевых условиях. Вот цифры, позволяющие представить ее объемы. Резервуар 5000 кубических метров («пятитысячник») имеет диаметр более 20 метров, высоту – около 12 метров. Его металлоконструкции весят более 100 тонн; на их сварку требуется более 3500 кг высококачественных электродов и труд более 150 человеко-смен только дипломированных сварщиков. Трудозатраты монтажников и других рабочих будут почти на порядок больше: их задерживает также медленная сварка и ее контроль. Поскольку работы ведутся под открытым небом, в любую погоду и время года, то длительность работ еще увеличивается, а качество – снижается.
В Институте электросварки была разработана идея переноса основных объемов сварки в заводские условия. При этом сварка выполнялась автоматами – быстро и высококачественно. Изготовлялись большие полотнища, которые как лист бумаги сворачивались в рулоны. Вес и габариты рулонов ограничивались только условиями транспортировки. На монтаже рулоны днища (два или три) разворачивали и сваривали вместе. Рулон корпуса поднимался на днище «на попа» и разворачивался с одновременной сваркой уторного шва, т. е приваривался к днищу. Оставалось заварить вертикальный замыкающий шов, и корпус был готов к установке крыши и всяких прибамбасов: люков, лестниц, дыхательной арматуры, противопожарных систем и др.
Так вот: чтобы позволить автоматам (сварочным тракторам) сваривать полотнища, на нашем заводе был установлен стенд потрясающих размеров и конструкции. На его площади вплотную друг к другу укладывались десятки листов, образуя страницу «в клеточку». Включались мощные электромагниты, и кромки листов намертво «прилипали» к стенду. Подавался сжатый воздух, и флюс поджимался снизу к свариваемым кромкам. Наступала очередь автоматов – сварочных тракторов. Четырехколесное чудо двигалось по стыку, насыпая впереди себя валик зернистого флюса. Проволока, подающаяся с кассеты на тракторе, где-то в толще флюсового валика, потрескивая мощной невидимой дугой, намертво соединяла кромки двух листов. Сзади трактора раструб отсоса собирал флюс опять в бункер; на шве оставалась только быстро темнеющая корочка расплавленного шлака. После сварки поперечных швов, автомат сваривал продольные. Отключались электромагниты и сжатый воздух, остывшая шлаковая корка легко скалывалась, обнажая ровную блестящую выпуклость сварного шва. Точно такая же выпуклость была снизу: ведь там был тоже флюс, поджатый снизу воздушным шлангом. К краю полотнища подсоединялись захваты, и идеально ровное полотнище с прямоугольной сеткой блестящих швов наматывалось на огромный барабан, готовый к отправке на монтаж.
Такую картину видели создатели стенда, и такой она могла бы быть, если бы… Наша группа участвовала в наладке и испытаниях стенда. Эта работа затянула нас, как игра – картежника, жаждущего выигрыша, как жаждущих в пустыне – мираж оазиса. Всему виной была несовместимость допусков по ГОСТу на размеры листов и допусков, требуемых для автоматической сварки.
Выкладывая листы на стенде надо было получить зазоры 2±0,5 мм между любыми кромками – продольными и поперечными. Это значит, что надо было иметь стальные листы с допусками на размеры в два раза меньшими, то есть – всего ± 0,25 мм. ГОСТ же допускал разброс ширины листов ± 5 мм (!), а по длине листа – вообще ± 20 мм! Но и это еще не все: когда мы с трудом подобрали несколько относительно одинаковых по размерам листов, то узнали еще об одном понятии: о ненормируемой «серповидности». Два рядом лежащих листа придвинуты друг к другу без зазора. Увы, «без зазора» получается только по краям листов. Посредине же между кромками зияет зазор около 20 мм! И это на «качественном прокате» из спокойной стали, которая применяется для резервуаров…
Вместе с рабочими и мастерами завода мы тщательно измеряем листы, чтобы найти хотя бы 4 одинаковых по размерам и без серповидности. Кое-что подгоняем шлифмашинками. Устанавливаем на стенд и свариваем желанное полотнище, увы, только из четырех листов. На нашем полотнище ярко блестит сварной шов в виде креста. Им можно было бы обозначить и наши рухнувшие надежды…
Нет худа без добра. Мы получили уроки: а) не все можется, что хочется; б) от малых причин бывают весьма важные последствия; в) прежде чем бухать в колокола, загляни в святцы. Разочаровавшись в передовых технологиях, мы с усердием приступили к отдыху на Днепре: там-то было все в порядке.
Горестный взгляд из будущего, и не только на технику. Блестящая идея сворачивания сваренных на стенде полотнищ в рулоны – не умерла, а только трансформировалась, пойдя на поводу несовершенной технологии прокатчиков металла. Листы в полотнища стали варить внахлест, устранив этим безобразием безобразия металлургов. Дело в том, что нахлесточное соединение листов всегда хуже стыкового: оно слабее почти на 40 %, ведет к перерасходу металла, повышает жесткость конструкции в рулоне, создает трудности при сборке. Однако преимущества автоматической сварки в условиях цеха с лихвой перекрывают эти недостатки.
В начале 60-х годов на специально изобретенном и изготовленном стенде я сваривал полотнища из листов нержавеющей стали. Это было нужно для монтажа рядом расположенных ответственных резервуаров: в них хранились жидкие радиоактивные отходы высокой концентрации. Требования к качеству сварки были очень высокие: 50 % швов просвечивались. Мы сваривали листы встык по длинной стороне автоматом (трактором) под слоем флюса. Листы нержавейки короче «черных», допуски на размеры – жестче. О пагубной серповидности и речи не могло быть. Наш трактор «пахал как часы». Брака и исправлений у нас не было, хотя наш стенд был не таким шикарным, как на «Кузне».
Что касается точности изделий, то эта наша беда, увы, не изжита до сих пор, на чем страна несет неисчислимые потери. Из-за разброса характеристик элементов страдает и хромает вся наша техника: автомобили и электроника, сварка и строительство, – практически нет отраслей техники, где точность была бы избыточной. Поэтому мы предпочитаем иностранные автомобили и приемники. Даже этот текст набирается на компьютере, изготовленном где-то на Тайване…
Речь идет не только о точности размеров: имеется в виду точность соблюдения технологии. В сварке, например, точность изготовления электродов, самого массового изделия, значительно и напрямую влияет на качество и надежность самой распространенной ручной сварки. Дело в том, что обмазка электродов – сложная шлаковая система, количество компонентов которой доходит до нескольких десятков. Нарушение точности их дозировки или тонкости помола изменяет физические и химические свойства шлака, защищающего и легирующего металл шва. Обязательно что-нибудь ухудшается, часто – непоправимо. Ширина допусков на легирующие элементы в нержавеющих электродах, например, может безнадежно загубить конструкцию, изменив количество ферритной фазы в металле шва. Неточность и износ скоростных прессов, на которых изготовляются электроды, приводит к нарушению концентричности обмазки, что в ряде случаев вообще делает невозможной качественную сварку. (На профессиональном жаргоне – электроды «козыряют». Точнее, наверное, был бы иной карточный термин, типа «садятся на мизере» или «залезают на горку». Конечно, сварщики имеют в виду не козыри, а козырек).
Если посмотреть на наши электрические и электронные схемы, то почти всегда можно увидеть подстроечные резисторы, конденсаторы и т. п. Это означает, что разброс параметров элементов настолько велик, что только их компенсация может обеспечить работу конкретного изделия.
Вот еще один пример из несколько другой области. Новенький трехкулачковый токарный патрон проворачивался с большим трудом, что не позволяло его использовать. Пришлось разобрать его «до ниточки». Все размеры были правильные. Движению мешали незаметные заусенцы выдавленного металла, которые образуются при слишком большой скорости резания или при работе тупыми резцом или фрезой. С горечью вспоминаешь, что импортные изделия, даже менее ответственные, не требуют ручной доводки: они изготовлены с недоступной нам точностью и чистотой… А ведь в сложных технических системах – самолетах, автомобилях и т п., работоспособность зависит от качества и точности деталей.
Отдельно нужно сказать еще об одной «неточности» – об отношении к природе и окружающей среде. Мы научились потихоньку жить на помойке – среди гор мусора, битых бутылок, выброшенных покрышек, холодильников и автомобилей. Леса беспощадно вырубаются, в оставшихся, вместо грибов, рассыпаны стойбища вандалов с остатками костров, изувеченными деревьями и горами мусора, обильно политыми отработанным машинным маслом.
Увы, все эти «неточности» и мерзости оказываются следствием человеческого фактора: разгильдяйства и безответственности каждого жителя нашей великой страны.
В конечном итоге – это все безобразие становится стилем нашей жизни во всем – от думских законов до поведения отдельно взятого бомжа. За сверхдержаву обидно…
Не знаю, сколько нужно времени, смен поколений, катаклизмов и потрясений, чтобы в нашем государстве изменился этот стиль. Очень хочется надеяться, что это произойдет до прохода через предельную точку, после которой возвращение стает невозможным…