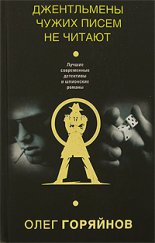Вино мертвецов Гари Ромен

– Не суйтесь, куда не просят! – взвизгнула дылда и поспешно нырнула в гроб. – Молодой человек спросил у меня дорогу.
Она яростно захлопнула пыльную крышку гроба. А коротышка тем временем с любопытством разглядывала Тюлипа.
– По сути, этот гроб – не такое жесткое ложе, как может показаться, – обратилась она к нему – А уж я до чего горяча!
– Позор! – раздался сзади раздосадованный голос. И коротышка тотчас спряталась под крышкой.
Юркая крыса, виляя, как заговорщик, перебежала через весь чулан.
Майн гот!
– Здорово, камерад!
Тюлип ойкнул, крутанулся на месте, как волчок, и очутился нос к носу с хорошеньким покойничком, который выскочил из гроба и стоял, как аист, на одной ноге, поджав другую. Он был похож на куколку в увешанном орденами мундире. Лысая, размером с кулачок, головка, пухленькое личико, в правом глазу монокль, левый – с полуспущенным, как у курицы, веком.
– Майн гот! Живой человек, какое счастье! Я так рад, так рад. О, майи гот!
– Боши, вон! – благим матом заорал Тюлип и показал ему задницу.
– Майн гот, зачем вы так? – обиженно проговорил симпатяга покойничек. – Мы вас так любим, зо зер, зо зер![11] Помню, накануне мобилизации я гостил в замке барона фон Гогенлиндена. Прекрасный праздник, отменные вина, хорошая музыка и молоденькие мальчики… ммм… какие мальчики… – Монокль его вспыхнул ярким блеском, правый глаз совсем закрылся, по лицу разлилось выражение полнейшего блаженства. – Беленькие, нежненькие, такие лапоньки… чисто амурчики! Амурчики и есть!
Но я ничего не видел, сидел, печальный, в углу зала и плакал навзрыд…
По его розовым щечкам скатились слезинки.
– Бей заклятого врага! – не унимался Тюлип.
– Увидал меня кронпринц, милейший кронпринц Август, мой добрый друг, теперь уж такой дружбы не бывает, – увидал и говорит: “Что с тобой, Бонцо, отчего ты платчешь?” – “Ах, Гутти, Гутти, – отвечаю я. – Я платчу из-за войны. Не хочу я, Гутти, воевать с Францией!” – “Ах, Бонцо, – говорит на это кронпринц, – лучше замолчи, не надрывай мне душу! Я и сам не хочу воевать с Францией!” Я поднимаю голову и – ах, что я вижу! – незабываемое зрелище: кронпринц Август платчет! Та-та, он платчет, потому что должен воевать с Францией! Такими вот слезами… – Он вытянул палец. – Слезами истинного аристократа! Вокруг музыка, танцы, шампанское, красивейшие юноши Берлина – амурчики, чисто амурчики!.. – а мы с кронпринцем ничего не видим, сидим и горько платчем! Такими вот слезами. – Он снова вытянул палец. – Та-та! Слезами истинного аристократа. И вдруг – кого я вижу? Барон фон Гогенлинден собственной персоной! Вельможа! Красавец-мужчина! “Отчего вы платчете, ваше высотчество?” – “Ах, Фриц, Фриц, – говорит кронпринц, – мы платчем из-за войны. Не хотим воевать с Францией! Мы хотим помогать французам! Всем сердцем! Всей душой!” – “Ах, ваше высотчество, ваше высотчество, – говорит барон. – Бедная, несчастная Франция!” И тоже давай плакать. Вот такими слезами. – Он вытянул палец. – Слезами настоящего аристократа.
– Бей бошей, бей бошей! – вопил Тюлип. – На Берлин, ура!
– И вдруг… кого я вижу! Подходят супруга и дочка барона. – “Отчего вы так платчете?” – “Ах, Пупхен, ах, Гретхен! – отвечает барон. – Мы не хотим воевать с Францией! Ах-ах-ах!” – “Ах-ах-ах!” – сказала Пупхен. “Ах-ах-ах!” – сказала Гретхен, и обе тоже в слезы. Славные женщины! Благородные души! И тут все милые юноши и все гости нас окружили. “Ах, отчего вы так платчете? Ах, отчего?” – “Ах, оттого, что не хотим воевать с Францией. Мы любим Францию всем сердцем! Ах-ах-ах!” – “Ах-ах-ах! – запричитали все хором. – Ах, какое несчастье! Бедная, несчастная Франция!” Какое зрелище! Никогда не забуду! Кронпринц рыдает, и барон рыдает, рыдают Пупхен с Гретхен, рыдают гости и лакеи, рыдают музыканты; все платчут и рыдают в три ручья. “Ах, Бонцо, – говорит мне тогда кронпринц. – Ты имеешь влияние на кайзера, моего августейшего отца, поговори же с ним, спаси Францию, Бонцо!” Ах, золотое, золотое сердце у нашего храброго Гутти!
Лицо его дрогнуло и расплылось в умиленной улыбке.
– Бей, убивай заклятого врага! – надрывался Тю-лип. – Рви его сердце! Жри печенку!
А симпатяга покойничек знай себе продолжает:
– И вот мы пошли во дворец. Приходим – стража отдает нам честь. Идем вверх по лестнице, нас вводят в зал, и… – о, майи гот! Какое зрелище! Никогда не забуду! Хох, хох, сам кайзер сидит и платчет, а рядом с ним Людендорф сидит и платчет. А рядом с ним фон Клюкен-Похмеллинг сидит и платчет, и фон Мольтке сидит и платчет, весь генеральный штаб сидит и платчет! Такими вот слезами. – Он вытянул палец. – Та-та, слезами истинных аристократов! “Ах, Бонцо, либер Бонцо! – говорит его величество. – Мы все тут платчем – как не плакать! И наше сердце, императорское сердце, разрывается – хох, хох, драймаль хох! – от мысли, что придется воевать с Францией. Бедная Франция, Бонцо! Ах, бедная, несчастная Франция!” – “Ах!” – произнес я в ответ, “ах!” – произнес кронпринц, “ах! ах!” – произнесли фон Мольтке и фон Клюкен-Похмеллинг. И мы всю ночь проговорили о прекрасной Франции и плакали, плакали… вот такими слезами. – Он вытянул палец. – Та-та! Слезами истинных аристократов!
– Убивай, убивай, убивай вражье племя! – визжал Тюлип и носился вокруг гроба, исполняя воинственную пляску скальпа.
– Но вот… прошло четыре года. И ах! – вздохнул симпатяга покойничек. – Какое зрелище, майи гот! Никогда не забуду! Берлин в крови! Орущая толпа! Бунт, революция! Все пошатнулось, рухнуло, все гибнет! Дворец осажден, кайзер в опасности, генштаб в опасности! И кто же охраняет императора? Кто охраняет генеральный штаб? Я! Я! Бонцо фон Громм-Отводен! Застыл – со шпагой наголо и пистолетом наготове. И вдруг… что я вижу? Дверь в кабинет его величества открывается настежь и… о майи гот! – какое зрелище! Никогда не забуду! Выходит кайзер, а за ним фон Людендорф, фон Клюкен-Похмеллинг и фон Мольтке. “Отважный Бонцо! – кричат они мне хором. – Спаси нас! Спаси императора!” И я, оберлейтенант Бонцо фон Громм-Отводен, что я делаю? Я опускаюсь на колено и – с саблей в одной руке, с пистолетом в другой! – кричу сквозь слезы: “Ваше императорское величество! Фюр майнен кайзер унд Гогенцоллерн, кемпфен унд штербен! Сражаться и умереть! Драймаль хох!” И – прыг в окно! И его величество – прыг! – в окно, а за его величеством – прыг! – фон Людендорф, прыг! – фон Мольтке и фон Клюкен-Похмеллинг. Все – прыг в окно! Весь генеральный штаб – прыг в окно! Я! Спас! Императора! Спас генеральный штаб! Драймаль хох! Ура оберлейтенанту Бонцо фон Громм-Отводену!
Он опустил поджатую правую ногу, щелкнул пятками и вытянулся по стойке “смирно”. Из него посыпалась густая пыль.
– Смерть бошам! – упрямо голосил Тюлип.
Он повернулся и с гиканьем бросился в потемки.
Девочка
– Пойдешь со мной?
Тюлип резко остановился. Голос был женский, утомленный до крайности. И прозвучал совсем близко.
– Нет! – прошептал Тюлип и попятился.
– Пойдешь со мной? – настойчиво спросил голос. – Ты что, мам, не слышала? – тихо проговорил такой же близкий детский голосок. – А я слышала: он сказал “нет”!
– Пойдешь со мной? – упорствовал женский голос, не меняя тона.
Чувствовалось, что женщина готова снова и снова повторять свой вопрос.
– Но, мама, он же сказал “нет”! – нетерпеливо возразил детский голосок. – Неохота ему. Ты что, оглохла?
За поворотом подземного хода забрезжил огонек. Появилась женщина со свечой в руке. Ей могло быть лет двадцать или тридцать, а то и все пятьдесят, но не больше шестидесяти. Лицо мертвенно-бледное, без всякого выражения. Две пряди белесых волос свисали на глаза, застывшие словно бы от удивления, язычок свечного пламени придавал им стеклянный блеск. На женщине был засаленный халат такого же грязно-соломенного цвета, что и волосы. Видать, потому она его и выбрала. Незапахнутые полы халата выставляли напоказ жеваную комбинацию, еле прикрывающую плоские, обвислые, похожие на пустые мешочки груди, и бледные, тощие, корявые коленки. Свободной рукой она прижимала к себе девочку, до странности на нее похожую: те же белесые пряди, то же невыразительное лицо с ошарашенной гримасой полузадушенной курицы в затянувшейся агонии, те же глаза навыкате. Такой же, как у матери, засаленный халат, такая же жеваная комбинашка, грудей еще нет, зато коленки точно такие же: до жути бледные, тощие и корявые. Тоненькими, как спички, ручками, девочка обхватила материнскую шею, и вот так, крепко-крепко прижавшись друг к другу, точно перепуганные, загнанные дикие зверьки, они предстали перед Тюлипом.
– Пойдешь со мной? – взялась за свое женщина.
Свеча в ее руке дрожала.
– Не-ет! – выдавил из себя Тюлип.
– Скажи: пойдешь со мной, дорогуша? – быстро прошептала девочка на ухо матери. – Надо им всем говорить “дорогуша”. Скорей подействует.
– Пойдешь со мной, дорогуша? – послушно повторила женщина.
У них и голоса были похожи. Только по движению губ и угадаешь, которая говорит.
– Нет, нет! – упирался Тюлип.
– Скажи, что у тебя есть мягкие подушки! – лихорадочно нашептывала девочка. – Скажи, что с тобой все можно.
– У меня есть мягкие подушки. Со мной все можно.
– Нет… нет, – лепетал Тюлип.
Он уперся спиной в ледяную стенку – стоп.
Свеча в руке у женщины дрожала все сильнее, отчего кругом плясали юркие тени.
– Давай, покажи ему что-нибудь скорее! – закричала девочка. – Скорее! Он уйдет!
– Гляди! – сказала женщина, задирая юбки.
– Фэ-э… – поморщился Тюлип.
– Подставь ему зад, да отклячь посильнее! – вопила девчонка.
– На! – Не опуская юбки, женщина неуклюже повернулась задом.
– Улыбнись, да пошире!
– Вот! – Женщина снова развернулась и скорчила жуткую гримасу.
– На помощь! – завопил Тюлип и с воем рванул со всех ног мимо кошмарной парочки и дальше, дальше…
– Стойте, месье, стойте! – крикнула девочка и попыталась ухватить его на бегу. – Может, я вам больше понравлюсь? Может, со мной пойдете? Может… Месье! Месье! Слишком поздно, ушел… Вот тебе, дура!
Тюлип услышал звук пощечины и подавленный стон.
– Ду-ра! Бестолочь! – бесилась девчонка. – Упустила его! Не смогла удержать! На тебя уже никто, даже мертвец не польстится! Крыса и та сбежит! Ушел… Ну, что мы будем завтра есть?
– Знай я, что и на том свете будет то же самое, – плачущим голосом сказала женщина, – не стала бы умирать. Не открыла бы газ!
– Ушел, он ушел! – причитала девочка. – Вот ду-ра!
Вскоре голоса смолкли. Тюлип долго бежал, потом шел шагом и наконец остановился, еле переводя дух. Пот лил с него градом. Он утер его дрожащей рукой. И даже попробовал пошутить:
– Никогда не сказал бы, что эта шлюха мертва! Право слово! Еще немного – и поцеловал бы ее в губки!
Он зашелся судорожным смехом. В потемках смех метался меж каменных стен и гулким эхом возвращался обратно, словно исходил из огромной разинутой глотки – хохочущий мрак…
– То-то была бы промашка! – фальцетом пискнул Тюлип, пытаясь обуздать дрожь в коленках. – Так промахнуться очень скверно. И опасно. Я-то знаю! Вот у моей жены был постоялец, который, помню, так и влип! Он жил в комнате напротив другой, которую снимала одна потаскушка, девка с панели. Вроде той, что мне попалась только что! Хи-хи-хи! Ой, не могу, уписаюсь…
Он расстегнул ширинку и помочился. В темноте журчала по камням струя и стучали его зубы.
– Но девчонка при этом славная. Платила исправно. А деньги не пахнут. Вернее, пахнут… И недурственно, хи-хи! Так что жена помалкивала и только требовала, чтобы “девица, как приходит, хорошенько вытирала ноги”. Ну, ноги она вытирала хорошенько, и супружница моя была довольна. А рядом с ее комнатой была наша с женушкой спальня. Ну и вот, однажды ночью этот квартирант задумал подкатиться к цыпочке да чуток с ней позабавиться. Но ошибся дверью, бедняга, и ввалился к нам. Я не спал, лежу себе и вдруг слышу – кто-то крадется по-волчьи мимо моей кровати и – плюх! – ныряет в женину койку! Да ну нашептывать всякие нежные словечки. Я понял, что он промахнулся, но молчу… потеха! Затаился и слушаю, как он там крякает и пукает в любовном пылу. “О-о! – стонет. – Милая! Ого-го!” И старуха моя ему вторит: “О-о! Милый! Ого-го! Вот это, – говорит, – я понимаю, любовь! Слушай, Тото, да бери пример, старый ты хрыч!” А надо вам сказать, моя супружница, хоть ей пошел седьмой десяток, пердит как из пушки, ей-ей! Прям канонада! В общем, они наяривают вовсю, а я слушаю и про себя ухмыляюсь: то-то рожу он скроит, когда увидит, какая промашка вышла! Ну, возня все тише, стихает совсем, он вздыхает: “Мими, дорогая!” А жена ему спокойненько: “Я не Мими. Меня зовут Фернанда!” Красавец наш как взвоет, как вскочит с постели, как зубами заклацает! “Как так? Кого ж я дрючил?” – “А вот кого!” – я говорю и включаю свет. Стоит он такой, в чем мать родила, хрен висюлькой, зенки вылупил – то на меня глянет, как я со смеху помираю, то на мою старуху, она тоже корчится, аж лохматка трясется, – посерел, позеленел, волосы на себе дерет, заорал благим матом да такую истерику нам закатил – водой отливать пришлось, чтоб очухался… Мы с женой еще долго этот финт вспоминали, всем соседям рассказали, они тоже надрывали животики. А жилец в конце концов от нас съехал, не выдержал – весь квартал над ним насмехался… Так и было, ей-ей! Скверное это дело – промахнуться. И опасное! Брр!..
Газовый шантажист
Тюлип сжал зубы, чтобы не слышать, как они стучат. Тогда у него начала трястись вся голова. Все же постепенно он успокоился и еще раз от души помочился. Тут ему совсем полегчало, и он уже вытянул руки, чтобы ощупью двинуться дальше в кромешной тьме, но вдруг – крысиный писк, кошачий мяв, взмах крыл летучей мыши, – и три мерзейших скелета, откуда ни возьмись, возникли посреди прохода и, хрустя костями, опустились на корточки около заросшего мхом могильного камня. Маленький жевал кусок голландского сыра, большой держал перед собой истекавшую воском свечку, а средний что-то рассказывал.
– Ну да, – веско сказал он скрипучим женским голосом, – последний раз мне разрешили выйти на поверхность… года два, что ли, тому назад. Или, может, чуть меньше… Под землей время летит так быстро! Во всяком случае, тогда еще у меня оставалось достаточно мяса на костях, чтоб можно было показаться на глаза живым. Хотя черви к тому времени уже завелись, а внутри так и вовсе все изъели: сердце, брюхо, печенку… Кишмя кишели, ползали, извивались, щекотались, в костяшки забирались… страшное дело, как эти твари костный мозг обожают! Самое для них лакомство. Но снаружи-то еще было не видать. Разве что в метро от меня пованивало. Так, самую малость! Первым делом я, понятно, к деткам своим побежала. Всех навестила: Кармен, Ноэми и Жюло… Думала, им приятно будет, они же так любили свою мамочку! Начала с младшенькой, с Кармен. Их с мужем тогда еще из старого дома не выкинули, но, похоже, к тому шло – я, как вошла, на хозяина наткнулась. Маленький такой, толстенький, с бакенбардами. Консьержку распекал за то, что уголь у него воровала. Латижели, говорите? Сейчас узнаю, дома они или как. “А зачем вам Латижели?” – консьержка спрашивает. “Вам-то, – говорю, – что за дело? Может, я мамаша ихняя”. – "Мамаша? – говорит хозяин. – Так может, вы, дамочка, заплатить за них желаете? А то они уж целый год как не платят!” А я ему: “Сами вы дамочка! Что ж вы их на улицу-то не выставите?” – “Чего-чего?” – он спрашивает. А консьержка ахает: “Ну и ну!” И вылупились на меня оба. “Чего, – говорю, – уставились?” – “Да так, – хозяин говорит, – ничего. Мы-то, – говорит, – думали, вы взаправду мамаша ихняя”. – “Мамаша, – говорю, – и есть. И что с того?” – “Да так, – говорит, – ничего. Мое дело сторона. Но коли уж вы к ним идете, передайте: еще раз кто-нибудь из их паршивцев на лестнице напрудит или кучу навалит, шею сверну!” – “Во-во!” – консьержка поддакивает, а сама меня оглядывает да принюхивается. “Чего, – спрашиваю, – опять уставилась, гусыня? Мое, что ли, дерьмо на лестнице?” – “Сама гусыня! – отвечает. – Дерьмо-то не твое, но ты его, похоже, жрешь!” Я ей: “Шалава!” Она мне: “Ханжа!” Я ей: “Мразь!” Она мне: “Стерва!”
– Господи помилуй! Агониза, милочка! – вскричал большой скелет, взмахнул свечой и стыдливо прикрыл лицо. – Какие ужасные слова! Вы вводите нас в краску! Правда, Падонкия, милочка?
Скелет с голландским сыром открыл было рот, но, не найдя что сказать, снова стал шумно жевать.
– Что хочу, то и говорю, Полипия, милочка! – огрызнулась рассказчица. – Так вот, я, значит, ей: “Мразь!” А она мне: “Стерва!” Мы бы собачились и дальше, да вмешался хозяин. “Хорош! – говорит. – Не заводитесь. А вы, мадам, скажите там, чтоб через две недели духу их тут не было. Не надо мне от них и денег, пусть только убираются! Терпеть не могу малявок!” Плюнул на пол и пошел прочь.
– Ну и скотина этот ваш хозяин! – рявкнул высокий скелет, так что у Тюлипа мурашки по спине побежали, а подземелье ответило гулким эхо. – Ну и скотина! Правда, Падонкия, милочка? Детишки – это же чудесно!
– Да! – с вожделением согласилась пожирательница сыра. – Особенно прожаренные в меру, да с хренком, да с каштановым пюре! Ммм…
Она сочно рыгнула, вздохнула и снова принялась за свой кусок.
– Так вот, – продолжила Агониза. – Он, значит, плюнул и ушел. А я консьержке говорю: “Паскуда!” – и харк ей в рожу. А она мне: “Падаль!” – и тоже харк! Тогда я снова харк! И, чтоб последнее слово за мной осталось, дунула вверх по лестнице и постучала к своим в дверь. Слышу: “Кто там?” – голосок моей Кармен. И тут же голос Люсьена: “Это хозяин, душечка! Я открываю газ!” – “Да погоди, – говорит ему Кармен, – вдруг он нам даст последнюю отсрочку!” – “Не даст, не даст! Нет, душечка, я открываю газ!” А Кармен отодвинула засов, видит – это я. “Ой, мама! Это мама!” – говорит, а сама побелела. Я ее потрепала по щечке, гляжу, а из другой, полуоткрытой двери высунул голову Люсьен. Как увидал меня, как заорет: “Батюшки-светы! Газ! Открываю газ!” Тут у него между ногами пролез малец, бегом к Кармен и ну тянуть ее за юбку. Она: “Чего тебе, малыш?” А он, сопляк, хихикает: “Да вот Жожо опять сожрал… ”
При этом слове скелет с голландским сыром отчаянно заскрежетал костями:
– Что, что сожрал?
Большой скелет рывком вскочил, крутанул пируэт и тоже крикнул:
– Да! Что же? Говорите скорей, Агониза!
– Так не перебивайте меня каждую минуту! – с досадой взвизгнул третий. – “Да вот, – сопляк хихикает, – Жожо опять сожрал… пуговицу от своих штанов!”
– Ммм… – со смаком протянула пожирательница сыра.
– Кармен всполошилась, побледнела еще больше: “Он же умрет! Несчастное дитя умрет! Люсьен! Люсьен! Не стой столбом! Сделай же что-нибудь!” А он стоит и хлопает глазами, весь тоже белый. “Я только одно могу, моя душечка, сделать – открыть газ!” А малец ему: “Задолбал ты нас своим газом!” – и ухмыляется. “Слышишь, душечка? – это уже Люсьен моей доченьке. – Нет, ты слышишь, что несет твой сыночек!” – “И правильно! – я говорю. – Ничего с молокососом не сделается. Не помрет. А и помрет – одним ртом будет меньше, не беда!” Кармен бледнеет еще пуще: “Мама!” А Люсьен говорит: “Слышишь, душечка? Нет, ты слышишь, что несет твоя мамаша? Я открываю газ!” Но не тронулся с места. А малец, руки в карманы, говорит им: “Не знаю, – говорит, – что вам обоим не понравилось! По мне, так она клевая!” И дерг мать за юбку: “Это что, моя бабка?” – “Ну да”. – “Вот здорово! Мне бы такую цыпочку! – малец-то говорит. – Матерая. Небось работает как зверь!” А я и говорю дочурке: “Кармен, доченька, малыш-то – вылитый покойный твой папаша. Держи, – говорю, – сорванец! Выпей за мое здоровье!” И даю ему монетку двадцать су. Он цап! – и поскорей ее разглядывать, ощупывать, обнюхивать, подкидывать… на зуб попробовал, одобрил, сплюнул и юрк назад между отцовских ног. А Люсьен говорит: “Слышишь, душечка? Нет, ты слышишь, что несет твой сыночек?” – “Да слышит она, слышит, – отвечаю. – Вы нас уже достали! Шли бы уж, что ли, открывать свой газ!” А он мне: “И открою! Слово чести! Но у меня тут кой-какой должок остался! Хи-хи-хи-хи!” И ржет, да так, что глаза закатились и зубы стучат. “Кармен, – говорю, – он, что ли, тронулся?” А она: “Ничего он не тронулся! Но ты же знаешь, он уже пять лет как ходит без работы”. А тут малец опять выныривает у папаши между ног: “Мама, мама! – кричит. – Вот потеха! Я дал Жожо спички, а он их сожрал!”
– Ммм! – облизнулась пожирательница сыра.
– Люсьен опять свое: “Я открываю газ!” – и ни с места. А Кармен побелела: “Боже мой! Зачем, Нене, ты дал малютке спички? Целых сорок сантимов коробка, а в доме денег нет, ты что, не знаешь?” А тот ей важно так: “Не в деньгах счастье! И потом, я ж не думал, что он их сожрет. Я думал, только так, пожар устроит, да и всё!” А Люсьен: “Слышишь, душечка? Нет, ты слышишь, что несет твой сыночек?” А Кармен в слезы: “Кто, как не ты, мне его заделал!” А я: “Что правда, – говорю, – то правда. Детишек делать, это вы умеете!” Люсьен опять: “Я открываю газ! – Аж зубами скрежещет. – Кто виноват, что ваша дочь, только тронь, сразу и забрюхатеет?” – “А кто вас просит трогать? – говорю. – Кто вас просил на ней жениться?” Он: “Ха-ха-ха! Слышишь, душечка? Опять твоя мамаша завела свою старую песню!” – “Никакая, – говорю, – это не песня, а чистая правда! Зачем вы увели Кармен, мою малютку! Она мне так была нужна!” А он: “Нужна, конечно! Чтоб на панель послать! Я открываю газ!” А я ему: “Повесьтесь лучше – дешевле обойдется!” А он: “Как ни крути, а похороны, дорогая теща, оплачивать-то вам!” – “Еще чего! – я говорю. – Безработных никто не хоронит. Выкидывают вон к чертям собачьим!” Он чуть не захлебнулся. “Слышишь, душечка?! Нет, ты слышишь, что несет твоя мамаша?” А тут опять малец пролез между отцовских ног: “Хватит вам уже лаяться! Жожо опять сожрал носок!”
– Ммм… ммм! – промурлыкал скелетик с голландским сыром.
– Кармен побледнела: “Носок? Да нету у Жожо носков!” Малец заржал: “Известно, нету! – говорит. – Так это не его носок. Отцовский! Это я ему дал”. Люсьен опять: “Слышишь, душечка? Нет, ты слышишь, что несет твой сыночек? Он угостил Жожо моей последней парой носков! Придется мне теперь ходить на босу ногу! Слыхала, ты слыхала, душечка?” – “Да устыдится кто подумает плохое!” – говорит малец. “Откуда, – говорю, – он этих умностей набрался?” – а сама сую ему в ладонь еще двадцать су. А Кармен говорит: “Он же поет в церковном хоре. И господин кюре немножечко с ним занимается”. Малец пролез между отцовских ног обратно. А я и говорю: “Я только что видала вашего хозяина. Он сильно недоволен. Кто-то из ваших ребятишек пускает лужи и наваливает кучи прям на лестнице. Который это?” – “Скорей всего, Петрюс, – отвечает Кармен. – А может, и Бебер. Или же тот, которого Люсьен заделал мне на той неделе”. – “А вот и нет, не они! – сказал Люсьен, такой весь гордый. – Это я! Чтобы позлить хозяина!” – “Да он уж, – говорю, – и так на вас зол, вы же ему не платите!” – “А чем платить-то? – он чуть не кричит. – Я только и могу, что вашей дочери строгать детишек! Хе-хе-хе!” – “И как она вас терпит! – говорю. – Значит, работы у вас так и нет?” – “Так и нет, – говорит. – Но это скоро кончится!” – “Есть что-то на примете?” – говорю. Он отвечает: “Есть. Газ. Пойду открою газ!” – “Опять, – я говорю, – он за свое! Так вот, послушайте, что я вам скажу… ” – “Ты хочешь дать нам денег, мама?” – говорит Кармен и бледнеет. “Еще чего! – я говорю. – Не надейся. Но я дам вам совет”. – “Подавитесь вы своим советом! Нам он не нужен!” – разоряется Люсьен. И тут малец опять выныривает из-под отцовских ног и кричит: “Мама! Мама! Жожо сожрал заколку для волос!”
– Ай, молодец! – одобрил тот скелет, что грыз голландский сыр.
– А Кармен побледнела: “Боже мой! Как же это случилось, Нене?” – “Ну, – говорит Нене и смотрит на меня, – я сам ему и дал”. А Люсьен ухмыльнулся: “Шутки ради небось?” – “Не угадал, папаша, – говорит малец. – Чтоб старая карга еще баблишка мне подкинула!” Ну, я растрогалась, конечно, сую ему в ладонь еще сто су: “Держи-ка, сорванец!” Он мне: “Спасибо, клюшка! Теперь пойду и, в бога, в мать, скормлю ему ботинок!” И юрк назад между отцовских ног. Ну а папаша снова за свое: “Хо-хо! Пойду открою газ!” А я и говорю Кармен: “Кто это, – говорю, – кто научил мальца так отменно ругаться?” – “Да говорю же: он поет в церковном хоре. И господин кюре немножечко с ним занимается”. И тут вдруг с лестницы донесся ор, и стук, и грохот, трах-бах– трахтарарах! “Что, – говорю, – такое? Пожар?” А Кармен побледнела: “Это они!” – “Ребятки?” – говорю. “Ага, ребятки”. Открывает дверь – и целая орава буйно вваливается в квартиру. Я глянула на этого Люсьена, обормота, и говорю: “Вам бы пробкой заткнуть сами знаете что!” Он собирался мне ответить, что сейчас откроет газ, как вдруг малец с диким воплем пролезает между его ногами и бросается к Кармен. Та побледнела: “Что еще такое, боже мой?” Малец ревет: “A-а! A-а! Жожо сожрал сто су, которые старуха мне дала… A-а! А-а!”
– Ах, лапочка Жожо! – мечтательно вздохнул скелет с голландским сыром.
– Тут кто-то слабенько поскребся в дверь. Открывает Кармен – а там, прям на полу, еще один ребеночек, совсем младенчик, ползунок, такой весь розовенький. “Это что, последний?” – “Пока последний… ” – говорит Кармен и в слезы. Гляжу я на младенчика, а он на меня, прищурился и палец на ноге сосет. “Ага, бабуля, – говорит, – вот так оно и есть. Сестренки с братцами меня на землю уронили и оставили. Просто ужас!” А я ему: “А ты чего хотел? Еще бы не хватало, чтобы тебя, бездельника, таскали на руках!” А он мне: “Да ты что, ядрена вошь, не понимаешь, что ли? Я ж еще не умею ходить!” Кармен его взяла и собиралась унести в другую комнату, но он как разорется: “Нет! Не хочу! Там Жожо, и он меня сожрет!”
– Ах, лапочка Жожо! – со вздохом промурлыкал скелет с голландским сыром.
– Так мал и так умен! – воскликнул высокий и возвел глазницы к небу.
– Так вот, – продолжила Агониза, – Кармен кладет его на пол, и ладно. “Ну, мама, – говорит, – что ты нам посоветуешь?” А Люсьен ей шипит: “Предупреждаю, душечка, мне ее советы не нужны! Лучше открою газ!” Я ноль вниманья на него и говорю: “Что ж, – говорю, – пока ты не сбилась с пути и не связалась с этим обормотом…” Люсьен орет: “Сама такая!” – “Пока не вышла замуж за это ничтожество… ” Он мне: “Заткнись!” А я как будто и не слышу: “… ничтожество, да-да… Так вот, пока ты не сбилась с пути, ты была хорошей, послушной девочкой и должна была заняться делом, как сделала потом твоя сестренка Ноэми, которая тебя так любит… ” – “Заткнись! – опять орет Люсьен. – Я открываю газ! Сейчас же!” – “Сам, – говорю, – заткнись. И не мешай мне разговаривать с моей дочуркой. Я ведь и имя тебе выбрала нарочно, назвала тебя Кармен – звучит красиво, нравится клиентам. Но ты, бедняжка, сбилась с пути, вышла за этого разгильдяя, и вот вы подыхаете с голоду: и ты с детишками, и твой никчемный муженек. Ну а я, твоя мать, которая всегда тебе добра хотела, чтоб ты жила счастливая, как ангелы в раю, – пришла тебе на помощь и говорю: пойдем со мной, я отведу тебя к Гриппине, она святая женщина, будет любить тебя, как дочь, беречь, как зеницу ока, как сосок груди, а ты будешь спокойно работать, жить-поживать у нее в доме, как твоя сестренка Ноэми, и печали не знать… аминь!”
– Аминь! – эхом отозвался большой скелет. – Ах, милочка Агониза, она так добра! Ведь правда, милочка Падонкия?
Но та ничего не ответила – вся поглощенная своим голландским сыром.
– И тут Люсьен, – продолжил третий скелет, – позеленел, как не знаю что. “Заткнись, – завизжал, – ты, падаль!” А я ему: “Сам заткнись! И не мешай мне разговаривать с моей родной дочуркой! Пойдешь со мной, Кармен, дорогуша? И сразу все наладится, уж я-то знаю: когда у женщины есть свой пастух, она уж вкалывает будь здоров!” А Кармен побледнела и говорит: “Не хочу я, мама, заниматься этим ремеслом! Лучше умру с моими детками, их вшами и моим Люсьеном!” Тут я не выдержала и кричу: “Ну так запомните, ни гроша от меня не получите! Сами сдохнете с голоду, а ребятишек ваших их же вши сожрут!”
– Ммм… – облизнулась пожирательница сыра.
– Люсьен давай вопить: “Я открываю газ! Я открываю газ!” А тут малец пролез между отцовских ног и говорит: “Чего это вы разорались? Малыш Жожо сказал, что хочет есть”. Тогда я вынула из сумки перочинный ножик, открыла да и говорю: “Держи-ка, сорванец! Поди отдай Жожо!” А Кармен в слезы: “Мама!” И тут младенец на полу открыл свой ротик и говорит: “Едлить твою в бога, в мать! Вот семейка! Хоть бы газеточку какую, сто ли, дали почитать… А то умлёшь со скуки!” А Кармен видит – я ухожу, одной ногой уж за порогом, побледнела, завыла: “Мама! Не уходи просто так! Дай нам хоть что-нибудь, пока Люсьен не подыскал работу!” А я задрала юбку да как пёрну: “Вот вам! И больше мне вам нечего дать!” Кармен побледнела: “Ох, мама!” Люсьен всё “газ” да “газ”: “Открою газ!” И тут вдруг входит господин в приличном канотье, с папкой под мышкой и спрашивает: “Семейство Латижель?” – “Латижель”, – отвечаю. “Отлично. Я от газовой компании – пришел перекрыть вам газ!” Люсьен ему растерянно: “Позвольте… Я не понял!” А тот ему: “Да что тут понимать, приятель! Я отключаю газ, и точка. А не хотите – извольте заплатить, вот и все”. – “А сколько, – спрашиваю, – надо? Что-что, а это оплачу вам с превеликим удовольствием! Пожалуйста!” Я оплатила счет, и господин пошел, насвистывая, восвояси. А я им всем: “Прощайте! Прощай, бедняжечка моя Кармен! Прощайте, Нене, Тотор, Жожо, Бебе, Петрюс, все ваши братики с сестричками, какие уже есть и еще будут, ваши голодные животики и такие же вши! Прощай, ничтожный обормот! Прости тебя Бог! Он еще и не таких прощать насобачился, с тех пор как стал католиком. Только давай побыстрее газ-то открывай, не тяни, а то я не люблю бросать деньги на ветер. Прощайте все! Аминь!”
– Аминь! – сказал большой скелет, перекрестившись.
– Аминь! – смиренно повторил скелет с голландским сыром.
– Аминь! – подхватило могильное эхо.
– Аминь! – робко пискнул Тюлип.
Повисла тишина. Потом большой скелет пошмыгал носом и шепотом сказал:
– Неужто… клянусь… Да точно! Тут пахнет мужским духом!
– Мужчина? Здесь? – удивился скелет с голландским сыром.
– Здесь? – удивилось эхо.
– Мужчина… – начал было Тюлип, но с ужасом сообразил, что он и есть этот мужчина, и, испуганно взвизгнув, помчался прочь по темному туннелю.
Но далеко не убежал. Очень скоро его настигла волна голосов – жуткий, адский, дикарский рой, – захлестнула, ворвалась в уши и милостиво предупредила: лучше посторониться, убраться с дороги… Он так и сделал: притаился за первым попавшимся надгробием и стал ждать.
– Едрить тя в бога, в душу! – раздался милый детский голосок. – Темнотища, выколи глаз! Совсем как у тебя в утробе, мама! Только там, помнится, еще и дышать было нечем – папаша затыкал отдушину. Брр… Зажги скорее спичку, мудак!
– Слышишь, душечка? – занудил мужской голос. – Нет, ты слышишь, что говорит твой сыночек?
– Нене! – устало проговорил женский. – Сколько раз я просила тебя не ругаться? А уж сейчас-то и подавно не место и не время!
– Какого хрена! – дерзко отвечал ребенок. – Я, что ли, виноват, что мы здесь очутились? Если бы этот мудак не трогал газовый кран…
– Слышишь, душечка? Нет, ты слышала, что он сказал? – опять запричитал мужской голос и зазвенел трагически: – Я знаю, знаю сам, мои родные! Да, я преступный отец! Но разве мог я подумать, что конца нашим мукам не будет!
– Иди ты на хрен со своими муками! Чему и правда нет конца, так это твоему занудству!
По стенам подземелья заплясали блики света, и вот вся-вся семейка с эпическим, доисторическим, библейским, апокалиптическим гвалтом продефилировала перед Тюлипом. Впереди – руки в карманы, окурок в зубах – вышагивал малец. За ним валила свора разновозрастной и разнополой детворы. Куча-мала в два-три десятка сорванцов неслась клубком и кувырком, как многоглавая гидра или лихой гигантский спрут навеселе, со щупальцами вразлет. Все это месиво орало, мельтешило, топало, толпилось, растекалось, пускало слюни, ссало, пукало, блевало, сжималось, разжималось и толкалось, совало пальцы в рот и в глаз и в зад; и от него несло мочой, дерьмом, козлиным духом и пахло материнским молоком. И тут хватало всякого: большого, малого, короткого и длинного, кургузого, округлого, квадратного, параболического, яйцевидного, трапециеобразного, усеченно-конического, выпуклого, вогнутого, горбатого, прямого, стоячего, торчком, болтом, бананом, огурцом, висячего, соплей, тряпицей, съёженного, молодцом, упругого, зеленоватого и красноватого, синюшного и с желтизной, чернявого и белобрысого, и лысого, и рыжего… Оно кишело гнидами и вшами, клещами, блохами, глистами, было покрыто струпьями, грибками, лишаями и паршой. Все в язвах, чирьях, колтунах, экземе и прыщах. Оно хворало и чахоткой, и чесоткой, коклюшем, краснухой, золотухой и чернухой, подагрой, астмой, простатитом, хореей, гонореей и дурной болезнью – наследственной, в подарок от отца, от матери, от предков, и личной! собственной! самостоятельно приобретенной! своими средствами! Вся эта молодь, разухабистая, бодрая, неслась мимо Тюлипа, сперма земли, семя рода людского, неумирающее сорное зерно! с гнилой, нечистой кровью, искони испорченной отравой, гнусными микробами, отборнейшей заразой! первостатейной! уникальной! Экстра-класс! на выбор! лучшая коллекция! только для вас! свободный вход! бесплатный выход! неистребимое зерно! мощный выброс! боекомплект трухлявых хромосом-уродов, шизиков, бандитов-прохиндеев! живучие, упорные семена! они повсюду всходят! прорастают! в сортире! в борделе! в грязи! в нищете! на войне! на крови! в голодуху! в огне! среди злобы и смерти! где, как и в ком угодно! за девять месяцев! Раз-два! Раз-два! Левой! Левой! шалопай! весельчак! головорез! сопляк! проныра-шкет-отродье шлюхи, добрый пастырь несытых паршивых овец на выгоне тысячелетий! Орава бушевала, гомонила, так что у Тюлипа чуть не лопались барабанные перепонки. А позади шла мать, святая, дивный образ. Тащила двух малюток, подхватив обеими руками, а третьего – в животе. И истошно кричала:
– Осторожно, ребятки! Мои милые детки! Тихонько! А не то зашибетесь!
– Пошла ты! – отвечала свора.
– Поосторожнее, прошу вас! Умоляю! Ангелочки мои! Херувимчики! Здесь столько камней!
– Ага! Жожо как раз один сожрал! – орала свора.
Они помчались дальше, а сзади показался муж.
Супруг! Мужчина! Отец семейства! Предводитель! Производитель! Мозг костей человечества! Его хребет! Его сперма, вы слышите, сперма! Он полубог! Квинтэссенция! В рубахе и жилете, с пенсне на носу Он яростно отбивался от настырных детишек – несколько самых мелких ошивались у него между ногами, кусали на ходу за яйца, забирались под брюки, пролезали в карманы, дергали за волоски, карабкались, куда могли, мочились ему в ладонь, испражнялись в другую, отгрызали пуговицы, глотали их, выблевывали, снова глотали, кое-как переваривали. Он отбивался, стряхивал детишек, но они возвращались, он их кусал – они совали ему пуговицы в рот, и он, давясь, глотал. И причитал:
– Видишь, душечка? Ты видишь, что они творят, твои детишки? Так для чего же, спрашивается, открывал я газ? Но все равно – я-не-жа-ле-ю! Нет, душечка! Ведь кое-что мы выиграли: уж больше твоя матушка не явится нам докучать!
Едва он произнес эти неосторожные слова, как в дальнем конце подземелья послышался голос:
– Да неужели? Это же Кармен! Кармен, моя дочурка!
– Мама! – взвыла несчастная.
А муж не сразу понял, что случилось. Застыл, оторопев, пока детишки лопали его жилет. Потом, не говоря ни слова, крутанулся и задал стрекача, а вся шарага – следом, швыряя в родителя камни, осыпая отборной бранью и увлекая за собою матушку с двумя малютками в руках и третьим в животе, она тоже кричала – куда же ты, милый! – и три мерзких скелета насмешливо гикали и бежали за ними вприпрыжку…
Наконец все умчалось и стихло, и Тюлип вылез из укрытия.
Не шевелиться!
От земли шла промозглая сырость. Тю-лип брел вперед, дрожа всем телом. Каждый раз, когда его вытянутая в потемках рука натыкалась на стенку, она покрывалась ледяными каплями. Струйки воды стекали по камням. С противным жирным хрустом лопались под ногами тараканы. Разбегались во все стороны крысы. Пахло плесенью, сырой землей, влажным камнем. Многократное эхо его шагов отдавалось и замирало далеко позади, как будто его преследовала целая толпа мертвецов. Тюлип долго бежал, потом замедлил шаг и наконец вышел к просторной могиле, освещенной сальными свечками.
– Всем привет! – проговорил он, еще не успев отдышаться.
Ответа не последовало.
Посередине могилы скелет с надвинутым на глазницы козырьком и со свечкой в руках лихорадочно суетился вокруг ржавого фотоаппарата.
– Не шевелиться! – прокричал он гулким, как из бочки, голосом, и все кости его заскрипели. – Сейчас вылетит птичка! Не шевелиться!
Перед объективом стояли шестеро рослых легавых в сюртуках и рубашках с жесткими воротничками, из-за которых они так высоко держали голову, словно их распирало от гордости или от их жилетов дурно пахло. На лацканах красовались подобающие форменные нашивки: два скрещенных зонтика и сверху шляпа-котелок. Ниже пояса все шестеро были абсолютно голые, если не считать громоздких сапог на ногах. Они стыдливо прикрывали руками срамное место, зато сзади взору наблюдателя открывался ряд мясистых розовых задниц, – видимо, в таком виде их похоронили.
– Внимание! – возгласил скелет, скрежеща челюстями. – Сейчас вылетит птичка… Сейчас, сейчас…
Он приник к аппарату, поднял свечу и собирался нажать на спуск, но тут второй справа легаш чихнул, да так сильно, что рухнул, распался, разлетелся в прах; когда же этот прах рассеялся, Тюлип с удивлением увидел, что от легавого остались только сапоги, усы, котелок да зонтик.
– Насмарку! – Скелет заломил руки. – Все насмарку! Опять насмарку!
– Не ори! – сказали легавые. – Давай еще раз! Начинай!
– Я-то, конечно, начну, – вздохнул скелет. – Но, господа, прошу вас, будьте внимательны! Готовы? Приступаем… Раз… два…
Он протянул дрожащие костяшки к спуску… Но не успел прикоснуться, как из пупка четвертого легавого слева высунула голову жирная крыса, с любопытным видом зашевелила усиками и осведомилась:
– Что это тут такое делается?
– Насмарку! – исступленно крикнул скелет. – Все насмарку! Опять насмарку! Эта тварь получится на снимке!
– Ну вот еще! – встрепенулся легаш и хлопнул по носу свою квартирантку. – Пошла вон!
– Подумаешь! – возмутилась крыса. – Уж и к окошку не подойди! В духоте, что ли, сидеть?
Она злобно плюнула и, ворча, втянула голову обратно.
– Не шевелиться! – прошептал скелет, утирая слезы. – Раз… два…
– Хи-хи-хи! – Крыса снова высунула морду наружу и тут же втянула ее обратно.
– Насмарку! – взвыл скелет. – Опять, уже в две тысячи семьдесят второй раз все насмарку! Боже правый! За что мне такие муки!
Он уселся на землю и залился слезами.
– Да ладно тебе! – в один голос сказали легавые. – Ничего не попишешь, у каждого свой крест. Если уж ты жалуешься, то что остается делать другим?
И вытянули руки в одну сторону… Тюлип поглядел туда и увидел странную сцену. На камне понуро сидел покойник. Руки его с распухшими пальцами были скованы наручниками. Оба глаза подбиты – под одним красный фонарь, под другим синий, нос раскровавлен, само лицо белое как полотно – и все это вместе смотрелось как диковинный триколор. Несчастный плакал, дрожал и утирал слезы концом савана. Над ним склонился здоровенный легаш с засученными рукавами и дубинкой в руках.
– Сознаешься? – глухо рычал он. – Сознаешься?
– Нет, нет! – рыдал покойник. – Не сознаюсь! Ни в чем не сознаюсь!
– Так вот тебе! – рявкнул легаш и со всего маху огрел его дубиной по черепу, отчего раздался страшный гулкий звук. – На тебе! На! И еще!.. Не думай, что мне приятно тебя лупить, но Господь Бог послал меня именно для этого. И зря ты упрямишься. Сознайся лучше – я перестану тебя избивать, составлю протокольчик, и будешь себе спокойно дожидаться Страшного суда. А там – не боись! Кому при жизни хорошо досталось, тому не страшен ад. Так признаешься?
– Нет, нет, нет! Я ни в чем не виноват! – взмолился покойник. И в ту же секунду дубинка снова обрушилась на его голову.
– Вот тебе! Вот! Вот! – ревел легаш. – У меня еще и не такие невиновные сознавались!
– Не шевелиться! – снова завопил скелет, которому вид этой пытки, кажется, придал новых сил. – Сейчас вылетит птичка… Внимание… Раз… два…
И тут ни с того ни с сего голова первого легаша слева свалилась с плеч, покатилась, как шар, по земле и сшибла штатив, на котором крепился фотоаппарат.
– Насмарку! – взвыл скелет и стал рвать на себе несуществующие волосы. – Опять все насмарку! Еще век этих мук, и я исправлюсь.
Тюлип раскланялся со всей компанией, попятился и вскоре опять очутился в сыром подземелье.
– Страшное дело, сколько здесь полицейских! – пробормотал он. – Знать бы заранее, так я прихватил бы с собой полицид… моя супружница всегда держит бутылочку в кухонном шкафчике. Не то чтобы у нас водились блохи… или, тем более, легавые, но бывают жильцы… особенно безработные… которые так привыкли, что в постели полно блох и вообще кругом кишат паразиты, что если в комнате не пахнет полицидом, им не спится… глаз сомкнуть не могут! Ворочаются… пыхтят… сопят… Знают, что у нас чисто, бояться нечего… но собачья жизнь приучила их к этому запаху, и, когда его нет, им жутко не по себе, они боятся, их тошнит, а некоторых просто рвет. Ничего не поделаешь. Привычка – вторая натура. Вот жене и приходится обрызгивать все полицидом: подушку, простынки, ихние рожи… и они это нюхают, лижут, воняют… и спят сном праведников!
Пройдя еще несколько шагов, Тюлип услышал громкий хор:
- Ах, от скуки мы психуем!
- Ах, от скуки мы психуем!
- Ах, от скуки мы психуем,
- Мы психу-у-у-ем…
- Ой, люли!
– Это что такое? – удивился он.
– Да это поют те, кто в раю, – любезно объяснил проходивший мимо покойник со свечкой в руке и салфеткой под мышкой.
– Спасибо, месье! – вежливо поблагодарил Тю-лип.
– Не за что, месье, – учтиво ответил тот. И пошел себе дальше.
Неизвестный солдат
Тюлип прошел еще немного, сам не зная куда, по узкому подземному ходу и вдруг наткнулся на что-то твердое…
– Сплошные камни! – недовольно проворчал он.
– Камни, говоришь? – произнес гнусавый голос, казалось идущий из-под ног. – Ну так ты, дружище, ошибаешься, и вот тебе доказательство… на!
Тюлип взвыл – его больно тяпнули за ногу. И смачно выругался:
– Ах ты ж, погань, мать твою в душу!
– Неплохо! – спокойно заметил тот же голос.
Из осторожности Тюлип сделал шаг назад, чиркнул спичкой и понял: то, что он принял за камень, было на самом деле головой; да-да, на земле, среди стеклянных осколков, пустых консервных банок и грязных тряпок валялась голова с гривой рыжих волос, залихватскими усами и в немецкой каске.
– А ну, иди сюда! – приказала голова. – Кусаться больше не буду. Нагнись… вот так. А теперь давай-ка живо почеши вон ту шишку у меня на лбу… Ой-ой-ой! Полегче! Как она – большая? Это ты постарался!
– Прости, приятель! – пробормотал Тюлип. – Я ведь не нарочно.
– Какая разница! – огрызнулась голова. – Топтать вот так вот голову Неизвестного Солдата из Фужер-сюр-Бри!
От удивления Тюлип забыл про шишку и выпрямился. Спичка у него в руке погасла.
– Чеши! – требовательно сказала голова в полной тьме.
Тюлип нагнулся снова и нащупал шишку.
– Но я сам из Фужер-сюр-Бри, – с воодушевлением воскликнул он. – И моя жена тоже! И вся семья оттуда! И я был уверен, что ты похоронен под Триумфальной аркой на площади перед мэрией!
– Эй! Пальцем в глаз заехал, земляк! Хватит, больше не чешется. У вас там под аркой похоронен бошик.
– Не может быть! – изумился Тюлип.
– Ничего себе новость, да? – довольно сказала голова. – Ща я тебе расскажу… А ты потом своим, в деревне, перескажешь… То-то они обалдеют, как узнают! Значит, так: когда приехали меня выкапывать, я как раз играл в белот с корешем-бошем, мы с ним тут рядышком лежали. Ведь надо ж – этот самый бош меня и прикончил штыком, а я, прежде чем сдохнуть, успел всадить в него свой. Мы уж тут извинялись-извинялись друг перед другом… Обсуждали, как такое получилось. Кишки друг у друга скорбно разглядывали. Вежливыми словами обменивались. Недоразумение вышло, что поделаешь! Ну и сдружились в конце концов из-за этой истории… как-никак вместе кровь проливали – считай, породнились. В ту пору я еще целенький был: руки-ноги, все такое… разве что кишочки вываливались. В общем, играли мы скуки ради в картишки. Вот мой бош говорит: “Белот!” – и открывает карты. А я ему: “Ладно, хватит, – и бросаю свои. – Ты, Фриц, чертовски везучий! Да и что за игра, когда такой, мать твою, грохот стоит!” А это ребятки, которые приехали меня искать, лупили без устали кирками. “Эх, Попольчик, – с досадой говорит мой бош, – тепя восьмут и похоронят под Три… под Триу… Триупфальный арка! Ах, ах, ах! Под Триупфальный арка! Если п я снал, не стал пы тепя прикончить!” Головой, бедный, трясет, глаза закатывает, аж позеленел от зависти. Боши, они завсегда были охочи до знамен, парадов, почестей и прочей дребедени.
“А я, Фриц, – говорю, – боюсь со скуки там усохнуть одному-то”. Бош так и задохнулся: “Под Триупфальный арка? Ах, ах, ах!” И давай еще больше вздыхать, облизываться да слюни пускать. А там, сверху, кирки все вгрызаются в землю, точно собаки ищут спрятанную кость. “Какой дикий грохот! – говорю, – Я уж лучше сам выскочу, чтоб они только нас оставили в покое”. А бош разволновался. “Нет! – кричит. – Не телай так, Попольчик! Перепукаешь их фсех, они распекутся, и ты не попатешь под Триупфальный арка! Эх… А кстати, Попольчик, сколько ты мне толшен са все пелоты, что мы тут сыкрали?” – “Да уж верно столько, что мне никогда не расплатиться, Фриц! Говорю же, везет тебе, стервецу!” – “Ну-ну!” – кивает мой бошик. И смотрит на меня умильно так, что твой телок на мамкино вымя. “Ладно тебе, – говорю, – Фриц. Можешь не строить рожи. Я и так все понял. Олух ты, дружок, олух и есть, но если уж тебе так хочется… Тогда будем квиты?” – “Квиты, квиты! – кричит и сияет от счастья, будто я ему билет в рай подарил. – Ты есть славный парень, Попольчик! Снала пы мой петный шенушка Вюрстхен! Она пы так кортилась свой люпимый муш!” – “Ну, будет квохтать, Фриц, надо действовать. Они уже совсем близко”. И правда, кирки долбили прямо над нашими головами, еще чуть-чуть – и прорвутся! Мы быстренько поменялись касками и тесно обнялись, как пара дружбанов, так мы ж и правда были не разлей вода. “Прощай, – говорю, – Фриц! Дурень ты все же, что покидаешь друзей, чтобы гнить в одиночку, да еще в публичном месте, где тебя с утра до ночи будут донимать всякими венками, процессиями да церемониями, ни минуты покоя не дадут!” – “Прощай, Попольчик, – отвечает мой бош и пускает слезу. – Пойми, тружище, тля нас, тля бошей, книть с почетом под Триупфальный арка – это фышший класс, фышший шик, фышший плеск! Ах, знал пы мой петный шенушка Вюрстхен! Ах, ах, ах!” И тут в наше гнездышко вламывается кирка, все крушит, над нами склоняются два гнусных типа в цилиндрах и трехцветных шарфах и внимательно нас обоих разглядывают. Наконец один, трепеща, говорит: “Вот этот!” – и хватает за волосы Фрица. “Без всякого сомнения! – говорит другой. – Даже не будь на нем формы, я бы из тысячи других узнал нашего славного земляка!” Я услыхал – чуть не пернул от радости, подмигиваю Фрицу, а уж мой бошик рад стараться – хоть лежа, вытянулся по стойке “смирно”, того гляди, понимаешь, честь отдаст! Вот так и вышло, что я здесь, а бошик из Саксонии гниет вместо меня под Триумфальной аркой у вас в Фужер-сюр-Бри!
– Ха-ха-ха! – Тюлип схватился за бока. – Красиво загнул, только я никогда не поверю!
– Но почему? – удивилась голова. – Ведь это истинная правда!
– Да потому, – отвечает Тюлип и спичку зажег, чтобы увидеть, какой эффект произведут его слова, – потому что мертвые, черт побери, не разговаривают!
Рыжая башка была сражена этим железным доводом. Она порозовела, отвела глаза…
– И все-таки история правдивая! – вдруг произнес смешливый голос откуда-то сбоку. – Она напоминает мне мою старуху!
Тюлип обернулся на голос и увидал неподалеку, на куче мусора, другую голову, облысевшую, грязную и во вмятинах, как старая, поношенная шляпа.
– Старуха была что надо! Чуток блудливая, зато какая экономная! Так вот, померла она, уложили ее чин чином на кровать, я зажег по углам четыре свечки, а она вдруг как сядет, как зыркнет на меня да как гаркнет: “Ах ты, сукин ты сын! Купить четыре новеньких свечи и жечь их почем зря, когда хватило бы кухонного огарка!” Может, конечно, она не совсем была мертвая или воскресла на минутку, увидев, что я расходую четыре новеньких свечи, когда хватило бы кухонного огарка. “Нечего, – шипит, – сукин ты сын, швырять деньги на ветер! Лучше прибереги все четыре штуки! А как придет твой черед подыхать, прихвати их с собой. Предъявишь мне, не то смотри у меня… ” А потом опять плюх на спину, застыла и больше не сказала ни словечка, даже когда гвоздями заколачивали гроб. Хотя, чего уж там, в таком грохоте, даже скажи она что-нибудь, никто бы не расслышал. Ну а в тот день, когда я очутился тут, старуха мигом подлетела: “Ну, сукин сын, где свечки? Свечки где? Небось не принес?” Но я принес! Уж я-то знал свою старуху! Прикурить не найдется?
– Найдется!
Тюлип нагнулся и сунул черепушке в зубы сигарету.
– А мне? – обиделась рыжая башка. – Меня забыл? Своего земляка? А ведь моя история покруче будет!
– Так это что, вы тут соревновались? – усмехнулся Тюлип. – Предупреждать же надо!
Он выпрямился и плюнул в сердцах.
Месье Жозеф
В эту минуту мимо собеседников прошел легаш с фонарем в руке. Крохотный, бородатый, очень грустный. Он развлекался тем, что на ходу свободной рукой машинально вытаскивал из расстегнутой ширинки свое мужество и растягивал его, насколько возможно – тянул вниз и отпускал, а оно резко, со звуком, похожим на щелчок кнута, сжималось и принимало свой естественный, весьма скромный вид.