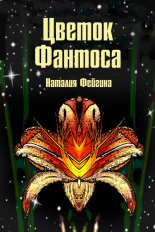Воробьиная река Замировская Татьяна
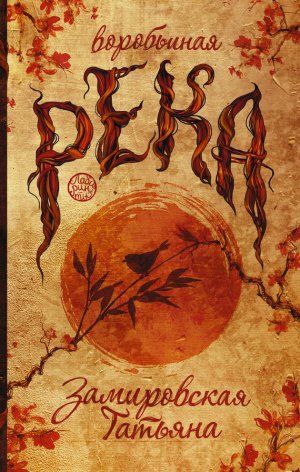
Бывшая. Жертва
Ходила по кухне, развешивала белье. Лера подняла бровь, спросила, ответил: «Это моя бывшая». Целых людей к нашему-то тридцатнику не бывает, это понятно, у кого-то коты в подвале замурованы, у кого-то бабушка за стеной хохочет, а тут бывшая с влажным, слезливым бельем. Чего-то еще хочет, чего-то еще ходит, развешивает, сонно встряхивает, чье белье, он не знал: свое, наверное, воображаемое белье из той пьяной и цветной, как пунш, жизни, которую он отказался разделить. Говорит, наверное, мучается, вот и ходит, но сама же во всем виновата. Сама виновата, довольно бормотала Лера, когда бывшая копошилась в прихожей, пьяным кулем вваливаясь сквозь дверь напролом (и Лера отмечала с удовольствием: ни разу не спросила, откуда у нее, у бывшей, вообще ключ от квартиры, потому что, наверное, зачем ей ключ, ей достаточно подумать об этой квартире, чтобы оказаться здесь) и оседала по желтым клочьям обоев вниз; Лера просто перешагивала через нее, тихую, высохшую, как море, и шла ровными безразличными шагами в спальню – в спальне было весело, в спальне было хорошо, и колокольными шагами по занавесочной струне шла мышь, и хихикал трамвай за окном, а ты лежи в прихожей и молчи, когда взрослые о любви разговаривают, ты не взрослая, тебе ничего нельзя. Бывшая и правда была инфантил-инфантилом, иногда придет, сидит опять же в прихожей, крутит телефонный диск и цифры-то всё три-три-три, да три-три-три, обычно это же только дети выбирают три-три-три, обычно только у детей телефон выглядит как дисковый, взрослые туда зонты ставят, где у нее телефон, так она иногда сидит и крутит зонты. «Дарил ей зонт когда-то, – объяснял он, – Вот, видимо, намекает!» Что он ей только не дарил, думала Лера, как она его, а. Ловко облапошила! Два кольца подарил (а гвоздик посередине не вбил, мысленно хохочет Лера, так были бы ножницы, хоть какая-то польза, такими ножницами что угодно разрежешь, даже неожиданную смерть сердечную: раз-два и беги по улице целенький новыми ножками!), вообще, фактически, содержал ее, а она как царь-пушка, в самом деле, выставочный сталелитейный экземпляр, нерушимая тяжесть небытия, сколько можно было, нашла бы работу какую-нибудь, не нашла, ну и вали. «Она меня совсем не ценила, понимаешь?» – говорил он Лере, когда она пыталась завести разговор о том, что бывшая уселась перед телевизором, смотрит какой-то сериал и плачет, и что это как-то, ну, печально, что ли. «Не ценила, вот и заслужила, что имеет!» – объяснял он, и хватал Леру за плечо, и мышь снова начинала свой пеший пробег по звенящей струне, натянутой под потолком, и ну что, жалко электричества вам, жалко телевизора, пусть человек поплачет, хоть станет человеком через эти пустые слезы, а был дрянь дрянью.
Где-то через полгода Лера попробовала заговорить с бывшей, это когда бывшая вздумала магнитного варенья наварить: принесла откуда-то ведро магнитов (некоторые совсем старые, советские, оторванные от настольных игр каких-то), высыпала в Лерин таз (это Леру и удивило, обычно бывшая приходила со всем своим, ни к чему Лериному не прикасалась) и начала пересыпать магниты сахаром, да так обильно, что ну кто же так, кто же так варит магнитное варенье! Лера это сказала и даже осеклась: какое магнитное варенье, что я несу вообще, кажется, во всем этом что-то не так, что-то здесь не то, правда? Бывшая посмотрела на нее совсем детскими глазами, было заметно, что она очень удивлена видеть здесь Леру, кто ты, спросила она, что ты делаешь в моем доме. Лера тогда тоже, конечно, спросила, а ты сюда чего ходишь вообще, полгода уже ходишь и ходишь, успокойся, может, уже, взрослая же баба, неужели не стыдно, забудь и отпусти. Что отпусти, не поняла бывшая, ложку если отпустить, она примагнитится сразу же, потому это и самое сложное, тяжелое варенье, что обычно все туда упускают ложки. А деревянную ложку если взять, ехидно спросила Лера, уверенная в своем бытовом превосходстве. А деревянную нельзя, вкус другой будет, округлив глаза, ответила бывшая, а потом сказала Лере, уйди ты отсюда, а, смотреть на тебя тошно, особенно когда ты по вечерам в ванне лежишь вся изрезанная, такое стыдобище, ну не сложилось, так мало у кого вообще складывается, ты себе еще найдешь, но чтобы так вот внимание к себе привлекать, так это вообще прости, финиш. Лера пошла было в спальню за разъяснениями, но спальни не было в этот раз, и она вспомнила, что, действительно, в те разы, когда спальни не было вообще, она ночевала в ванне, но вроде не грустила даже особо. Лера занервничала, заметалась, но бывшая из кухни крикнула ей, что сейчас вот варенье доварит и уйдет, но тогда и Лере лучше уйти, потому что следующее варенье будет из нее, и Лера ей поверила, потому что чувствовала, как внутри у нее щекотно гремят магниты, наросшие за эти полгода. Поэтому они доварили варенье вместе, перелили его в трехлитровые банки и вышли из квартиры, даже до метро вместе дошли, но разговаривать было не о чем, и вообще, у Леры было очень плохое ощущение того, что это полгода они жили в квартире вдвоем: Лера и бывшая, и всё, больше никого. Может, это была и вполне интересная жизнь, но теперь она закончилась, причем закончилась плохо – потому что теперь тишина, молчание.
Около метро Лера обняла бывшую и попрощалась с ней «навсегда». Бывшая тоже обняла Леру – неловким, широким шагом руки, будто боясь порезаться, будто Лера – разбитое зеркало. Лера тут же малодушно подумала, что вернется в эту квартиру за вещами, но столкнулась взглядом с бывшей и поняла: та тоже вернется в квартиру банки с вареньем забрать; вот ведь связь на всю жизнь, блин, подумала Лера, наверное, это моя бывшая, или, например, бывшая я. Но Леру спасли магниты, тошнотворно, будто мышка пробежала, дернувшиеся у нее в животе, когда под землей, в метро, что-то тяжело заворочалось гигантской массой железа: я жертва, вспомнила Лера, и уже никогда не забывала об этом, даже когда тосковала по той желтой кофточке, даже когда успокаивала себя тем, что у нее все равно нет ключа от квартиры, потому что жертва ведь всегда может просто так ввалиться сквозь дверь напролом, это главное правило: зачем ключ, если достаточно просто подумать.
Три глотка граната
Нет слов, просто нет слов. Как она могла выпустить кота?
Она выпустила кота, случайно замешкавшись в прихожей: одна из огромных, несуразных стеклянных бутылок с гранатовым соком вдруг начала выскальзывать из ладони, стремиться к твердому разрушающему кафелю пола. Она присела и схватилась за бутылку обеими руками – стекло было холодным, каким-то почти жидким, практически кровавым. Она так сидела минуты полторы, оцепенев, будто удивляясь случившемуся чуду – не разбилась, не превратилась в дождь из колюще-режущих гранатов, – а потом обернулась и заметила, что дверь открыта и кот в нее уже ушел.
Тогда муж и мама вышли на улицу, чтобы поймать кота, а она сидела на кухне и плакала: кот совсем один, маленький серый комочек, пара килограмм паники и неживого, напуганного веса, топает тонкими лапками по льдинкам, и сердце холодеет – его от пронизывающего холода, ее – от ужаса. Как ты могла выпустить кота, злым каменным голосом спросил муж, забежав в дом, он запыхался, шапка на его лице стала ярко-красной, как фонарь, под ней лица было уже не разглядеть, вся его голова вообще пылала как факел, посмотри на себя, ты тут сидишь в тепле и куришь (она посмотрела на свои пальцы и с ужасом отметила, что они сжимают в себе дымящую сигарету, как успела вообще, когда?), а он, наш маленький, наверное, уже перешел дорогу, и его там сбил трамвай.
Спасибо, у нас в городе нет трамваев, ответила она, и тогда муж начал страшно кричать – у нас в городе теперь есть что угодно, потому что допуская недопустимые вещи, ты умножаешь количество недопустимых вещей и явлений в мире вообще! Нелепо трижды повернулась на пятке, принимая душ, и защебетала птицей – через три дома у соседей в люльке дитя черничным соком замироточило, три баночки насобирали, полезно для глаз, говорят; маникюрными ножницами с какой-то дури вырезала из вяленой рыбы квадратик и вазочку – на железнодорожной станции телефонный аппарат вдруг сказал внятным мужским голосом: «Внимание! Все мосты заминированы! Поезд превратился в чайный сервиз и весь разбился вдребезги от соприкосновения с жесткостью рельса!»; съев мандаринку, водрузила полученную географическую карту кожуры на голову с целью просто подурить – а в городе цистерна с мясом перевернулась и залило полквартала неизвестно чем, страшно даже смотреть. И так далее, и тому подобное. Неожиданно закурила – порвалась связь времен. Обрезала себе ресницы ножом для масла – на кладбище взорвалась одна из могил, хорошо еще, что не свежая. Выпила козьего яду – проснулась в книжном шкафу небольшой колонией вшей. Что еще?
– Ты почему молчишь? – заорал муж. – О чем ты думаешь?
Отвлечься от небольшой колонии вшей не так уж и сложно – бедный кот, подумала она снова, никакими кошмарами не прикрыть этот главный кошмар. Они всегда очень осторожно закрывали и открывали дверь, потому что кот постоянно стремился на улицу, это был новый дом, новый район, коту все было интересно, что снаружи, он стоял часами у двери и тонко поводил носиком, будто пытаясь прочитать ландшафт окрестностей по тонким ниточкам, тянущимся из воздуха. Человек с сознанием курицы-гриль не имеет права анализировать мир через метафоры и воздушные нити, сказала она сама себе, приложила горящую сигарету к запястью, тонкому и бледному, как лед, и тихо-тихо завыла.
– Ненормальная! – радостно сказал муж, схватил с полки банку кошачьих консервов и убежал на улицу, откуда доносилось радостное воркование мамы. Мама ничему не радовалась на самом деле, просто ей показалось, что если она будет радостно кудахтать, котик подумает, что ей досталось где-то что-нибудь вкусненькое и подбежит посмотреть. Но котик не подбегал. Муж и мама включили фонарь и начали бегать с фонарем по району, разбрасывая всюду какую-то мишуру из кошачьих консервов.
Надо выйти на крыльцо и там ждать кота, может быть, он узнает дом и вернется, подумала она, сняла кофту и носки, чтобы было так же холодно, как и ему там, на морозе, бедненькому, и села на крыльцо, распахнув дверь прямо в пустоту, мороз и ветер, прорезаемый лучами охотничьего фонаря – это мама и муж добрались уже достаточно далеко, узнать что-либо о них можно было только по интенсивности и нервозному мельтешению вспышек.
«А я буду тут сидеть и ждать его, – решила она. – Он будет мерзнуть, и я тоже. Ему будет страшно, и мне тоже. Он поймет, что все закончилось, причем закончилось так глупо – и я тоже».
Она прислонилась головой к двери и закрыла глаза. Где-то вдалеке темноту прорезывали прожекторы, будто война – это мама и муж добежали до пожарной станции, вдруг кот там, трам-пам-пам. Она подышала на свои руки и начала тихонечко напевать.
К дому подошел неизвестный человек в дурацкой малиновой шинели. Она напряглась, начала нащупывать в кармане связку ключей, чтобы пропустить каждый из ключей меж пальцев, идеальное оружие, дом-то открыт, заходите кто хотите.
– Ты что? – спросил человек сквозь черную бороду, вид у него был испуганный, он напоминал огромную черную птицу, напялившую карнавальный костюм какой-то другой огромной черной птицы. – Ты зачем сидишь тут? Зачем мерзнешь? Меня ждешь?
– Ты кто, кого? – спросила она, елозя рукой и ключами, сросшимися в некую единую биоконструкцию, в кармане. – Что н? Что надо? – у нее зуб на зуб не попадал.
– Я кто, я твой муж, кто. – прошамкала черная борода. – Вот же глупенькая, застудишь все, мигом домой, ну, а если бы я позже приехал? То что бы? В больничку с пневмонией, да? Вот дурында же, дура совсем.
И схватил ее в охапку и повел, заиндевевшую и испуганную, в дом.
– Кот. Я выпустила кота. – попыталась объяснить она причину своих волнений.
– У нас нет кота, – отвечал человек в малиновой шинели, увлекая ее куда-то на кухню, к холодильнику; может, это специальный кухонный грабитель, подумала она, сейчас наберет еды и убежит, хорошо бы.
– Я выпустила кота, – тихим, ледяным голосом пропищала она. – Мой муж и моя мама пошли его искать. Вот – там за окном луч – видите? Это они с фонарем его ищут. С прожектором. И каждые пять – или семь – минут они подбегают к дому, чтобы проверить, не пришел ли кот сам. Сейчас они тоже придут. Поэтому вам лучше уйти. Я не одна тут.
– Вот дура же, дура-дурочка! – ласково сказал человек в малиновой шинели, распахивая холодильник и вынимая из него баночку майонеза. – Дурной зайчик замерзший. Белочка под елочкой сидела и белочку подхватила. Белая-белая белочка, да? Да?
Он выдавил на ломоть хлеба тонкую змеистую струю белого-белого, как мел, майонеза, и начал энергично жевать хлеб. На его бороду сыпались крошки.
– И не приготовила ничего, – улыбался он, плюясь крошками. – Конечно, с чего бы. На крылечке в мороз посидеть, застудиться – самое то! Не то, что борщ готовить. Борщ – он кровавый! Святой и правый! – тут он запел. – Марш, марш впереееееед! Марш, мой нарооооооод!
Слова неправильные, подумала она, борода неправильная, и сам он неправильный.
– Муж с фонарем! – шипел он сквозь бутерброд. – Муж – это же я! Какой это там муж ищет какого там кота, если кота у нас нет, и муж твой – это я? И мама, ну какая мама, зайчик дурной дурацкий, мама в Набережных Челнах, где же еще маме нашей быть?
Ну, этот муж получше того, подумала она, этот хоть не ругается, что я кота выпустила. Но все равно: чужой человек, абсолютно. И майонез этот, тьфу, неужели ему не противно.
Муж помыл руки в кухонном умывальнике, щедро полив их средством для чистки посуды, закрыл наглухо входные двери, съел еще один бутерброд с майонезом, немного пожурил ее за то, что она уже третий раз за неделю не приготовила никакого ужина, пора уже и учиться чему-то, а то сидит днями дома, он-то конечно понимает, что работа так сразу не ищется, но надо уже как-то шевелиться, три месяца уже дома сидит, ну, даже стыдно. Потом муж долго сербал горячий чай, неприятно втягивая воздух, принял душ и пошел спать, потащив ее за собой. Она послушно шла за ним по ступеням вверх, вот и спальня, подумала она, теперь нам с ним там спать, раз муж. Но муж не хотел спать с ней в общепринятом смысле.
– Ты такая холодная! – сказал он. – Даже дотрагиваться до тебя неприятно. Зачем так долго сидела на крыльце?
– Кот. Я выпустила кота. – тихо сказала она.
– У нас нет кота и никогда не было. – сонно пробормотал муж. – Наверное, ты выпустила его еще когда-нибудь в прошлой жизни, еще до рождения – вот у нас его и нету поэтому…
Она не могла заснуть, это понятно. Муж отрубился очень быстро, захрапел, разметался по простыне. За окном послышалось какое-то шебуршание, она поднялась, тихо-тихо, стараясь не скрипеть половицами, подошла к окну и посмотрела вниз. Там, у забора, в прозрачном морозном воздухе будто бы висели две фигуры – это были изначальный муж и мама. В руках у мамы был котик.
– Поймали? – спросила она одними губами.
Мама триумфально подняла котика на вытянутых руках и улыбнулась. Котик выглядел крайне недовольно, мордочка у него была сморщенная, как у старой обезьянки.
Мама и изначальный муж показали знаками: впусти нас, открой дверь. Но она показала им в ответ – тоже знаками – я не могу вас пустить, дома муж, он спит здесь со мной, ничего не выйдет, он не поймет, если я открою дверь и буду кого-нибудь впускать в дом, я не смогу ничего ему объяснить.
Но это же ты выпустила кота, ты же сама виновата, знаками показали муж и мама, поэтому ты сама должна расхлебывать все это дерьмо, спускайся уж давай, открывай. И посветили фонарем прямо ей в лицо.
Нет, ответила она знаками, это исключено, мне, конечно, очень стыдно и страшно из-за того, что я выпустила кота, но раз уж сама судьба как-то разрешила эту дурацкую, странную ситуацию, которая у нас с вами здесь возникла – а вы ведь не будете отрицать, что все протекало каким-то странным чередом, нет? – я поддамся внутренним течениям судьбы и будь что будет.
Ну хорошо, как хочешь, тогда пока, знаками сказали ей изначальный муж и мама. Кажется, они были недовольны. Мама запихнула под мышку кота, муж – фонарь.
Она пожала плечами и спустилась вниз, открыла холодильник, достала оттуда стеклянную бутылку с гранатовым соком и налила себе стакан. Вот так удерживаешь что-нибудь, подумала она, делая ледяной глоток, удерживаешь в последнюю секунду, хватая в миллиметре от убийственной земли, чтобы не разбилось, чтобы не разрушилось – а в результате разбиваешь и разрушаешь вообще все, что за этим стоит. А так бы просто убрала осколки, помазала бы порезанный палец йодом и вымыла пол. Но раз уж одна жизнь вдруг стала абсолютно другой – поздно о чем-то жалеть. Вероятно, это был мой сознательный выбор, подумала она, но вдруг у нее так сильно защемило в груди, что она решила больше никогда-никогда не думать о том, сознательный она сделала выбор или нет. Еще три глотка – и спать. Жизнь такая жизнь.
Украденные голоса
Артур и Нина Дура решили пойти в посольство во время новогодней поездки за границу, чтобы тоже поучаствовать в выборах, которые как раз в эти дни проходили на их родине. Гражданский долг надо долго, далеко нести на своих плечах худых, за тысячу и две километров вдаль, чтобы ни зыбучие пески Аризоны, ни пахнущие мидиями и вином пляжи Барселоны не могли смести с плеч эти нерушимые песочные часы, ежесекундно своими колючими, царапающими кожу песчинками напоминающие о том, что билет на самолет – это всего лишь портал в воображаемый мир, по ту сторону которого стоят угрюмые часовые со списками и ожидают твоего взвешенного, серьезного решения. Серьезное решение – часть настоящего мира, жесткого, как кровать в этом достаточно дурацком, как выяснилось, отеле – это решение, точнее, его необходимость и важность, светящимся беловатым камнем каталось в горле все эти дни зыбкого, призрачного веселья, карнавальных чужих улиц, по-насекомому хлипких Дедов Морозов, выпархивающих из подворотен, как облако моли, чуть только пробовали распахнуть взглядом пространство, будто неподатливую антресольную дверцу. Все вокруг – волшебный карнавал теней, но решение – именно что камень, поверх которого пляшут эти тени, Артур даже произнес это вслух, когда Нина Дура задумчиво взвешивала на ладони уличные артишоки со стихийного рынка (прохожие вдруг забегали, слаженно, будто хором, присели, вынули из карманов белые чистые полотенца и начали раскладывать на них хурму, орехи, специи, новогодние бутылочки с ликером, можжевеловые веночки и крошечных лошадок из жженого сахара), и он вначале подумал, черт, какая дура же, а потом вспомнил, ну да, Нина Дура, мы так еще в школе ее называли, пятнадцать человек мальчиков было, а в итоге остался только один, так что пускай уж дура, пускай уж артишоки, но слушать-то надо? Слушать-то меня можно иногда, правда?
Повторил еще раз, потряс за плечо. Нина посмотрела на него абсолютно пустым, белым, северным, как у собаки лайки, взглядом.
– Говорю, давай сходим в посольство и проголосуем! – Он вынул из ее руки зеленый, тугой, стебельком свившийся в некую руну, артишок, и нарисовал им в воздухе птичку-галочку, будто на невидимом бюллетене, болтающемся прямо перед ним в пространстве, причем, вероятно, уже давно, причем, кажется, на самом деле. Вот ведь забрало как человека.
Нина Дура тоже почувствовала, что человека забрало – решительно кивнула, вдруг, зажмурившись, почти без труда преобразовала глаза в густые и шоколадные, брезгливо швырнула уже, скажем так, использованный артишок каким-то пробегающим мимо полуголым детям и решительно, почти без слов, приобрела килограмм тугой оранжевой хурмы у старушки в синем свитере.
Это была хурма согласия, хурма любви и понимания, хурма звонкого утреннего поезда, в котором, кроме них, ехали разве что дети в зоопарк (там была станция «Зоопарк» по дороге) – полон вагон детей – и китайцы на работу в Парк Китайских Развлечений (такая станция тоже была) – и вот они тоже едут этим морозным рождественским утром в посольство голосовать.
– А почему мы не проголосовали досрочно? – спросила, зевая, Нина Дура, – Ты же знал, мы же оба знали, что на Рождество уедем, так проголосовали бы и не пришлось бы морозиться в этом вагончике.
– Если бы мы проголосовали досрочно, наши голоса бы украли! – авторитетно сказал Артур, перед поездкой обчитавшийся новостей и поэтому впавший в особого сорта крипто-паранойю. – К тому же у нас и так все крадут.
Нина инстинктивно прижала к груди сумку с паспортом и кошельком. Действительно, у них постоянно что-нибудь крали. В прошлой поездке украли плейер с наушниками «Филипс», плейер прямо из кармана вынули, а наушники – прямо из уха, причем музыка там продолжала звучать еще минуты две, заметила только потом, когда эти умельцы уже выскочили из вагона. В позапрошлой украли паспорт – только один, но все равно если бы украли два, возни было ровно столько же, поэтому даже никакой разницы, второй можно было просто выкинуть, все равно поездка была испорчена безвозвратно. В позапозапрошлый раз Нина ездила за границу без Артура, они еще не были знакомы, но у нее в той поездке украли рюкзак вообще со всеми вещами, а у Артура, который тогда еще не был с Ниной, тогда же была командировка в Москву, так у него там из бумажника стянули все кредитки, а деньги оставили – такая вот особая филигранная ловкость.
Поэтому неудивительно, что дальше все пошло так, как пошло – Нина и Артур, достаточно ловко управившись с картой, нашли нужный дом и улицу, поднялись на двадцать третий этаж в огромном, золоченом лифте, шли ровно 50 метров правильным, единственно верным сужающимся и торжественно-коньячным, будто свадебный торт изнутри, коридором по направлению к нужной табличке, а там, внутри, они вдруг непозволительным образом расслабились, и вот результат: их голоса украли! Все случилось именно так, как они и боялись!
– Возьмите конфету! – улыбнулись сотрудники посольства, протягивая им коробку конфет «Белочка моя», и как тут не взять конфетку у добрых, приветливых земляков? Нина, впрочем, несмотря на то, что дура, сразу почуяла подвох – конфета «Белочка моя» была какая-то не совсем своя, не совсем моя эта белочка, подумала Нина почти вслух, и не ваша это белочка, глаза у нее черные, нехорошие, и когти на лапах не очень чистые, будто она рвала еще вчера кого-то этими когтями, и вообще, не бывает конфет в форме того, в форме чего предлагается нам эта конфета, но разве можно сказать сотруднику посольства – улыбающемуся и очень приятному молодому человеку в очках, – что ты ему не доверяешь и что он подсовывает тебе черт знает что вместо белочки? Тут Нина, конечно, полностью продемонстрировала, что она дура. Смолчала и замолчала навсегда, только-только откусив белочкину голову – недовольную, сморщенную головку вечно на всех злого существа, которым Нина могла бы стать, но теперь уж, сраженная черным вирусом звериной немоты, не станет, ибо молчание превращает человека в пустую, лишенную будущего клетку для зверя, который будет входить в нее и выходить из нее, из этой клетки, в зависимости от настроения, и клетка всегда будет думать, что она и есть этот зверь – но, увы, она так будет думать только в те минуты, когда зверь внутри, а это будет происходить крайне редко.
Впрочем, это будущее, будущее мы не трогаем, а что же с настоящим? С настоящим вышло вот что – Артур тоже оказался дурой, потому как его голос был украден еще более наглядным, что ли, образом. Не обратив внимания на то, что после вкушания предвыборной конфеты у Нины Дуры изменилось, мягко говоря, выражение лица, он семимильными шагами прошел в кабинку для голосования, схватил бюллетень – честное слово, будто именно ради этой вот радости дистанционного приобщения к судьбе страны он покупал эти чудовищно дорогие билеты на самолет – и, жирно выводя на нем галочку, необдуманно прогудел: «Воооооот» мягким-мягким, как снег, голосом, и этот мягкий снежный голос в ту же секунду был украден через особого рода шумовые улавливатели внутри урны, их сразу было не разглядеть, они смотрелись как нелепые меховые наросты с насекомовидными лапками, издалека будто зверюшек детишки наклеили, тоже своего рода белочка-мутант.
– Спасибо, вы очень сознательные граждане – вообще, знаете, не каждый вот так вот потратит несколько часов своего сверхценного отпуска для того, чтобы сюда к нам приехать и проголосовать! – заулыбались сотрудники посольства, – Удачи вам в Новом году! Счастливого Рождества! Живите долго, пожалуйста! Катайтесь на лыжах не реже трех раз в месяц! Протеины – это не вредно! Судьба кайманового крокодила не так трагична, как утверждает телеканал «Национальная география»! Пожалуйста, уходите уже, потому что мы не можем остановиться, так нас прет от того, что помимо наших собственных голосов у нас есть и чужие, украденные, в каком-то невероятном количестве причем, мы аж сами поражаемся собственной безнаказанности, хей-хо!
Это все уже послышалось Артуру, когда он нажимал кнопку вызова лифта, перекатывая внутри головы, как бильярдный шар, прощальный голосовой гул, доносившийся из коридора все то время, пока они, держась за руки, почти на корточках выбирались из него – казалось, что коридор втягивает их назад невидимым ветром.
– У меня, кажется, украли голос, – беззвучно сказала Нина Дура, когда лифт ехал вниз. – Вот посмотри, пожалуйста – я говорю, мои голосовые связки напрягаются, но ощущения голоса нет совсем, даже губы не двигаются.
– Черт, – тихо сказал Артур, – По-моему, у меня тоже. По мне вообще заметно, что я говорю?
Нина покачала головой – все это время Артур ничего не говорил, просто смотрел на нее умоляющими глазами, вцепившись белой-белой рукой в поручень.
– Жопа, – прошептал Артур. – Что теперь? Ехать вверх? Просить, чтобы вернули? Писать жалобу? Ехать домой и писать жалобу уже там? Не ехать домой и просить политического убежища? Или как мы его попросим, если у нас нет голосов и мы не сможем им ничего сказать?
Нина пожала плечами. Вдруг она поняла, что больше не дура, потому что дурость, в принципе, является исключительно выражающейся в речевом контексте категорией, а тут уже все, никакой речи.
– Мы вот что сейчас сделаем, – сказала она, хотя, конечно, она ничего не сказала, а просто стояла внизу, в холле, напротив лифта и напротив Артура, глядя очень внимательно ему в глаза и думая что-то о том, что вот там много красных прожилок, видимо, он не выспался совершенно, переживал всю ночь, ворочался, будто что-то предчувствовал, – Мы пойдем в полицию и напишем там заявление. Когда пишешь, голос есть – он скользит по бумаге, расплывается, но не исчезает, как эти мои слова прямо сейчас. Напишем, сядем там и будем ждать. На наше заявление никто не обратит внимания, потому что мир вокруг очень жесток, на самом деле. Всем наплевать на беззакония, которые творятся на другой стороне земного шара. Всем наплевать на всех. Но зато – если мы получим какие-либо бумаги о том, что мы потерпели, что у нас что-то украли – мы, видимо, сможем попросить политического убежища здесь. И жить тут, у моря, у океана, работать, строить дом из камня, рожать детей.
– И говорить с ними азбукой Брайля? – спросил Артур, хотя он хотел спросить что-то другое, при чем тут азбука Брайля, они разве слепые.
Нина покачала головой. Это она произнесла еще одну достаточно длинную бессмысленную фразу. Артур вздохнул. Это был монолог, который мы не будем тут приводить по причине того, что предложения, в нем озвученные, не имели под собой никакой реальной основы.
Они вышли на улицу, молча дошли до станции, сели в поезд – напротив друг друга, чтобы можно было смотреть в глаза.
Ситуация, в общем, была жалкой и глупой – двое несчастных, обворованных человека, в чужой стране, среди чужих людей, едут в поезде неизвестно куда с пакетом хурмы и двумя паспортами, и синхронно думают: лучше бы у нас украли паспорта, чем голоса.
Артур подумал, что ему, возможно, даже не придется менять работу – он работал программистом. Нина, которая больше не была дурой, вдруг поняла, что Артуру придется сменить работу – потому что если они все-таки решат заявить о похищении голосов, а заявить, несомненно, надо – не молчать же вынужденному молчальцу! – ни о какой нормальной работе не будет идти и речи. Ну ничего, есть огромное количество способов не умереть от голода, и лучший из них – умереть от голода сразу же. Чтобы в этом убедиться, Нина незаметно выбросила пакет с хурмой в мусорную корзину, на которой был нарисован значок «пластик»: ей показалось, что фрукты, впитав ее горе и обескураженность, превратились в пластик, иначе они просто не могли поступить – фруктам, в отличие от людей, предательство не свойственно. Что касается людей – вот, например, Артур – свойственно ли предательство ему? Нина всматривалась в желтоватые глаза Артура, и они казались ей немного пластиковыми. Если мы оба являемся жертвами этой бесчеловечной машины, подумала она, это еще не значит, что один из нас не является ее же винтиком, ее же шестеренкой, ее же этикеточкой. Похож ли Артур на эту самую этикеточку?
Артур, пока они шли по заснеженной улице, попытался ее обнять, потому что сообразил, что Нина начала подозревать его в черт знает чем, но в контексте их взаимной трагической немоты этот жест вдруг оказался перенасыщен скрытыми смыслами, невысказанными монологами и страницами тошнотворного, нечитабельного текста, горького и резкого, как полынь, поэтому Нина отшатнулась, почти рефлекторно, как отшатнулась бы, если бы из-за угла ей в голову метнули чугунную печатную машинку, например. Ничего удивительного. Потеря голоса не вызывает потери здравого смысла, скорей, наоборот. Безголосый Артур вдруг вырос, стал тоньше, прозрачнее, как нотный стан. Безголосая Нина стала ниже ростом, но вдруг поумнела, постарела, на ее лице проявились мимические морщинки, вокруг глаз натянулась сеточка, похожая на воробьиные следы – будто у нее под глазами лежала вкусная булочка, а потом прилетели птички и начали там топтаться, пытаясь эту булочку поделить.
Артур вовсе не был трусом и предателем – он понял, что потом, когда вернется домой, в любом случае не пойдет с этой проблемой к врачу, а сразу попытается как-то сообщить о случившемся на международном уровне – и пусть оно все горит синим пламенем: его будущее, его прошлое, его настоящее. Да, возможно, их будут шантажировать, но чем? Детей у них нет, голосов у них тоже нет, фактически, у них вообще теперь ничего нет, поэтому им нечего бояться.
Нина все равно смотрела на Артура с недоверием. Вероятно, так было бы с самого начала, если бы она не была дурой с самого начала. Теперь же она поняла о мире что-то новое, что-то тревожное и холодное, как эта свеженькая, новенькая ледяная глыба под сердцем, которая, кажется, теперь будет таять там вечно, но никогда уже не истает до конца – не хватит сердечной теплоты растопить этот лед, подумала Нина, но тут же словила себя на том, что только притворяется, что думает такими напыщенными кардиометафорами, – в реальности же вместе с голосом у нее пропали и слова, точнее, они стали какими-то бесполезными, пустыми, как яичные скорлупки в отсутствие самого яйца – причем, отсутствие изначальное и бесповоротное.
Уже ночью, в отеле, после самого ужасного в жизни каждого из них любовного соития (оказывается, человек без голоса в постели превращается даже не в животное и не в клетку, а, скорей, в засов, которым эту клетку запирают, когда сажают в него животное перед тем, как его убить, усыпить и расчленить), Артур догадался включить ноутбук, чтобы посмотреть новости и узнать результаты выборов.
И вот тут, собственно говоря, наступает натуральный шок.
В новостях сказали, что выборы выиграл Шидловский – за него проголосовало девяносто четыре процента.
Артур голосовал за Шидловского. Нина тоже голосовала за Шидловского.
Выходит, их голоса не украли. Выходит, мир справедлив и честен – состоялись справедливые открытые выборы, самый достойный человек победил, а самые смелые отдали ему свои голоса и не прогадали.
Он, оказывается, потому и победил, что столько людей отдало ему свои голоса – эти голоса помогли ему совершить какую-то уникальную, молчаливую революцию, абсолютно особого, эфирного свойства, на уровне тектонических пластов и незримых движений общечеловеческого планетарного духа: ни капли крови ни пролилось, ничего не дрогнуло, не шевельнулось, никаких толп, никакого негодования и народных протестов в центре города, всюду тишина и доброта, вообще ни одного более-менее заметного события не произошло (даже в газетах потом не знали, о чем писать), просто в некую кромешную, звенящую, золотую и пронзительную секунду вдруг совершилась абсолютная, неподвластная восприятию перемена всего, предположим, революция, назовем ее так – и вдруг само собой оказалось так, что за Шидловского проголосовало девяносто четыре процента, и он победил, а все эти люди, которые так за него переживали и отдали за него свои голоса, вдруг онемели, такой вот ценой иногда достается нам победа.
Никто ни у кого ничего не крал, такая цена победы, повторил Артур, хорошенькое дело, кто бы мог подумать.
Повторил абсолютно молча: эти слова звенели у него в голове, как набат.
Как ни странно, возвращаться домой ни ему, ни Нине все равно не хотелось – оказывается, когда у тебя нет голоса, тебе и победа-то ни к чему. С другой стороны, все-таки приятно, когда выясняется, что у тебя ничего не украли, на самом деле, ты сам все отдал во имя наступления глобальной справедливости и правды – и, по сути, это и получил в вечное пользование, такой вот рождественский подарочек. Увы, с третьей, несуществующей стороны, было четко ясно и понятно – кажется, сегодня они совершили самую большую ошибку в своей жизни, и тот факт, что эту ошибку совершило еще несколько миллионов человек, вовсе не означает, что им будет легче со всем этим жить – в этой стране, не в этой, уже не важно, уже всё, трындец, приплыли.
По-новому
Один человек решил начать жить по-новому. Для этого он убрал из своей жизни все, что трепетало, билось в ней по-старому: сердечный механизм «Разнобой», визиты к косметологу салона «Судьба», старый «Опель Корса» тысяча девятьсот дальше не важно, уже смешно, что тысяча девятьсот.
Сердечный механизм он обменял в субботу на часы человеку, который по субботам меняет старикам износившиеся домашние механизмы на новые дешевые часы, он вспомнил, что когда-то его бабушка вынесла таким образом из дома антикварную пудреницу, но теперь не тот случай. Часы он перевел на два часа вперед, чтобы жить с этой минуты в будущем, пускай и дешевом. Визиты к косметологу пришлось поменять на визиты к прошлому косметологу, к которому этот человек ходил раньше, в молодости, до тех пор, пока в предыдущий, не в этот, раз не решил начать жить по-новому и не сменил косметолога на другого, нового. Хотя тот новый косметолог – из салона «Судьба» – тоже был у него изначально (абонемент еще в студенчестве подруга подарила), пока он его не сменил на того, прошлого, тоже решив начать жить по-новому, но не в предыдущий, а даже, скорей, в самый первый раз. Короче, подумал он, не моя вина, что в этом затхлом городишке всего два салона – «Судьба» и «Без названия». Вина-то, может, и не его, но все равно разобраться сложно. Что до старого «Опеля Корса» тысяча девятьсот смешно уже какого года, то он продал его за две тысячи долларов, и вот это было по-настоящему смешно – как бы удалось преодолеть рубеж тысячелетий, выбраться из мучительных пубертатных девяностых в финансовый восторг лихих зрелых двухтысячных – хотя бы на уровне метафоры.
Теперь перед человеком стояла самая сложная задача – в этот раз, начав жить по-новому, не облажаться, как в прошлые два, три, кажется, даже четыре раза. Облажаться – это отнестись к новым вещам и явлениям по-старому, будто искупав все блестящие, новенькие проявления будущей жизни в затхлых ручьях собственной лени, бездействия, мягкосердечной задумчивости, податливости (это он ненавидел в себе больше всего – недавно, к примеру, в метро попросили поднести ребенка, и он поднял, и нес, хотя ребенку было лет десять, непонятно вообще, что это была за просьба такая, уже потом оказалось, что озвучила ее старая знакомая, просто хотела подшутить, а он ее не узнал сразу, просто схватил ребенка и пошел, девочка-четвероклассница все эти четыреста метров просто давилась от смеха). Собственно, теперь все было просто и понятно – никаких прошлых ошибок. Новые часы, в десять часов игриво мигающие полночью, человек надел циферблатом вовнутрь, и они сразу же пропотели его магическим ожиданием новизны, выступившим, как кровь, на липком запястье. На две тысячи новеньких долларов человек купил себе мотоцикл – вот, кстати, абсолютно неожиданное изменение, он даже сам себе удивился: мотоцикл? На этом мотоцикле он приехал в салон «Без названия», чтобы косметолог сделал ему размягчающую маску на лицо – в маске гонять по утреннему городу было бы неплохо, – но салон еще не работал; он прислонил мотоцикл к двери, сел, посмотрел на часы, но увидел только красную нашлепку из пластмассы, потом, через два часа (оказывается, внутренние часы нашего героя теперь тикали синхронно с новыми, он как бы и правда жил немного в будущем, на два часа впереди) пришел косметолог, увидел его и сказал как ни в чем не бывало: «Вам как обычно?», и вдруг он понял, что не видел этого косметолога, наверное, года три, а тот до сих пор помнит, как это – когда «как обычно».
Когда все о тебе все помнят, какая тут новая жизнь. Кажется, в один из прошлых раз он облажался точно так же. «Да, да, как обычно» – бормотал он, усаживаясь в кресло, но косметолог почему-то, вместо сеанса привычной игры грязями и сальными, волнительными маслами, молча залепил его лицо каким-то комом белого вязкого пластика. «Маска» – подумал он, погружаясь в кресло, как в колодец.
Это и правда была маска, только посмертная. Особенность этой ситуации в том, что точно такую же посмертную маску наш герой получил бы даже в том случае, если бы приехал к другому, старому косметологу, на стареньком «Опель Корса», со старым сердечным механизмом. Правда, в этом случае – оставшись торчать, будто сломанная челюсть, в старой опостылевшей жизни – он получил бы причитающееся на целых два часа позже. Выходит, даже начав жить по-новому, ничего не выигрываешь, кроме времени. Но кому нужно это время, эти жалкие два часа, когда они проходят, и не остается ничего, кроме десяти капелек пота между запястьем и циферблатом.
Медовый пост
Бродячий продавец меда Иосана уже третий раз была выдворена из женского монастыря Шкшк, пойманная на его территории, и что с ней поделать? Что с ней поделать, пожимает плечами настоятельница монастыря, Бабушка Шк, как с ней быть, вы что, не понимаете? Но бродячая продавец меда Иосана тоже пожимает плечами, и с каждого плеча у нее взлетает по две тяжелые, медоносные пчелы – тугие и мохнатые, как воробьи, они вьются в нехорошем, сдавленном воздухе вокруг головы Бабушки Шк и сообщают ей что-то вроде телеграммы: «Они ведь сами зовут меня, чистая бабушка, чистая правда, мы – чистый желтый лист, залитый солнечным медом, наши помыслы ярки и прозрачны, как стеклянная банка медвяных слез, ежедневное омовение, купание, прощание с каждым цветком, как с бывшей матерью, солнценосная ярость, ультрафиолетовая резня, шуршащий полог клеверных одеял, и никакой страсти, никакой глубины, никакого искушения, и твое лицо сквозь этот янтарный аквариум цветочных выделений сочится пониманием, да?»
Нет, отвечает Бабушка Шк, не сочится, ну сами посудите, сколько можно? Монашки наши юны, неопытны и искушаемы. Часто, откушав меду, начинают размышлять о прочих сладостях, о сладости как категории и вероятности, о метафорической сладости недоступного, и что же дальше? А то, что Апалачия недавно ночью украла из спальни Матери Виолы циановый парик и карамельную тушь для бровей, нарядилась клоунессой и хохотала в камине, как сова, пока ее не обнаружили утренние обходчики, и когда мы целовали Апалачию в уста, чтобы сомкнуть и успокоить их хохот, они были сладки, как этот закатный ваш клевер, вот что.
Продавец меда Иосана пожимает плечами, выпуская еще парочку пчел (эти пчелы более книжные – пахнут размоченными в фиалковом настое страницами), – причастна ли я к искушению, спрашивает она, если Апалачия просто захотела украсть? Мой ли мед вынудил ее решиться на кражу? Нет, отвечает Бабушка Шк, при чем тут кража, кражи мы отмаливаем на раз-два, как и убийства, и чревоугодие (пусть хоть банку меда съест, это за две-три службы все чистится), гораздо страшнее тот факт, что, пока Апалачия не решилась на кражу парика и туши, у Матери Виолы никогда не было ни туши, ни парика, ни этой латексной пижамы. Которая потом, кстати, камин забила, отопления не было три недели. Продавец меда Иосана ничего не понимает и от безысходности предлагает оплатить три недели отопления, для нее это мелочь, двое суток на пасеке провозиться. Тогда Бабушка Шк рассказывает еще более дикую историю – молодая монашка Авсклентия, нажевавшись медвяной альпийской соты, под утро приснилась ключнику Григорию, беженцу из какой-то славянской страны, и в таком яростном, неистовом сне приснилась, что у ключника Григория потом ни один ключ никуда не подошел, и не было доступа ни к погребу с консервами, ни к компьютерной комнате, ни к библиотеке, и ввиду отсутствия доступа к библиотеке при необходимости ежедневных упражнений в чтении пришлось разделить всех монашек на две части – одни что-то писали, а другие что-то читали, и в итоге те, кто что-то написал, писали только об одном – о Григории, в частности, о некоторых деталях его биографии, и вышло так, что сложилась из этих текстов вся биография целиком, закончившись на этом чудовищном сне и последующем эпизоде с ключами, а ведь Григорий даже ее не видел, Авсклентии, его функция – открывать и закрывать двери до и после того, как ими воспользовались. Теперь же такое ощущение, что эти двери воспользовались всеми нами, и как теперь жить? Григория пришлось уволить, все его ключи искривились, а биография его изобиловала такими кошмарными эпизодами, что оставаться в монастыре не было никакого смысла, это мы не отмолили бы – сложили в коробку, не сшивая, все эти листы, отдали ему и выгнали. Он, кстати, потом издал эту биографию, живет теперь в Швейцарии, купил там замок и половину озера.
Замок, к которому не подходит ни один ключ, тихо и нехорошо пошутила продавец меда Иосана, которая все это время крутила завязочки своего чепца вокруг указательного пальца. Иосана, почти расплакалась Бабушка Шк, вы и правда меня не понимаете, вы живете в мире слов – ударение в слове замок мы ставим на первый слог, но вы, кажется, меня даже не слышите, вы воспринимаете все, что я говорю, как написанный текст. Что опять же убеждает меня в том, что вам не нужно сюда приходить и торговать медом, от этого у нас чудовищные проблемы – не считая этого дурацкого бестселлера, который мог бы прокормить нас всех, а вместо этого кормит дурацкого Григория, который в пятьдесят шестом такого натворил, что лечь и умереть; не далее, как вчера, например, юная Амина помыслила о суициде, но не совсем правильно поняла то, что ей наговорили соседки по спальне, и в итоге выпила бутылочку оливкового масла и подвесила ее на тонком шелковом шнурке там, где обычно сидит хор, наверху, и когда хор пришел рассаживаться в субботу утром, в бутылочке нашлась записка, это была, представьте себе, новая глава уже напечатанной биографии Григория, черт бы ее побрал, ведь она заканчивалась этим медовым, мягким сном, сплетением локтей, жужжанием мышц на закате, и уже фактически маячил Нобель, но теперь новая глава, уже про Швейцарию, нефтяную нимфу Виолу Альтшмерц, фальшивый договор с американским издателем и подмену паспорта, – зачем нам про это знать? Что нам делать с этой главой? Высылать ее Григорию? Он знаменитость, он знать нас не знает теперь, нам никто его адреса не вышлет. Для чего нам, особенно хористам, нужна эта информация? Хорист – женщина, как правило, нерешительная, ей хватает буквально мелочи, чтобы поменять в жизни вообще все, но так и не решиться признать это. В результате – сбежали, три штуки. Но так этого и не признали – сидят, поют, в партитуры всматриваются. Лица такие светлые, как сахарная пудра. А сами уже проституцией в Румынии занимаются, а одну там уже зарезали, никакой пудрой не замазать уже. Чудовищно. Чудовищно.
Так она ж не меду напилась, эта ваша Амина, бормочет Иосана, она пила кислоту? А, нет, уксус. Масло. Хорошо, и при чем тут мед? Вы поймите. Мне просто приходит заказ, записка. Каждую неделю заказ, сорок имен в записке. Я складываю сорок баночек, кто какой заказывал: фиалковый, из мать-и-мачехи, гречишный, одуванчиковый. Прихожу, они сами открывают, разбирают потом все. Думаете, я деньги с них беру? Нет, не беру. У них нет денег.
Вот в том-то и дело, кивает Бабушка Шк, вы у них берете то, что у них есть, но если бы не ваш мед, этого бы у них не было.
Так я и беру, по сути, то, что мне принадлежит, разводит руками Иосана. Зачем запрещать мне это делать?
Проблема в том, говорит Бабушка Шк, что это – живые люди, это не пчелы, они не обязаны приносить вам определенное количество контента раз в неделю, несмотря на то, что вы обеспечиваете их всем необходимым, пусть даже и по их собственной просьбе.
Проблема в том, поправляет ее Иосана, что если вы не отдадите мне следующую главу, я буду приходить три раза в неделю. У нас контракт с издателем, сколько раз повторять.
И Бабушка Шк, погрустнев, в который раз послушно идет в музыкальную комнату за новой главой, по дороге остановившись около комнаты связи, чтобы вызвать полицию, но как ее вызовешь, если нет даже ключа от комнаты?
Вернувшись с большой зеленой бутылкой, в которой будто бы плавает очередная глава, Бабушка Шк вдруг начинает бить этой бутылкой Иосану по голове, по лицу, по пчелам, вмиг облепившим, будто мухи, ее окровавленные щеки. Только когда пчелиное покрывало перестает шептать, шевелиться и вздыматься шерстяным ковром, Бабушка Шк прекращает поднимать и опускать бутылку. Внутри бутылки теперь будто бы плавает что-то намного более объемное, чем очередная глава – возможно, там даже целая повесть, или роман, или отдельная глава чего-то совсем нового – это, кстати, большая удача, если так.
Убийство ничего не значит, объясняет сама себе этот эпизод Бабушка Шк, это отмаливается и отпевается буквально за два-три дня, гораздо страшнее тот факт, что, пока я не решилась на убийство, у меня не было ни этой бутылки, ни этой чертовой разбухшей рукописи, ни даже этой проклятой надоедливой торговки липкой глюкозой – ее вообще не существовало до этого мгновения. Но что поделать – что пожнешь, то и посеяли те, кто был тобою до тебя. Бабушка Шк осторожно разбивает ставшую очень хрупкой бутылку о кончик ногтя, достает рукопись и понимает, что от усталости почти ничего не видит – надо немного отдохнуть, понимает она, но в любом случае все это уже закончилось, а времени на чтение – целая вечность.
Измена
Один человек подозревал, что изменяет жене, но не мог найти доказательств. Жена сама ничего не подозревала, но доказательств у нее было достаточно – во всяком случае, вела она себя странно. Приходя домой с работы, она часто замыкалась в себе и подолгу сидела на балконе одна в наушниках, курила и читала, щурясь, книги, как будто квартира совершенно пустая или даже, напротив, полная чего-то вытесняющего, тягучего и плотного, как мясные обои. То, каким бесцеремонным образом квартира вытесняла подслеповатую жену на темный и крошечный, будто слепленный из ласточкиных гнезд, навесной балкончик, было основным доказательством неверности – явно в этой квартире происходило что-то не то, зияла какая-то бесчестность, катилось чугунным поездом по потолку сладкое предательство беспамятства, бесчинства, явной беспомощности мужчины перед весенним садом и земляным озером, криком, фруктом и рыбьим пузырем. Все это как будто было нарисовано на огромных бумажных пакетах, надутых горячим плотным выдохом и висящих под потолком, заполняя все пространство целиком, – на зеленом пакете земляное озеро с русалками и едкой конской травой, на ярко-оранжевом – рыбий пузырь, тошнотворно тугой и крепкий, жесткий и жидкий одновременно – вероятно, поэтому и тошнотворный; на белом пакете – крик, но как можно нарисовать крик, подумал этот человек, разве что если моя жена художник, но это не так, она вообще ничего не чувствует, а я чувствую.
Он чувствовал, что все тут не так. Что в доме что-то рассыпалось, растеклось – возможно, его любовь, его верность? Его память о тех пяти днях в Сиднее, свадебный морок, пыльная надежда, тропический вереск? Однажды, когда жена, как обычно, сидела на балконе – пресная, призрачная и холодная, как цыплячий желудок, – мужчина понял, что должен выяснить, откуда течь, где прорвало предательством эту плотину тепла и выносливости, зачем он, черт бы его побрал, вообще сел в этот поезд – или поезд, скорей, сел в него, потому что в эту секунду мысли о поезде в животе зашевелилась некая тоска безбилетности, обида на какую-то техническую, полную железа и злобы, махину, пронесшуюся сквозь мягкий, бесхребетный желоб человека бесцеремонно, отчаянно и целеустремленно, словно голова и ноги проживают как минимум в разных частях света – и этот человек своего рода единственный путь, последний способ добраться до полуночи, такой живой тоннель из кожи, слизи и слез. И действительно, подумав о билете, он тут же сообразил пойти на кухню и открыть газ – из газовой горелки тут же вытекло, вылетело прозрачное голубое платьице. Летиция, спросил он, это ты? Нет ответа, но из шкафа – его он открыл следом – вылетела моль. Молли, спросил он, отзовись, пожалуйста, если ты меня слышишь, я знаю, что ты была здесь, мы с тобой вместе открывали шкаф и варили рисовый пудинг. Но моль летела молча и недолго, прямо на свет. Тогда человек зашел в ванную и открыл кран – из него потекла красная икра, и тут человек понял, что, скорей всего, действительно изменял жене, потому что вспомнил, что к икре прилагалась бутыль шампанского и некая Кира с работы, они праздновали повышение градуса и какую-то весеннюю хитрость, и кто-то куда-то уехал, но непонятно уже куда, и вот эта Кира, кажется, потом написала ему письмо, где объясняла, что ее на самом деле зовут не так, как он запомнил; но уже было поздно вспоминать подробности, он включил свет в коридоре и сказал вслух: Дарина, ты была здесь? И только Дарина ответила ему: да, Михаил, я здесь была, причем с подругами, ты что, забыл нас? Вот мы сидим под обоями, посмотри. Мужчина отогнул обои кусачками и увидел, что там сидят черви, действительно. Так он понял, что его зовут Михаил, и что совсем в нехорошую историю он, Михаил, ввязался как минимум с этой женитьбой на этом ни в чем не повинном человеке, сидящем на балконе, – но надо продолжать, надо идти до конца, сказал он себе. Михаил, ты готов идти до конца? Он открыл компьютер, немного повозился с паролем от почтового ящика и в конце концов увидел там письма от некой Маши, они текли по экрану, как слезы, возможно, это и были слезы. Но надо было открыть что-то еще, чтобы окончательно убедиться в своей неверности, и он попробовал открыть шкаф, но шкаф не открывался. Тогда Михаил взял топор и начал рубить шкаф. Его жена наконец-то отложила книгу, сняла наушники и попробовала выйти с балкона, чтобы вызвать милицию, но балкон был закрыт, вообще все в этом доме было закрыто, так было задумано, чтобы Михаил все открывал поэтапно и постепенно вспоминал о том, что он предатель. Жена стучала кулаками в стекло и что-то пищала, Михаил рубил шкаф, смотрелось все достаточно апокалиптично. Когда, наконец, шкаф превратился в щепу и груду тряпья, Михаил понял, что сделал по-настоящему великое дело – дал себе повод свалить, не раздумывая, куда угодно, даже не объясняя ничего. И правда, зачем объясняться человеку, который вдруг начинает рубить мебель в квартире и откручивать газ, – тут не объясняться надо, тут надо уходить, причем всем вообще уходить, какая разница, кто кому изменял, тут надо скорую психиатрическую вызывать, нет? Я спасен, понял Михаил, и открыл дверь на балкон. Жена вбежала в комнату, запустила руки в то, что было шкафом, долго там шарила и достала куртку. На, сказала она, возьми, там уже снег пошел. Михаил надел куртку, сунул руки в карманы и нашарил в одном из них билет на самого себя сверху донизу – выходит, она все же заплатила, но кто она? И чем она заплатила? Наверное, своим спокойствием – спокойствия у Михаила было хоть отбавляй, пусть оно и казалось бесповоротно чужим и при этом совершенно оправданным, честным, заработанным. Жена Михаила ходила по квартире и закрывала все, что он открыл – газ, воду, какие-то шкафчики, а Михаил возился в прихожей, искал правильные ботинки и избегал смотреть на жену, закручивающую его доказательства и, допустим, торопливо выбегающую из ванной комнаты с трехлитровой банкой икры. Даже человеку, которого грубейшем образом предали, порой необходимо что-то есть, почему бы и не икру.
Зачем ты вообще в это полез? Что ты хотел узнать? – спросила жена перед тем, как он вышел из квартиры. Он пожал плечами – я видел, что все идет не так, я хотел понять, я подозревал измену. И что, спросила она, ты нашел измену, да? Да, ответил он, я нашел, но толком не разобрался еще, но я всех нашел. Хорошо, ответила жена, я рада, что ты всех нашел, теперь иди, а то я все же думаю позвонить в «Скорую», чтобы тебя забрали, лучше ты уйди, и у меня исчезнет этот соблазн. Михаил ушел. Он вышел во двор, сел на скамейку, закурил и задумался. С одной стороны, сказал он себе, все пропало. Придется начинать этот фрагмент жизни с чистого листа. С другой стороны, добавил он уже вслух, я тоже летел молча и недолго, потому что на свет. Все течет, все умирает. Михаил почувствовал, что внутри как будто проносится холодный поезд. Его вырвало прямо на снег. Никогда не проверяй, если что-то подозреваешь, никогда ничего не открывай, ничего не руби, ничего не трогай, а если порубил – никогда не уходи. Все это Михаил повторял вылепленному из блевотины и снега земляному человечку, вокруг которого он лежал уже третий час, надеясь на то, что земляной человечек, как и в прошлый, и в позапрошлый раз вместо него, тающего и исчезающего, как туман, Михаила, вернется домой, откроет дверь своим ключом, попросит прощения за излишнюю свою подозрительность, разбросает всюду цветы и глицин и больше никогда, никогда больше. Но, видимо, никаких сил у Михаила больше не оставалось, и всякий раз исторгая себя из себя самого, он иссяк настолько, что получившийся блевотный человечек был совсем уже беспамятный – он просто сидел рядом с Михаилом на снегу, трогал ладонью белое пятно (это я белое пятно, подумал Михаил? Да, точно, в прошлый раз был я) и спрашивал: эй, парень, эй, парень, не лежи так, замерзнешь. Не лежи так, парень, замерзнешь. Михаил хотел ответить, что он не просто парень, и что он не просто лежит, но заметил, что вместо языка у него эта полупрозрачная рука, похлопывающая грязь и туман, немота свела его, будто судорога, и, превращаясь в землю, он успел почувствовать дрожь – это где-то на глубине двадцати-тридцати метров проезжал поезд метро, в котором все ехали домой. Намерение всех рано или поздно оказаться дома было последним чувством, которое испытал наш герой, и в итоге, судя по всему, именно в это чувство и намерение он и превратился – если не был ими всегда.
Полжизни карусель
Скульптор обнаружил Алину еще до того, как они познакомились, – месяц назад, когда она впервые надела пальто «Сирень», да-да, именно «Сирень», ведь первой фразой его было: «Я увидел вас в магазине в магическом пальто, и вначале в глазах просто рвалось взрывами, будто газовым баллоном резанули воздух и душат слезы, но потом сквозь сиреневое пятно будто вдохнул, рассмотрев, и даже лица еще не различив, понял, что это вы, и шел за вами от самого магазина, вы тогда покупали мундштук для трубы, это был магазин „Музыка солнц“, и вы сами были музыка тысячи солнц, пока шли с этим мундштуком в длинной дощатой коробке домой, я проводил вас до дома, ориентируясь на шаткую сиреневую синь в сетчатке, и уже когда вы пропали, растворились будто, я развернулся и увидел двор, и дом, и эти качели, и сел на эти качели, и прокачался полжизни, и теперь вторая половина жизни – потому что вы здесь, ура».
Такая длинная фраза, что Алина пошатнулась, ее едва не стошнило, у незнакомца была слишком специфичная манера речи, сумасбродная, как шелест кровавой гальки на пляже, она разве что спросила: «Вы были, что ли, в магазине тогда? Я помню, одна там была, единственный покупатель, кому еще понадобится такая дрянь, как мундштук», а он ответил: «Да я снаружи стоял, мимо проходил, и хлестнуло по глазам, как соленой апрельской ртутью, как ржавым прутом, и видел уже сквозь стекло и текучие хрусткие раны, как разбухал этот мундштук в ваших руках, твоих, давай на ты, тебя зовут Алина, я знаю, я спрашивал тут дерево, я спрашивал тут эту качель-карусель, и качель дала мне ответ, знак и номер квартиры, пятьдесят три».
– Пятьдесят один, – уточнила Алина. – Вы кто?
Алина решила, что он из КГБ – кто еще в такую рань может бродить по двору, выжидая и выстреливая вестибулярно невыносимой поэтикой, поэтому и сказала сразу про квартиру, приоткрыла нежную единичку: он знает, они все знают, похихикала она про себя, но я предпочту показаться честной, как сталь, как этот фунт ржавой арматуры или чем я там хлестнула тебя, дружочек, по лицу.
Нет, вовсе нет, замотал он головой, заметив в ее глазах нехорошо заваливающиеся тени.
Нет-нет, сказал он, и сонные, влажные качели из глубины двора согласно пискнули, как собачья флейта.
Он скульптор, он делает Оскара Уайльда и мраморный столик, зимой больше заказывают столик, Оскара Уайльда не заказывал еще никто, его зовут Семен (имя Алина тут же забыла), он любит кроликов и движущиеся меховые объекты типа и подобия «кролик» (но аллергия, поэтому нельзя), машины без верха (кабриолет «Вишенка», была, но лишили прав за буйство скоростей, и перепродал другу Мите), контактную импровизацию (Алина услышала «Контактную исповедальню», и вспомнила, что даже читала такое объявление в газете, контактная исповедальня, что-то можно через пальцы, через танцы передать, перелить из себя, как из звенящего грехами сосуда, святому отцу, а он потом уже отдельно вытанцует твои грехи буквально тремя-четырьмя движениями, стряхнет их гусиной водой и все, а тебе бы пришлось восемь дискотек пережить, чтобы стать снова прозрачным, как-то так все это объяснялось, но Алина не поверила и забыла, а тут вспомнила и испугалась), зеленые сливы, лошадей, японское старинное оружие и Алину, причем ее больше жизни и навсегда, но это не очень важно, потому что Алине это ничем не угрожает, пусть живет как жила, это его, Семена, проблемы, и нет смысла задумываться (тут Алина будто встрепенулась – кто такой Семен, подумала она, чьи проблемы, какого Семена? – но потом вспомнила, что забыла имя скульптора, и что он Семен, и тогда сказала себе: запомни, что он скульптор из мундштучного дня, имя неважное, не было такого имени).
Семен довел ее до метро, рассказывая что-то о том, как дрессировал пьяноватых лошадей в Мутяево, и как Свинцовая Джетти лягнула его напарника прямо в коленную чашечку, а прозвище было не зря, чашечку в мелкий фарфор, в крошку и дробь, хоть кашу вари, даже «Скорую» решили не вызывать, сразу торжественно ехать в приемный покой на Джетти же, и ничего, доехал, джигит! Алина предпочла ни о чем не думать, просто это было слишком много информации.
Алина жила одна, у нее была дочь Мамуся, но она жила с Алиниными родителями, которые девочку страшно любили и даже не совсем доверяли ее Алине; но ее это не тревожило и не волновало, она работала, ходила какие-то сметы составляла, бухгалтерия, налоги, плюс порой по вечерам уроки польского давала, иногда шила подушечки с картинами, типа гобелен, подушечки даже выставлялись кое-где, сюжеты потому что достаточно специфичные опять же, современное искусство, да и друзей у Алины было достаточно, каких-то галеристов, поэтому она, например, сообщила скульптору, что она художник по ткани, чтобы тоже как бы выглядеть творческим цветочком, а потом даже забыла, что сказала.
Через день она снова встретила скульптора во дворе, он задумчиво крутился на круглой детской карусельке. Алина помахала ему рукой. Скульптор подошел, поклонился, сказал, что теперь так будет всегда. Теперь всегда буду махать рукой проезжающим мимо каруселям, поняла Алина, в детстве мечтавшая стать дирижером, но эта карусель, как и многие другие, счастливым образом проехала, проплыла мимо нее.
– Это судьба, – объяснил скульптор. Его собственные руки были, как вареники, обваляны в муке. Или это не мука, подумала Алина. Или это судьба.
Ну, может, и правда судьба, бывает же. Скульптор был высокий, худой, чем-то даже похожий на ее парня Степу (аналогичный типаж, сухо отметила Алина), но немного младше. Алине было тридцать пять. Степе двадцать семь. Скульптору вроде было даже меньше, но выглядел он ветхо, сороковник, натурально. Тем не менее, кожа юная, светлая, как зеркальце, другая бы поморщилась, побоялась даже смотреть, но Алина даже не ощутила ничего – разница, нет разницы, тьфу. Сияющие глаза, безграничная влюбленность. Да нет, это не со мной, в метро не едешь? Нет, не едет, стал около стеклянной двери и будто лишился тела, превратившись в зыбкий полупрозрачный куль.
Хотела окликнуть, но в голове вместо имени просто перекатывались тихие камешки.
Скульптор, лишившийся имени, регулярно встречал ее во дворе и провожал то до метро, то до троллейбуса, рассказывал что-то, помогал поднести сумку. Это длилось пару недель. Алина старалась относиться к этому спокойно и не задавать себе ненужных вопросов. Однажды она позвала скульптора в гости, потому что чувствовала себя некоторым образом обязанной, но он отказался заходить.
– Я зачем тогда мундштук покупала, – засмеялась она натянуто, – Мой дядя живет в Ереване, то есть я не армянка, и дядя не армянин, это папин брат, но он женился на армянке давным-давно, и уехал за ней в Ереван, а там развелся, но стыдно было возвращаться, будто на войне проиграл, и остался там жить. А он джазовый трубач. У него там уже и оркестр свой появился. Ну и вот, ему понадобился мундштук, а там нет, как ему нужно. Я думаю, вот ты подумал, наверное, что это я играю на трубе, а это не я. Я всегда хотела играть на каком-нибудь инструменте, но у меня проблемы с пальцами, я в детстве сломала кисть, и мне сказали, что я в лучшем случае могу стать разве что дирижером. Но вот что странно – шью я очень точно, прицельно, как снайпер. Хотя рука часто, особенно в дождь, шумит, как неживая, как просто механизм, пришитый кем-то намного менее точным и ловким, чем она сама в минуты наивысшего вдохновения.
Скульптор никак не отреагировал, но смотрел на Алину с обожанием. Похоже, ему было наплевать. Вообще, по большому счету, ему было наплевать практически на все, что рассказывала ему Алина, но Алина чувствовала себя опять же обязанной что-то рассказывать скульптору, потому что она не очень хорошо понимала, что он каждое утро делает у нее во дворе.
Возможно, он делает там скульптуры, подумала она? На следующий день, действительно, скульптор ждал ее с готовой скульптурой – это был Оскар Уайльд, сделанный из какого-то красного, гранитного, ленинского камня. Писатель был надгробный, сутулый, но несломленный еще, немножечко франт, чем-то похожий на змею.
– Это все, что я мог для тебя сделать, – засмеялся скульптор, красный, вспотевший, передающий Алине Уайльда, доходящего ей до середины бедер.
Наверное, он хочет попасть в мою квартиру каким-то образом, поняла Алина. В квартире спал Вячеслав. Почему Вячеслав, чуть не закричала Алина, кто это такой? Так, не нервничай. Не нервничай. Она подняла Оскара, тяжелого, как смерть, и сухим гадким голосом сказала скульптору:
– Спасибо. Это очень странный подарок. Я не могу его принять. Но если я его и принимаю, я сама его дотащу, ты не против?
Скульптор почему-то облегченно вздохнул.
Алина притащила Оскара домой, выпила два стакана воды, переоделась (пока тащила от лифта, вспотела), посмотрела на Вячеслава пристально и зло – нет, вроде бы не Вячеслав, а Степан (из-за того, что она забыла имя скульптора, рядом с ним она была вынуждена забывать прочие имена, скульптор будто источал вирусную, медовую безымянность, сладко оплетавшую все вокруг), сказала зеркалу в прихожей: «Все нормально», вышла, скульптор ее ждал. Когда она возвращалась домой, он, как ни странно, сидел во дворе, крутился там на карусели, спросил ее, как прошел день, но толком не слушал, что она ему отвечала.
Это все было похоже на отношения, если бы оно не было так не похоже на отношения.
– Я бы хотела попасть в твою мастерскую, – сказала она. – Посмотреть, как ты работаешь.
– Да я… Я не в мастерской работаю, – забормотал скульптор. – Я снимаю. Снимаю инструмент, камень у друга могу снять, кусок земли если есть, могу на вечер просто взять и там прямо работать, но помещение это не то, там продувается очень, вообще все насквозь тогда из меня продувается и рука не может сжать.
– Я очень хорошо понимаю, когда рука не может сжать, – сочувственно сказала она.
Но он не очень хорошо понимал, как это – очень хорошо понимать. Он неловко и мучительно, будто неожиданно ослепнув, поцеловал ее в щеку, потом куда-то пошел в глубь двора, может, он живет там, подумала она, может, это просто сумасшедший сосед, который выгуливает все это время тут свою собаку, просто собаки не видно, и это все как бы объясняет.
Однажды она предложила ему сходить в кафе, они долго бродили по дворам и тропинкам, а потом, когда дошли до кафе, он сказал, что плохо видит дверь и что он не сможет в нее войти прямо так, ему проще было бы вплыть туда лежа на спине, будто бы внутри доски или ладьи, так бы понял, где дверь и где тут что, а так нет, не получается. И сел на асфальт, чтобы было понятно: не получится.
Псих, поняла Алина, вот оно что. Он довел ее до подъезда (как обычно) и сказал: «Алина, ты не поняла, наверное, ты вообще ничего не поняла, ты думаешь, почему я здесь, на протяжении двадцати одного дня тебя провожаю на работу, что я вообще тут делаю на этой тихой весенней (кстати, сейчас февраль – отметила Алина) карусели каждое утро, ведь у меня столько работы, – ты подумай, сколько шагов я прошел туда, и сколько шагов я прошел сюда, – ты думаешь, что я псих? Да, я мог бы быть псих, если бы такая тактика была необъяснима, но, увы, она объяснима, это любовь, я тебя люблю, мне важно, чтобы ты тоже меня любила, потому что, если мы не сможем быть с тобой вместе, я вряд ли смогу продолжать этот достаточно нелепый, нестройный, уродующий меня ритуал».
Действительно, скульптор последние дни выглядел практически уродливо: его лицо как бы вертелось, тошнотворно ерзало на голове, будто о него ежесекундно тушили горящие окурки и оно пыталось сбежать, сохраниться, спрятаться где-нибудь на затылке, в тылу, где любовь не жжет, не мучит, не достает.
Алина вздохнула. Кажется, пришло время объясниться. Она ненавидела такие моменты.
– Послушай, – забормотала она. – У меня есть дочь. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть молодой человек, как его, забыла имя. В-третьих, я тебя очень плохо знаю, ты для меня просто какой-то странник с карусели, который смотрит на меня и ничего не слышит, кажется.
– Я ничего этого не услышал, – сказал скульптор. – Потому что мне это все не важно ни капельки. Ты должна просто ответить мне – да или нет. В остальных ответах я тону, как в болоте. У меня просто выкипает мозг. Не надо меня мучить, я и так мучаюсь – я тебя выбрал, и теперь мне нужна некая финальная калькуляция, нолик, единица, дом, квартира, регистрация, да-нет, быстро.
– Ты мне практически никто, ну пойми, – смутилась Алина, так и не вспомнившая имя человека, с которым они вчера ходили в гости к Арсенальевым, смотрели там футбольную корриду, жарили китайского утенка и пили жирноватую соленую водку из зимнего ларька «Озарение», то есть имя из ее повседневности, бытовой необязательной жизни.
– Необязательной, – уточнил скульптор. – Пустой. Бессмысленной. Я ничего и не хочу о тебе знать, ты что, не понимаешь? Мне плевать, где ты работаешь. Мне плевать, кто твои дети и кем они не станут. Мне плевать, кто твои друзья и с кем ты ходишь к ним по ночам. Мне вообще наплевать на твою жизнь, потому что это все не то, этого всего сейчас нет вообще. Это не то, за чем я пришел. Мне это не нужно. Мне нужна ты.
Алина была не только Алина, но и квартира номер пятьдесят один с квартплатой четыреста семьдесят плюс коммуналка, и мундштук для дядиной трубы, и забытое имя Степана или Владимира, как же его, и все пятьдесят кличек дочери Мамуси, и даже сюжет своей свежей вышивки, где жуки едят коня, беспроигрышно, потом снова кто-нибудь отсканирует и выложит в Интернет под ярлычком «творчество душевнобольных», тоже своего рода слава. Ей было очень тяжело вычленить из этого всего нечто эфирное, безвыигрышное, гремящее одновременно и пустотой, и остротой, как щели между скалами – что-то, что было бы просто Алина как таковая, слишком поздно, она не помнит.
– Я не совсем хорошо понимаю, кого ты видишь, когда разговариваешь со мной, – разозлилась она. – Ты ничего не хочешь обо мне знать! Ты ничего не хочешь обо мне слышать! Тебе нужно что-то такое, что ко мне не имеет никакого отношения.
– Именно. И это – ты, – сказал скульптор. У него был совершенно ужасный вид, лицо его почти натянулось на подбородок, который будто бы заменил собой нос.
Алина положила руки ему на плечи, легонько потрясла его. Нет, сказала она, слышишь? Нет у меня никакой связи с тем, кто тебе здесь нужен, у меня с ней все совсем плохо, и я не думаю, что тебе с ней будет хорошо. Прости, ее нет, а у меня – жизнь.
Скульптор вроде бы все понял, извинился, ушел куда-то в ночь. «Искать собаку», – успокоила она себя. На ночной карусели визгливо висели пружинистые, как кипяток, дети. Один из припаркованных у подъезда автомобилей дымил, как лошадь, теплым животным туманчиком. «Он не вернется», – снова успокоила она себя. Но, увы, она и так была спокойной.
Вернувшись домой, она вспомнила – Степа! – позвонила Степе и полчаса рассказывала ему о том, что с ней произошло за день: снова болела рука из-за липкого снежного дождя, Флягина покупает у нее для галереи «Десятый олень» – ту работу с жидкими котиками, Мамусю записали в цирковую студию, но вначале было бы хорошо пойти с ней в цирк просто так и посмотреть вообще, что там сейчас происходит, может, там один разврат вообще. Степа слушал-слушал, а потом сказал, что никогда не был в цирке совсем, и что можно пойти всем вместе, вдруг на сцене тигр откусит дрессировщику голову, а что.
Скульптор больше не появлялся, и Алина, как ни грустно, очень быстро о нем забыла – а ведь, казалось ей, такие странные происшествия должны запоминаться на всю жизнь, разве нет? Видимо, она и правда была совсем не тот человек, к которому был обращен весь этот мучительный карусельный сценарий.
Однажды, через год, забирая гонорар в одном художественном салоне, она наткнулась на такого же Оскара Уайльда, который стоял у нее в прихожей, и вдруг вспомнила, как он у нее оказался. Немного пообщавшись с хозяйкой галереи, Алина выяснила, что скульптуру принесла одна старушечка, у нее в доме таких много, это ее сын делал, а сын умер, такая история, и вот держать дома их уже страшно, невозможно, а идея хорошая же, вот у Оскара, например, мобильный телефон и хипстерские очки, и это как бы постмодернизм, и можно продать, особенно если учесть эту историю о юноше скорбном, который всю жизнь одного и того же человека, так сказать, делал, а потом ушел таким молодым, так рано. Алина похолодела, ее рука превратилась в змею и почти сомкнулась у нее на холодном, сухом горле. Она поняла, что она и была тем самым человеком, которого он, одного и того же, так сказать, делал, а потом ушел таким молодым, так рано. Рана, рана, подумала Алина, в сердце кровавая рана, ах. Но что-то она ничего такого не почувствовала.
Вначале тоже ничего не чувствовала, потом убила, и все равно ничего не чувствую, ужаснулась она. Все, что она ощущала – это был невозможный, дикий, ледяной ужас. Она под каким-то нелепым предлогом (делаем выставку, театральное шоу, ставим пьесу, нужен Уайльд как объект) выцыганила у хозяйки телефон старушечки, выбежала из галереи, даже не пересчитав деньги (серебряный конверт), достала телефон, начала бить пальцами по клавишам (рука действовала только одна, вторую, которая была змеей, от ужаса парализовало, змея была мертва и безвредна, но и пользы не приносила, тыкалась в клавиши, как слепой щеночек), но потом как-то успокоилась, решила не тревожить никого.
Алина вспомнила вдруг про кабриолет «Вишенка». В автосалоне, где обслуживались кабриолеты «Вишенка», она какими-то правдами и неправдами (друзья, знакомые, влюбилась и исчезла, роковая встреча на светофоре, судьба-змея и сердечные трещины) выяснила телефон и адрес Дмитрия, как она поняла, того самого «друга Мити» – имена друзей скульптора она помнила, но его самого – нет.
Друг Митя смотрел на нее с недоверием. Он был похож на несгораемый шкаф. Его так и хотелось поджечь, чтобы проверить, все ли хорошо и выживут ли документы и фальшивые бриллианты, которыми он набит под завязку.
– Что-то я не могу ничего понять, – развел он руками, так и не приглашая ее ни пройти во двор, ни хотя бы глянуть на дом; видимо, это была теперь ее очередь стоять у входа, бродить у ворот, не входить в открытые двери – она вдруг вспомнила о такой особенности скульптора.
– Ну, то есть, чего вы вообще взвились, – уточнил Митя. – Прошло четыре года. Мы уже все давно поняли, кто виноват, кто не виноват. Хоронили же все. Хороши все, все хороши. Все виноваты. Наследственность, опять же. У него и отец от такого же умер вроде. Собирали деньги, что-то собрали, что-то не собрали. И что? И зачем, к кому, к матери его идти, вы что? Вы что, уезжали куда-то, что не знали, что ли? Вы по школе с ним переписывались? Вы одноклассники?
– Как что, – испугалась Алина, умоляюще глядя на Митю. – Я… как что. Я… то есть как – четыре? Почему четыре, я год назад, он год назад, и что?…
Митя что-то сказал очень нехорошим голосом. Выходило так, что «Семеныч» (его так звали, получается) умер четыре года назад от чего-то вроде долгой и мучительной болезни (Алина не поняла точно), и машину он Мите продал именно потому, что болел сильно, и нужны были деньги, и Митя за машину ему сорок тысяч дал, хотя она стоила в пять раз меньше, но нужно было на лечение, и какой-то бред вообще полагать, что он покончил с собой от несчастной любви, тут Алина все перепутала, и вообще, все слишком поздно – он, видимо, решил, что Алина какая-то его одноклассница-эмигрант, вернулась и видит кругом свежие могилки вместо дружной школьной фотографии с улыбками-флажками.
«Ну что ж, – подумала она. – Я тут точно ни при чем, ведь мы с ним общались уже после того, как он умер, значит, он умер не из-за меня, можно не волноваться».
Но что-то это не помогло ей не волноваться.
К тому же мрачный несгораемый Митя мог и обмануть, подшутить. Алина позвонила маме скульптора в тот же день, мама говорила очень тихо, но твердо, сильной скорби в ее голосе не было, она даже заинтересовалась: общались? Скульптуру принес? Оскара? Да, конечно, Оскара в номинации «Лучший драматический актер», подумала Алина и ужаснулась своей холодности. «Еще он делает мраморный столик», – с надеждой пробормотала она, но мама скульптора испугалась, сказала: «Столик? Да, мы сделали столик, и что?», но согласилась встретиться, только где-нибудь не дома, снаружи, давайте в книжном магазине на «Пролетарской», вот там.
Алина не удивилась, она поняла, что теперь она должна пройти весь этот путь, в котором не будет ни квартир, ни домов, ни хотя бы чужих подъездов; она встретилась с мамой скульптора около входа в книжный магазин «Парусник», и мама радостно сказала ей: «Ой. Вы Алина. Да, Сема мне столько про вас рассказывал». Сема жил с мамой, оказывается.
Митя, выходит, обманул.
Нет, сказала мама скульптора, все верно, он умер четыре года назад, в феврале.
– Где-то за полгода до этого он с вами дружил, да? – улыбалась мама. – Рассказывал, да, и я помню почти все, что рассказывал, он был тогда совсем поэт, вот, например, как во дворе вас ждал и карусель как-то скрипнула так протяжно, и он услышал: Алина. И понял, что вас так зовут. Он вас встретил в магазине, где вы покупали – что? – губную гармошку?
Алина попыталась сказать, что гармошку она покупала ровно год назад, к тому же это был мундштук, и у нее даже есть чек, она специально сохранила его, чтобы, если мундштук будет бракованным, дядя смог бы его обменять, выслав ей обратно, но мундштук оказался в порядке, а гарантия истекла вот ровно сейчас, год прошел ведь. Но она почувствовала, что не может ничего сказать. Ей показалось, что мир жестоко мстит ей за какую-то преступную невнимательность к тому, как в нем все устроено, и поэтому теперь все в нем будет персонально для нее устроено так, что даже предельная внимательность уже ничего не изменит.
Алина сказала, что уезжала на четыре года и приехала только сейчас, поэтому очень хочет съездить на могилку «Семочки»; через пару дней, на выходных, они с мамой скульптора встретились у входа на Северное кладбище, мама сразу, безошибочно, лабиринтами и однообразными, серыми гранитными блоками вывела к нужному месту, и там столик, мраморный змеистый столик, красота.
– Это Семен сделал столик. Специально, чтобы друзья могли на могилке выпить, пообщаться. Он же знал, что умрет, но работать еще мог, и вот, сделал столик, – радостно сказала мама, сметая со столика какие-то засохшие свечи, лиственную труху и сигаретные окурки.
Алина посмотрела на памятник, там был тот год, когда Мамуся пошла в первый класс, сейчас она в четвертом, четыре года назад. Алина поняла, что здесь должен быть пассаж «паника», но она была спокойна, ее руки казались ей одинаковыми, все вокруг казалось ей одинаковым, пустым и безбрежным, как поглотившее ее спокойствие.
– Знаете, если бы я не уехала, может, все бы иначе было, – сказала она маме скульптора, когда они пробирались через какой-то черный сугроб. – Но, понимаете, меня позвали в Беркли, на стипендию, учиться, я дирижер, это такой один шанс в пятьсот лет, то есть даже на семь-восемь жизней выпадает только один, и я была вынуждена поехать, хотя, конечно, собиралась вернуться.
Мама перепрыгнула через сугроб, а Алина провалилась в него по колено – оказалось, что ноги ее не слушаются.
– И я вернулась, видите, – сказала она, выковыривая из сапога хрустящую, стремительно текучую наледь. – Я ведь правда не знала, что он заболел. Но я не могла. Я даже дочку оставила родителям, а сама уехала. Они мне ее потом, кстати, так и не отдали – сказали, что я не мать, а дерьмо. Если бы я только знала – вы же понимаете!
У нее был совершенно умоляющий голос.
– Все хорошо, – сказала мама скульптора. – Он все время к тому же говорил, с самого начала, еще до болезни, что вы слишком далеко, совсем далеко – вообще, просто непередаваемо далеко – и что это нельзя изменить.
Ну, как-то же он все-таки это все изменил, подумала Алина.
Но не до конца, не до конца. И ей стало невыносимо жаль, что некоторые вещи все-таки изменить невозможно – даже, фактически, сделав для этого что-то еще более невозможное.
– Мне невыносимо жаль, – сказала она уже потом, когда подошел ее автобус.
– Да ладно, – похлопала ее по плечу мама скульптора. – Уже даже я привыкла, а вам все жаль.
Алина полчаса сидела в автобусе, трогая пальцем стекло. Автобус мерно гудел и тошнотворно перекатывался, как шар внутри другого шара, которым сейчас казался Алине весь мир, черт бы его побрал.
Она перешла дорогу два раза, оказалась во дворе, долго-долго кралась по нему в сторону подъезда. Где-то вдалеке скрипнула карусель. Алина начала шарить в сумочке ватной, будто чужой рукой в поисках ключа – денег, кошелька, жизни, паспорта. Ей уже не было ни грустно, ни обидно, ее будто бы вообще не было, и хотелось схватить одной рукой другую, будто поймав веселого автобусного мальчишку-карманника, предотвратить похищение, остановить кражу, сказать преступлению «нет».
Алина вошла в прихожую, повесила сумку на шею Оскару Уайльду и подумала о том, что она так, в сущности, и не поняла, что такое произошло. И что во всем произошедшем, что бы это ни было, ее спасло только то, что с ней этого не происходило на самом деле. «Что бы это ни было, я в нем не участвовала», – сказала она вслух, глянув в зеркало. Но, конечно же, ей было немножечко грустно – выходит теперь, можно было и поучаствовать, это было бы как полет во сне и полжизни на карусели, что-то абсолютно безнаказанное и ни на что не влияющее.
Держи меня за руку, не отпускай никуда
Одна пара, муж и жена, прожили вместе десять лет в любви и мире, а вот детей у них не было. Однажды муж спросил жену: жена, как так получается, что десять лет мы засеваем поле, а хлеб не всходит, десять лет я собираю с этих деревьев яблоки белый всполох, а их сок не бродит, не томится и не загустевает деготным сыром под тяжестью камня, десять лет мы стираем наши одежды в стиральной машине «Вятка», а ее протоки и трубы даже не покрылись закономерной и ожидаемой в данной ситуации проседью водяного камня и накипью известковой пыли, десять лет я учусь в автошколе, но почему-то так и не сдал на права, а ведь ты каждое лето сажаешь меня на пассажирское сиденье и мы едем в отпуск в Черногорию, и нет ничего слаще этих отпусков – но где результаты, где будущее, где хоть что-то, хотя бы эта справка об окончании автошколы, простая бумажка, обычное свидетельство о том, что годы прошли не зря, неужели ты не хочешь ничего изменить?
Жена ответила: я так и знала, что рано или поздно ты спросишь об этом, но ты ждал целых десять лет и только теперь спросил, почему ничего не меняется, хорошо же, я покажу тебе.
Муж спросил, нужно ли куда-то теперь идти. Жена ответила, что нужно одеться и пойти, но это недалеко, минут десять быстрым шагом. Муж расстроился, потому что не хотел никуда идти, а хотел лежать на диване и смотреть сериал, хотя по-хорошему лучше бы поучил знаки, запрещающие, предупреждающие, разрешающие (и даже не знал, что не существует разрешающих знаков, поразительно!). Но жена сказала, что лучше пойти прямо сейчас, потому что ей потом уже не хватит решимости.
Муж и жена пришли в небольшой городской парк в соседнем районе, где мрачные инженеры ловят рыбу в темном пруду по вечерам, дети бьют белку, а утка семенит быстрыми-быстрыми шагами навстречу волне, хлебу и злу. В самом дальнем уголке парка жена подошла к дереву, крона которого была похожа на вывернутый наизнанку якорь, обняла его, как раньше обычно обнимала мужа, и прошептала прямо в кору какую-то чушь, тогда в дереве открылась дверь и жена сказал мужу: пойдем, не бойся, там сад.
Муж пошел за женой; действительно, за дверью был дивный сад, цветущий, сочный и пламенный; в маленьких травяных домиках, подсвеченных фонариками, жили мышки и восьминогие мягкие чайнички из молочного фарфора, в больших моховых землянках кучно селились олени, медведи и другие животные, похожие на обычных животных, но немного другие, потому что у них, помимо звериных лап и ног, были человеческие руки и пластиковые паспорта-карточки, по которым им, например, выдавали книги в библиотеке, еду в специальных буфетах, пирожные в кафе, еще выдавали транспорт: светящиеся целлофановые рулоны, которые как-то немыслимо раскладывались в прозрачные пузыри, огромные конвертики или кривые крупные корабли, еще тут, кажется, были люди, но немного, человек пять или семь (прочитали в местной газете, которую сами же и издали, так получилось, так называемое быстрое производство), также в хижинах жили хижины поменьше, у них был даже свой парламент и социальная сеть, и договариваться на это быстрое производство можно и нужно было именно с ними, и рестораны именно у них были самые лучшие, и магазины самые милые, потому что на свежем воздухе если магазин, то всегда неловко, потому что денег нет и как будто нашел чужое, а когда магазин в хижине, то это уже как бы украл чужое, и не неловко, а смешно и весело. Жена это все объясняла мужу, а он шел совсем зачарованный, потому что красивее сада в жизни еще не видел – все цвело и плыло, ладья шумела водяными капельками в чашечке из росы, небо надвигалось рыжей пеленой и дышало в ухо собакой и облаком, из моря росли щетинки и ракушки, дорожка убегала, деревья не заканчивались вообще, потому что у них не было верха, вообще верха не было ни у чего, а низ всего был мягкий мятный мох, и тогда жена посоветовала мужу лизнуть мох, он лизнул его и поразился – это был мятный шоколад, но уже когда во второй раз лизнул, оказалось, что это мятное мороженое, а в третий просто земля, но землю с таким вкусом ел бы хоть всю жизнь, сказал он, и жена тихо кивнула – да, сказала она, ты понимаешь, я всегда знала, что ты поймешь, потому что ты единственный человек во всем мире, который понимал и понимает меня, поэтому и это все ты понял сразу.
Я понял, сказал муж, это дом, это мой дом, я просто вернулся домой, как же так, почему ты раньше не говорила мне, что дом есть, что дом существует?
Жена ответила, что боялась, ведь муж мог принять ее за сумасшедшую или не поверить ей, но она обнаружила эту дверь лет пять назад, когда они, ну, ты помнишь, так страшно поругались, что она тогда сказала эту вещь про шар и визг отца и человека по имени Э, и тогда он еще сделал то, что никогда не должен был делать, и она потом убежала в лес, хотя это был парк, но она в том состоянии видела его как лес с обрывом, проводами и рекой в никуда, и вот она тогда обнимала каждое дерево и шептала в кору какую-то чушь, иногда в рифму, иногда без, это был, видимо, психоз, но то самое дерево, наверное, любило стихи или просто это был ключ, но все сработало, и она попала в этот сад, а там время плыло иначе, все было другим, честным и прозрачным, в этом мире не было ни слов, ни понятий, просто чистота и мгновенная ясность, видишь же сам, здесь есть только мгновение и прозрачность, нет ни прошлого, ни будущего, и личность исчезает совсем, потому что ей даже не за что зацепиться – как облаку в безветренный день в городке, где нет ни шпилей, ни церквушек, ни башенок – остается просто раствориться в зыбком летнем мареве, ты пока не понимаешь, но скоро поймешь – здесь все иначе, это мир с совершенно другими законами, но я в нем дома и в нем у меня не то чтобы все получалось – в нем во мне нет никого, кому хотелось бы, чтобы у него получалось хоть что-нибудь, ведь здесь все уже получилось само по себе.
Я уже все понимаю, пораженный, сказал муж, это дом, это самый настоящий дом.
Муж и жена немного погуляли по травяным улочкам сада, зашли в кафе с невидимыми посетителями послушать невидимую скрипку (которая, кстати, была еще и неслышимая, но это было совершенно особое удовольствие – как есть мятную землю), посетили цирк «Нас тут нет», где показывали разные отсутствующие города мира глазами людей, которые могли бы там побывать, а потом настоящие города показывали как бы без глаз, такими, как если бы людей не было вообще, а города остались – такое могло бы быть, если бы все человечество выжгло мягкой солнечной лавиной, оставив неприкосновенной всю тихую каменную красоту этих мест, лишенных чужого зрения, шага, выдоха, вообще любого соприкосновения с неловкой человеческой физиологией. Потом они купили блокноты, сотканные из паучьего мягкого сердца, в магазине «Серебряная нить», а еще корзинку шерстяных яблок для гостиной, но тут жена сказала мужу, что все это при переходе обратно исчезает, точно так же, как бывает обычно во сне. И еще, сказала она, вот тут около ратуши обычно переходит дорогу олень на колесах, это ежедневный олень с указанием локального времени в месте той двери, которой воспользовались видящие его, и дорогу он поэтому переходит всегда и как бы сразу, хотя он перешел ее по факту единожды, но ведь здесь все сразу и всегда, и вот когда у него часы бьют твою полночь, а ты все еще здесь как человек и гость, то дверь исчезает и людей, таким образом, становится шесть или восемь, но я не уверена, и вообще я людей тут еще не встречала, но мне кто-то как-то сообщал, что они тут есть и даже у них тут какой-то свой бизнес, какие-то дела, возможно, тоже маленький парламент, здесь это просто, на все дают разрешение, идешь и берешь, вот в той же ратуше, например. Ратуши не было, но было озеро, которое иногда выдыхало само себя и надувалась над котлованом водяная ратуша с воздушными фонтанами внутри, и если кто-нибудь туда входил, то для него вода обращалась в стены, камень и книжные полки, и можно было взять вообще любую книгу и читать сколько влезет, библиотека, то есть, уточнил муж, но жена покачала головой: нет, ратуша, потому что из озера, библиотека из пожара, там около розовых беседок маленький свинцовый пожар, и в нем библиотека, она дает книги для радости, а ратуша – чтобы подумать и чтобы получить документ, три книги прочитал, которые нужно, и тогда потом уже получаешь нужные бумаги, открываешь что-нибудь, к тебе приходят, ты их то видишь, то не видишь, вообще тут видеть не обязательно, это просто пока кажется, что ты видишь, тебе так удобнее, как будто глаза, восприятие, это вот все.
Муж посмотрел на ратушу, это было озеро с переходом через дорогу, но дороги не было, просто катил через две черноты олень, но при этом как бы стоял на месте, а дорога текла сквозь него невиданными семафорами, электричками и неким тошнотворным подвалом. Через всего оленя были проведены электронные часы, частично проходя по оленю, частично мерцая в воздухе, и это были городские часы на ратуше, оставалось полчаса до полуночи, и жена сказала: надо идти, а то дверь закроется.
Она объяснила, что если остаться до полуночи, то дверь закроется навсегда, и уйти из сада будет невозможно, и придется оставаться здесь навечно. Наружная дверь – та, где дерево – тоже закроется навсегда, никто больше не сможет попасть в сад. Поэтому необходимо всегда успевать до полуночи. Это несложно, быстро привыкаешь, олень никогда еще не забарахлил.
Они вышли из сада и пошли домой, муж оглянулся на дерево, пытаясь его запомнить, а потом спросил у жены, почему она не осталась там, в этом прекраснейшем из мест – настолько прекрасном, что словами невозможно объяснить вообще ничего, потому что законы слова, текст и вообще любые примитивные ужимки мозга там не работают, не действуют, ведь в мире всеприсутствия действия чушь и тлен. Жена объяснила, что, во-первых, если бы она осталась там, она бы больше не увидела мужа, а это исключено – ведь он любовь всей ее жизни. Во-вторых, уточнила она, ей гораздо приятнее периодически появляться там, а потом возвращаться в обычную жизнь – жалко, конечно, что ничего с собой не унесешь, но время и пространство ценишь гораздо больше и интенсивнее, когда понимаешь, что есть огромное количество миров, где они не играют роли вовсе.
И поэтому ты ничего не хочешь менять, я так понимаю, спросил муж. Да, ответила жена, у меня уже есть все, и менять ничего нет смысла, я практически полностью счастлива, а теперь даже не практически, а полностью, потому что я смогла наконец-то показать это тебе, и ты не испугался, не посчитал меня сумасшедшей, а все понял, принял и почувствовал так же, как и я. Выходит, это и правда ты. Выходит, мы и правда не просто так.
Но почему ты не осталась, неужели ты не хотела даже попробовать, спросил муж. Жена обняла его так, как будто он дерево, сказала ему на ухо то самое, что обычно шептала дереву, а потом повторила: без тебя там все было бы не так, потому что память там тоже работает не так, как здесь, я бы просто забыла тебя и все, но здесь бы, наверное, ты тоже исчез, и память твоя обо мне здесь бы превратилась во что-то непостижимое, каким-то образом исчезновение туда насовсем все здесь меняет, это я точно знаю, но я не встречала там людей, я не выясняла, зачем выяснять.
Надо было выяснить, сказал муж, надо было поискать, давай сходим туда завтра и поищем их.
Они сходили в сад завтра, послезавтра, потом еще и еще, они проводили там все больше времени и искали других людей, но так и не нашли, потому что сад был бесконечен и всеобъемлющ, в нем иногда встречались следы жизнедеятельности этих людей – прирученные невидимые животные в шляпах и с кожаными браслетами на лапах, магазины просроченных платьев, теннисные корты и огромные советские санатории на морском берегу, обрывающемся в теплую конфетную лаву – но сами люди никогда, видимо, не время еще, но там всегда было и время и не время, одновременно было время всего, и муж все грустнее смотрел на оленя с часами на ратуше, и однажды, через полгода или чуть больше, он спросил у жены: почему мы не можем остаться там и жить там всегда, зачем мы всегда возвращаемся? Ты раньше возвращалась ради меня, я это понимаю, но теперь, когда я тоже здесь и ты здесь – почему мы не можем остаться.
Ну ты вообще, ответила жена, а как же моя мама, ей же шестьдесят семь, у нее недавно диагностировали раннего Паркинсона, и что, кто же будет ухаживать за ней, как так? А твой отец, кто будет помогать ему с дачей, и вообще, у него диабет, дальше тоже может быть хуже и хуже, а если что, как он тебя найдет, как он вообще поймет, где ты? А работа, а друзья, а наша собака Тюбик, туда нельзя Тюбика, потому что, я помню, как-то со мной туда птица пролетела, и было очень странное потом на месте птицы, какое-то слюнявое желе блестело в траве, а потом трава его съела маленькими муравьями и превратилась в журнал с неприличным названием, птица стала как бы шуткой, но это было не страшно, а смешно, потому что в том, нашем мире птица продолжала лететь. И вот как туда Тюбика, я не могу, мы не можем, потому что Тюбик. Ну ты вообще как сумасшедшая, сказал муж, при чем тут Тюбик, это же просто собака, мы его отдадим кому-нибудь, каким-нибудь знакомым, он же всем нравится, наш Тюбик, он клевый чувак, все будут рады, при чем тут вообще собака. Да это просто предательство будет, объяснила жена, а я не уверена, что, когда остаешься там через предательство, все именно так же, как раньше, как обычно. Да, ты исчезаешь там в любом случае, но исчезая с предательством, исчезаешь кем-то другим. Это не то, это совсем не то, что нужно делать, почему мы не можем просто ходить туда гулять, с берега на берег?
Ты никогда не хотела перемен, сказал муж, ты тупая и скучная курица, ты не умеешь ничего менять, ты не умеешь ничего вообще, ты просто боишься безвозвратности, боишься что-то менять навсегда, а ведь это навсегда, я понимаю.
Жена виновато согласилась: действительно, ей не хотелось менять что-то навсегда, да еще так радикально – шутка ли, просто исчезнуть. Пойми, сказала она, для меня важнее возможность всегда оказаться там – в любой момент – и знать, что путь назад тоже есть. Возможность счастья в любой момент важнее вечного счастья в пространстве отсутствия такой категории, как момент и такой категории, как возможность, понимаешь? Возможность вернуться оттуда, откуда не хочется возвращаться, важнее вечного пребывания там, где ты забываешь о том, что тебе есть куда возвращаться. Возможность – это ерунда, сказал муж, ты просто разрушаешь свою жизнь тут и не строишь свою жизнь там – почему ты не сказала мне сразу? Ты боялась, что я себя именно так поведу, да?
Жена расплакалась. В ту ночь она крепко-крепко держала мужа за руку, словно боялась, что он куда-нибудь убежит.
После этого каждый вечер они ругались и спорили, а в сад уже не ходили. И только по ночам, во сне, жена брала мужа за руку и представляла, как они вдвоем идут гулять в сад, а потом возвращаются через дверь с полными корзинами сиреневого ситца и вишневого сидра в стеклянных баночках – а все это не исчезает и переходит сюда, и столько радости, столько счастья! Однажды муж сказал во сне: «Держи меня за руку, не отпускай никуда», и она расплакалась, но он проснулся от ее слез, выхватил руку и сказал: «Иди давай умойся, а потом спи, невозможно вообще».
Муж становился все мрачнее и мрачнее, за пару недель он как будто постарел лет на десять, его лоб покрылся морщинами, он постоянно о чем-то думал. Потом он сказал жене: ну что, ты пойдешь туда со мной? Нет, ответила жена, ну пожалуйста, не мучай меня, у меня больная мама, я не могу, почему мы не можем просто там бывать и радоваться? Потому что это не жизнь, а мучение, объяснил муж, ты идешь со мной? Ты пойдешь со мной? Нет, ответила жена, я не пойду с тобой, но и ты никуда не иди, пожалуйста, потому что если ты туда пойдешь и останешься после полуночи, дверь закроется и я больше никогда тебя не увижу, а я этого не смогу пережить.
Ближайшие три дня муж не разговаривал с женой вообще, просто смотрел на нее темным, нехорошим, густым лицом. А потом утром жена проснулась и увидела, что муж ушел – побрился, надел весенние кроссовки и шапочку-кепку, взял с собой пару каких-то книжек (хотя книжки туда нельзя, как и животных) и ушел насовсем в сад – жена сразу это поняла, подождала, конечно, до полуночи, сидела на кухне около окна, пила мятный чай, даже пошла немного погуляла с Тюбиком, хотя он не просился гулять. В полночь, в час ночи и в два часа муж не пришел. Тогда жена легла спать. Утром проснулась, лежала где-то час в кровати и думала, но не думалось. Потом оделась, побежала в парк, нашла дерево, прошептала, обняла, как обнимала мужа, и поняла, что теперь ей уже некого обнимать – дерево и муж исчезли, кора была чужой, дверь пропала, пропала даже ее возможность, и жена вдруг увидела себя со стороны – уставшая некрасивая женщина тридцати семи лет с черными впалыми глазами, обнимающая грязное парковое дерево, неврастеничка, идиотка, городская сумасшедшая. Все, иди домой, закончилась твоя жизнь, сказала она себе. И пошла домой, хотя это был совсем не дом, дом был там.
Потом она часто спрашивала себя: почему она не пошла туда с ним, почему она отказалась? Ведь все самое дорогое, что у нее было в жизни – это ее открытие, этот сад – и этот человек, которого она встретила раз и навсегда, также объявив его лично для себя собственным открытием, откровением и вечным пламенем – почему же она позволила одному исчезнуть в другом и обеим этим вещам пропасть для нее навсегда и окончательно? Почему она не пошла за ним? Всякий раз она давала себе разные ответы на этот вопрос, но потом все же решила – дело в том, что она никогда не ушла бы туда одна, без него, а он смог уйти туда один, без нее. Выходит, дело всего-то в невзаимности. А когда нет взаимности, никакой сад уже толком не нужен. Нужен, конечно, почему не нужен (говорила она себе, когда пьяная по ночам обнимала все деревья в каком-нибудь захолустном весеннем парке), но как теперь найдешь, если всего человек пять или семь нашли, а теперь, выходит, шесть или восемь.