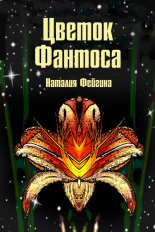Воробьиная река Замировская Татьяна
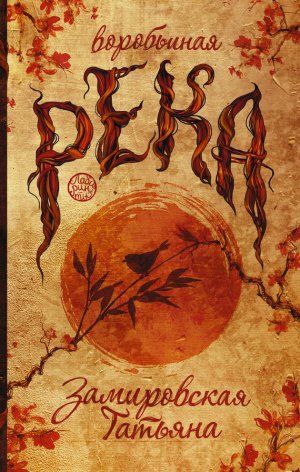
Вечером мы, как обычно, как всегда, как эти десять и двадцать чертовых лет назад, устраиваем дикие игры с глинтвейном – вот Илья бежит за градусником, чтобы проверить его температуру (глинтвейн должен быть ровно 80 градусов, как хороший зеленый чай, назидательно говорит Катя, после чего Илья срывается вверх по лестнице на второй этаж), через мгновение с криком: «Бляяя!» хватает дымящуюся десятилитровую кастрюлю и выбегает из дома босиком на мороз. Возвращается уже с пустой кастрюлей, из которой идет душистый пар.
– Это был ртутный градусник, – кисло уточняет Катя. – Я его для Ильи и взяла, он немного еще бронхитный был, когда мы выезжали.
Около крыльца наутро мы находим огромную глинтвейновую яму, обрамленную сахарными краями кровавого, рубинового, закатного снега, и мы с Заей отламываем по куску этого ароматного крошева и сосем его, хихикая, и мальчик Нутик бьет нас по ладоням и кричит:
– Дуры! Дуры вы обе! Дуры дурацкие, там ртуть же! Ртуть!
Мы с Заей падаем в снег, и я целую ее в ртуть и в ртуть, и у меня тут же начинает трещать голова, как будто ее окунули в прорубь где-то в другой реальности, отдельно от меня.
Мальчик мгновенно становится взрослым и брезгливым Пафнутием, засовывает в рот заскорузлую льдистую варежку и делает вид, что его рвет прямо в нашу ночную рубиновую яму, колодезь нереализованных желаний, исполненный ртути, счастья, аниса и кардамона. Теперь никто никогда не узнает, есть ли у него температура.
– С мертвой женой целоваться – это нормально, – хихикаю я. – А тут, значит, простите, нас тошнит.
– Подросткам гораздо ближе смерть, чем любовь, – бормочет Зая, вытряхивая льдинки из шапки. – Я в 13 тоже такая была – писала стихи про то, как я встречаю, скажем, на кладбище мертвеца, одиноконького, и начинаю с ним целоваться, гулять среди могил, держать его за истлевшую руку. Ну, то есть для подростка это все нормально: мертвая невеста, тили-тили-тесто. Живого, физического секса с другими людьми они смертельно боятся. Но я, кажется, его до сих пор сама тоже боюсь. Другие люди, буээ.
Мы все свои, и наш дом полная чаша, мы играем в нарды и маджонг, Катя заваривает зеленый чай вместо глинтвейна, эмигрантская сволочь и беженец позора Коля-Николай из Пенсильвании запивает зеленый чай водкой из фарфоровой чашечки с цветочками, Илья массирует Кате ногу и говорит, что второй ноги у Кати нет, она фантомная; Резничев с женой затевают игру в «Крокодила» и загадывают Нутику показать осколочное таинство кристаллической безвозвратности, и я сразу вспоминаю, как еще за год до того, как Катя забеременела этим маленьким гомофобом, горелые и пузырчатые, мы играли в «Крокодила» на пустынном пляже Бугаза, когда Саша загадал мне «латиноамериканских энциклопедистов, экспедирующих из эквадора партию филигранных клише», которых я показывала, кажется, всего лишь часа два, так мы хорошо тогда друг друга понимали.
Сейчас понимаем плохо: все отгадали безвозвратность, а остальное – нет. Видимо, у Кати получился ребенок, который может идеально показать безвозвратность, а все остальное показать не может.
Коля ржет. Коля вообще со всего ржет, потому что родина кажется ему нелепой и седой, тесной, как женский замшевый сапог, который мгновенно летит через всю гостиную прямо в кучерявую лысеющую Колину голову. Вдруг эта самая Колина голова светлеет и лучезарно предлагает поиграть в «сифу», и вот сапог уже ответно летит в голову Илье, сшибая по дороге какую-то вазочку, и мальчик Пафнутий истошно кричит: «Что такое сифа? Что такое сифа?» Безвозвратность, дорогое наше дитя, ты умеешь, а сифу не помнишь.
Никто ничего не помнит.
– Мы в школе играли в «сифу» тряпкой для доски, – весело говорит мертвая жена Резничева. Таня больно и со значением щиплет меня за плечо, и Зая смотрит на нее каким-то капризным, детским взглядом, и я глажу Заю по затылку и запускаю руки под ее свитер, чтобы убедиться, что она здесь, что она никуда не исчезнет, а то все уже, кажется, исчезли, вот, например, куда делся Танин немецкий муж?
– Ему просто скучно тут с нами, – объясняла Таня каждый вечер. – Он сидит наверху у себя и решает какие-то бизнес-вопросы по «скайпу».
Сапожная сифа прилетает нам с Заей, мы закрываемся голенищем и целуемся, и вокруг пахнет кардамоном, снегом и пылью (это потому что сапог, понимаю я), и я счастлива настолько, что, кажется, не может быть человек так счастлив, вот только этот чертов Резничев все портит своей историей взаимоотношения с безвозвратностью, и его кукла-жена, красивая, как всегда, красивая, как тогда, когда он познакомился с ней в каком-то дальнем поезде и потом притащил ее в нашу компанию, тонкую и острую, как скульптура из лезвий, красивую, как в гробу, тем светлым мягким летом, полным ватных озерных туманов, птичьего рассветного свиста и комариного траурного хорала вокруг опухших дачных ног.
Мы тихонько обсуждаем это с Таней, выбегая на крыльцо покурить, – отличный был отпуск, томно говорит она, вот уж лучше бы кто-то в номере повесился, например Петер, так достал уже, что я даже иногда с надеждой открываю дверь, особенно если он весь вечер не спускается к нам, – ну, может быть, уже? Но нет, сидит, живой, какие-то ячейки заполняет.
– Зато он счастливый какой, видела? – говорю я, рассматривая мглистый черносливовый дым, повисший вокруг моих пальцев, – Резничев. Раньше он мрачный вот какой был. Хорошо еще, что не женился второй раз, любовницы, может, и были какие-то, кто знает.
– Выходит, он ради этих трех дней семь лет не женился? – пожимает плечами Таня (с нее чуть не сваливается белая карнавальная шуба Ильи, которую она одолжила у тьмы сеней). – Глупости какие-то. Конечно, да, он ее любил очень. Я помню. Но это того не стоит, по-моему. Лучше бы начал новую жизнь, может, тогда она и не приехала бы и не испортила нам ничего, отпуск бы не испортила, не лезла бы.
Жена Резничева ничего вроде бы не портит: моет посуду за всех, готовит завтрак, рассказывает немного устаревшие анекдоты, учит пьяненького Илью танцевать танго и болтает с Петером на чудовищном немецком (надо же, может, языковые курсы там посещала, хмыкаем мы с Таней). Но мы осознаем, что все безнадежно испорчено: все будто становятся друг другу чуть-чуть чужими, как будто эти семь лет небытия, поместившиеся в небольшой дорожный чемодан, проступают на наших лицах шероховатостями, потертостями и немыслимыми гримасами неискренности – вот уже моя сальная шутка про узника бесчестия Николая из Пенсильвании вызывает у него приступ неожиданно искренней тошноты, вот Катя и Илья о чем-то негромко переругиваются около камина, вырывая друг у друга из рук скомканную бумажку с чеком, вот в маленьком ресторанчике «Волна» мы не можем разобраться со счетом и нам вечно не хватает пятидесяти, где пятьдесят, кто не доложил пятьдесят, и кто-то смеется, вспоминая тот давний случай в Одессе, но этот смех повисает в воздухе, как отломанная сосулька – сейчас время снова запустят и она разобьется на фальшивые льдинки, но она не разбивается никогда, и над нами вскоре повисает, как в кино, целый ледник, замогильный и беспощадный.
А ведь еще неделю назад так хохотали, когда волокли пьяную Таню на носилочных лыжах с лесной карусели домой. Или когда нашли дерево на вершине горы и решили поставить там мюзикл «Перевал Дятлова», даже успели две арии написать – всеми действующими персонажами мюзикла, как мы решили, должны были быть существующие версии трагедии: я была инопланетянами, Илья – мансийскими охотниками, а Зая должна была написать арию КГБ-шников, потому что она была злокозненной версией спецслужб, и все эти версии должны были спорить, кружиться в хороводе под снегом и подбрасывать в костер стопки бумаг с ложными доказательствами, пока сами герои где-то лежат, тихие и доверчивые, в застывшем звенящем ручье – висящем над мерзлой землей, как стальная радуга, как все эти невзорвавшиеся хлопушки, неразбившиеся сосульки, несклеившаяся наша дружба, которая то ли была, то ли не было ее никогда, то ли и нас никогда не было, а были только эти сплетни-сплетенки.
– Вроде бы жена ему изменяла пару раз.
– Не помню, не помню.
– А ты не помнишь, Илья в нее был влюблен немного, тогда он еще с Катей не встречался же.
– Не помню, не помню.
– Я тоже ничего этого не помню, но если мы не будем с тобой разговаривать, мы уже никогда не будем с тобой разговаривать.
Мы курим и молчим.
– И вот, кстати, эта твоя подруга детства, вот тоже странно… – начинает Таня.
Зая выбегает на крыльцо и смотрит на нас с Таней волком, я обнимаю ее и валю в снег, и она кричит: не трогай, не трогай меня, пока я пытаюсь поцеловать ее в неожиданно острые, уворачивающиеся, клацающие на морозе, будто волчьи зубы. У нее никогда не было таких зубов, но и у нас никогда не было такой ситуации, чтобы все прилежно несколько дней молчали и ни о чем не спрашивали. Я обнимаю Заю, вдавливая ее острую динозавровую спинку в сугроб, пока она не перестает трепыхаться, как подстреленное маленькое животное. Кем бы она ни была, обрела я ее только недавно. Зая учит меня смирению и, возможно, любви как способности узнавать извечно родное в совершенно далеком и чужом – чужие руки, чужие ноги, чужая голова, и все наконец-то родное, как никогда, и постоянно этот соленый привкус во рту, и головокружение, и тонкие, как у гончей, запястья, покрытые рыжими точками.
– Да спроси ты у нее: где ты была все это время? Что там вообще с тобой происходило? Почему, черт возьми, один чемодан? Или спроси у Резничева, она ведь что-то точно ему рассказывала.
Резничев слепо и абсолютно счастлив, он вчера за завтраком ее ругал: больше недели тебя ждал, не могла раньше приехать. Что с него спросишь – это уже потом, когда он ее проведет на обратный восьмичасовой, можно будет спрашивать, но обычно в таком состоянии человек как после похмелья, плачет и скребет пальцами снег.
На четвертый день ранним утром жена Резничева наварила на всех отличного яблочного компота в той самой ртутной кастрюле, а потом объявила, что вечером должна уехать на восьмичасовом.
Таня тут же подавилась кофе, и немецкий муж принялся хватать ее сзади за талию, подпрыгивая.
– Не то! Не то! – визжала Таня, – Этот захват, когда твердым давишься! Это просто кофе, ну отпусти! Я дышу! Дышу же!
Но немецкий муж не отпускал и продолжал подпрыгивать, вдавливая Тане кулаки в солнечное сплетение. Мальчик Пафнутий тем временем задумчиво лил на чернеющие в блюде гренки белесую нескончаемую сгущенку – текущую невыносимо медленно и с какой-то болью контрастирующую с судорожными, жаркими толчками Таниного ненужного спасения.
Я налила в стакан дымящегося, розового, как рассвет, компота, и вышла на крыльцо прямо в свитере. Зая провожала меня скорбным сонным взглядом, на ней была тонкая белая пижамная маечка: не уходи, нежно и молчаливо просила Зая, помешивая в чашке теплое молоко деревянной ложечкой, но как тут не уйдешь, если теперь точно понятно, что завтра придется объяснять Резничеву, какая с ним стряслась жуткая херня в этом санатории.
– Надо ему сказать, – говорит Таня, на четвереньках выползая на крыльцо отдышаться, – Надо с ними обоими поговорить.
– Давай ты у них спросишь? – предлагаю я. – Это же твоя была идея, эта вот поездка. Это ты так хотела какой-то городской мистики, этой вот салонной жути, этой чертовой куклы – все твое, забирай, пользуйся.
– Пожалуйста, вы можете потом как-нибудь поговорить?
На крыльцо выползает тихая, как облако, Зая, закутанная в кем-то заблеванную, что ли, белую шубу (Илья узнает и всех убьет, понимаю я).
– Просто я сегодня тоже уезжаю же, – бормочет она. – На восьмичасовом. Вы постоянно шепчетесь, постоянно, болтаете что-то, сплетничаете, ну вы, что ли, раньше не могли наобщаться, наговориться, вы же видитесь раз в полгода, наверное, а я вот издалека ехала же, специально, чтобы увидеться.
– Не шевелись! – в ужасе шепчу я, вбегаю в сени и отточенным жестом хирурга срываю с Заи заблеванную шубу, швыряя ее, будто ядовитую змею, на пол. – Шуба заражена СПИДом. Ничего не бойся.
Я обхватываю ее всеми руками, зарываюсь лицом ей в шею и вдыхаю ее запах: раз, два, три, умри. Зая пахнет травой, собачьим молоком, тем морозным сахарным апрелем в деревне на Нарочи, пахнет чужими мужчинами и чертовой безвозвратностью, пахнет той дальней чертой, которую мы с ней тогда, раньше, так и не смогли перешагнуть, зависнув в ртутной яме между первым и вторым курсом, между прошлым и будущим, между неведомым и невероятным, когда я усаживала ее на подоконник и долго-долго гладила ее синеватые влажные губы кончиками пальцев, чтобы она не боялась, но она боялась, она всегда боялась.
– Да, кстати, – замечает Таня, проходя мимо. – Мы же с тобой тоже почему-то об этом не говорили. О том, что к тебе сюда приехала Зая, хотя вроде бы мы не договаривались, что так будет, ты же говорила, что одна приедешь, м?
Я обхватываю руками голову Заи, зажимаю ей уши: от всего спасу, от змеиной шубы спасу, от чужих далеких мужчин спасу, только от того, что Таня сейчас скажет, наверное, спасти уже не получится, но хотя бы себя спасу, например, если смогу как-то себя убедить, что не услышишь.
– Вообще, я помню ее с твоего первого курса, – хриплым голосом замечает Таня, уходя в дом. – Смутно, но помню. И я помню, что ты потом рассказывала про то зимнее озеро, как там все вышло. Ее же вроде бы не нашли даже. А? Не нашли?
– Тихо, тихо, – шепчу я ей на ухо. – Сейчас поднимемся в нашу комнату, все будет хорошо, я принесу тебе наверх чай, помогу собрать чемодан, тихо.
Держась за руки, мы входим в гостиную, и я понимаю, что завтрак проходит как-то скомканно.
Наверное, я должна спросить у Кати что-то важное, но зачем.
Катя напевает песенку и складывает непонятной конфигурации белоснежное белье в синюю спортивную сумку, у Кати все как будто хорошо. Мне не очень хочется напоминать ей о том, как мы к ней ходили в больницу после того случая 12 лет назад – она тогда сама убеждала себя и нас, что простая операция, что ничего страшного, что просто пока что не время, а потом все будет хорошо и он придет уже позже, но простая операция прошла как-то не так, все было плохо, он никогда не пришел, но вот приехал на пару недель погостить, и отличный же мальчик оказался, дай бог каждому. Но все-таки дал не каждому, а дал только Кате, и то ровно на две недели в январе.
– Тоже восьмичасовой? – тихо спрашиваю я у Кати.
Катя продолжает напевать.
– Вы какие-то все сегодня мрачные, – стонет похмельный Коля-диссидент с дивана.
– Сука, сдохни.
Я швыряю в Колю грейпфрут, и он ловит его, чуть выбросив вверх длинную когтистую руку, идеально и четко, как собака. Как хорошо, что мы все за эти годы совсем не изменились.
Со станции возвращались неожиданным образом посвежевшие, веселые, как в те самые первые дни поездки, кто-то предложил зайти в магазин, купили ящик вина, пока дотащили до дома, половину ящика уже выпили (Илья носит с собой штопор, давняя студенческая привычка), Таня в дороге снова отрубилась, и ее с хохотом взвалили на плечи привычно молчаливого Резничева (пока у него гостила жена, он был как-то патологически болтлив, а теперь все как бы стало на свои места), Коля с Петером, как иностранцы, принялись чудовищным пьяным хором (откуда-то взялись дополнительные голоса, видимо, коллективное бессознательное) петь одновременно два гимна – США и Германии – Катя ежесекундно делала вспышечное, жуткое «селфи» с висящими в морозном январском воздухе Таниными «уггами», над лесом висели синие-синие тени заката, по снегу стелилась лиловая мгла, от вина кружило и толкалось в сердце, отличный отпуск, давайте каждый год так, вот устроим сейчас прощальный ужин, чтобы чертям тошно стало, а потом то же самое через год, да?
– Это была жуткая идея, – нежно говорю я растрепанной Таниной голове, уютно свисающей с мягкого плеча Резничева. – Но хорошая, если подумать. Спасибо.
– Кстати, а кто завтра должен уезжать? – кричит из глубины леса Илья. – Вроде бы завтра тоже у кого-то поезд?
Мы молчим. Давайте хотя бы до завтра не будем об этом всем думать, дорогие друзья.
Прибавление
– В некоторых ситуациях человеку нужно помогать, – сказал папа, когда привел в дом тетю Гулю и троих ее детей, двух потемнее и одного посветлее, вообще белокурого, ясного, как солнце.
Это будут мои братья, понял я. Самый маленький из тех, кто потемнее, мялся в коридоре, боялся поднять глаза, он был весь укутанный в какую-то синюю ветошь; чтобы казаться выше, он встал на папин парадный ботинок и так балансировал, угрожающе стреляя черными глазами по сторонам. Маленький брат, придется заботиться. Из-под ветоши выбивались черные локоны. Может быть, и девочка, подумал я: придется возиться. В любом случае теперь дома будет много возни.
Мама сказала:
– Максим Максимович! (это мне).
И папа сказал:
– Сын! Вот ты всегда хотел, чтобы у тебя были братья!
Мама произнесла небольшую речь: тетя Гуля была папина первая тетя, в смысле, первая тетя, которую он встретил в жизни, у них была любовь, у тети Гули родилась девочка (тут передо мной вытолкнули того, белокурого и светлого, как альбинос – выяснилось, что он-то и есть девочка, причем выше меня на две папины головы, придется повозиться), потом по каким-то непонятным причинам тетя Гуля вышла замуж за дядю Арама (его вообще никто не видел), но он недавно ее зарезал, убил и повесил ее внутренности на белую березу, что во дворе стояла, почему зарезал, непонятно, привиделось что-то. Разумеется, в таком подвешенном состоянии оставаться небезопасно, поэтому тетя Гуля взяла своих детей, двоих уже от этого дяди Арама, собственно, и решила пойти к нам, а куда ей еще идти.
– Куда ей еще идти? – позавчера кричал папа на маму, а она смешно бегала по кухне и размахивала чугунной сахарницей. – Ей не к кому пойти вообще, а он уголовник! Она его фактически прямо с зоны забрала, он в ее квартире жил, съедал все, на деньги ее жил, а теперь с ножом бросается – теперь ей умирать? Умирать ей, что ли?
– Да, теперь умирать мне, – радостно говорила мама, и для увесистости каждого слова ставила сахарницу ненадолго на стол или на собственное запястье (четыре раза и один чистый, неоконченный размах – это была запятая).
– Что у нас может быть! – кричал папа, – Что нас может связывать! У нее трое детей! Я не представляю, зачем мне связываться с многодетной пожилой женщиной, которую трижды пыряли ножом!
Я решил, что от каждого удара ножом у тети Гули рождался ребенок. Только непонятно: первый раз ее пырял, получается, мой папа? Это совершенно нереально: он даже рыбу зарезать не мог, переживал, метался, пришлось цыгана с пятого этажа просить (он, кстати, вернул только полрыбы – так отрезал, так нож лег, бывает), он всегда из-за всех переживает, он скорей себя всего изрежет, чем другого человека, даже если этот человек – рыба.
Мама даже встречать тетю Гулю вышла с этой самой чугунной сахарницей. Я испугался, что она метнет сахарницу в кого-нибудь из гостей, но она только ритуально посыпала всех сахаром – щепотку на каждого – и сказала: «Дорогая Гульнара Леонидовна, добро пожаловать в наш гостеприимный дом, извините, что у нас на вас есть только одна комната, но сами понимаете, мы не совсем были готовы (тут папа метнул на маму нехороший взгляд), чувствуйте себя как дома, а где ваши вещи, это всё?»
Тут тетя Гуля сказала, что во дворе еще два чемодана, раскладушка и старая собака Лиличка. Папа прослезился и побежал во двор: оказывается, Лиличка была еще при нем, он сам, собственноручно покупал ее тете Гуле, когда думал, что она бездетная и что обязательно нужен в дом кто-то маленький и беззащитный, чтобы отвлекал и радовал.
Лиличка была спаниель, у нее на обоих глазах топорщились бельма, она ничего не видела. Отца она не узнала: извивалась у него в руках и стонала.
Мама заглянула Лиличке в искривленное страданиями лицо и сказала, что в бельма полезно вдувать сахарную пудру. Вот, собственно, и нашлось кого посыпать сахаром так, чтобы от этого была польза.
Я повел детей в их комнату: надо было показать им, где они будут жить. Раньше это была моя комната. Дети скинули балахоны, представились: одного, кажется, звали «Аппарат», второго: «Недостаточно». Нашего, который девочка, звали Миша.
Но это женское имя: Мишель, – объяснил он и тонкой, потерянной рукой взъерошил кудри у себя на затылке.
Это мой папа придумал такое имя, потому что они с тетей Гулей в те времена слушали «Битлз».
Еще они слушали древние блюзы, какие-то плясовые цыганские ансамбли, шумную электрическую музыку и старинные заунывные русские романсы, которые записывались будто бы у костра, сквозь вечерний треск. Все это стало понятно очень скоро, когда папа с тетей Гулей начали вспоминать молодость и переслушивать все это барахло (оно было в том, втором чемодане со двора – старые грампластинки, кассеты, большие пластмассовые колонки). Собака Лиличка выла, из ее глаз текли пустые, ничего не сознающие сахарные слезы, оставляя жестковатые сиропные бороздки на щеках. Мама сидела на кухне и варила компот из слив, потому что во втором чемодане тети Гули было три ведра слив, она успела заехать на дачу перед тем, как уйти от дяди Арама, дача-то ее собственная, нельзя отдавать вообще все сразу, урожай.
Детей, которые не папины, я для удобства называл «Чужой» и «Хищник», потому что я так и не понял, как их зовут на самом деле, они очень неразборчиво говорили. Хищник был помладше и вечно тырил мои карандаши. Чужой был старше и спокойнее, но я его вообще не понимал. Тетя Гуля говорила, что Чужой будет писатель – он постоянно сидел в углу с блокнотом и что-то в него записывал карандашами, которые украл для него Хищник. Вообще, всех этих детей связывала какая-то нехорошая круговая порука. Даже бледнолицый Мишель, который на самом деле был моей сестрой, вел себя как-то странно – однажды даже сел маме на колени за завтраком, мама жутко заорала, а Чужой и Хищник переглянулись и начали хохотать на своем непонятном инопланетном языке, поди разбери, хохот ли это вообще.
– Я недолюбленный ребенок, – объяснил Мишель, поправляя бретельку на платье. Мама сунула ему в руки сахарницу, спихнула его с колен (Мишель выше меня на две папины головы – хотя за две недели, пока тетя Гуля у нас жила, папина голова немного высохла и стала чуть-чуть меньше, поэтому Мишель от меня стремительно отдалялась – и как сестра, и как человек, и как возможный враг, отнимающий у меня далекие мамины колени) и убежала в ванную комнату: плакать. Вообще, мама часто плакала. Я засыпал в родительской комнате, мама плакала, а папа вылавливал ложкой из компота сливы и говорил: не на улицу же им идти, она мой близкий человек, она мне друг, куда им сейчас, ночевать на вокзалах, что ли, у людей несчастье, людям надо помогать всегда, вдруг они и тебе помогут.
Они помогли и мне, в самом деле: когда Мишель привела в дом хохочущего художника из театра, в котором тетя Гуля работала костюмером (оказалось, тетя Гуля – человек искусства, маме потом было жутко стыдно – она в ту самую первую ночь, когда ей в руки попалась сахарница, беспрестанно повторяла: уборщица, уборщица!), они мне сказали – поможем тебе с книжками, которые тебе в школе на лето задали, и заперли меня с книжками в ванной на три часа, действительно, помощь. Потом вытолкали меня из ванной и уже сами там закрылись с моими книжками. Потом я пытался их перечитывать – но там уже совсем другое было написано, вероятно, это надо будет читать в следующем году уже, литература для взрослых.
Тетя Гуля пару раз помогла маме: принесла ей несколько костюмов из театра поносить. Один – на корпоративный летний утреник (мама даже заняла первое место – она была там «Пчелкой Майей», а остальные сотрудники просто были офисными сотрудниками, скучные люди из будней), другой – чтобы пойти на день рождения к подруге (это был костюм Царевны-Лягушки, да такой классный, что мама вернулась домой с подругиным мужем Валерой, он от нас до утра уходить не хотел, сидел на кухне, слушал радио, папа ему водки наливал).
Мама с тетей Гулей скоро подружились. Маме было неудобно из-за «уборщица, уборщица», поэтому она вечно носилась перед тетей Гулей с ведром, полным сероватой жижи (мыла гараж, объясняла она, а там ливень был, ну натекло!) – мол, она не считает, что мыть пол – стыдно, а тем более, если не моет пол, а в театре костюмером, вообще при чем тут пол, не надо, я сама помою, вы что, мой дом – мои комнаты – мне их и мыть – а собака что, собака старенькая, невозможно приучать старую собаку не гадить на пол. Собака, тем более, была почти что наша. Она со временем начала узнавать отца, а потом узнала его окончательно – у нее, видимо, был как раз такой старческий возраст, когда очень хорошо помнишь детство, но почти не осознаешь всего, что происходит сейчас. Она спала на родительской кровати и утром вылизывала отцу лицо, он смешно орал: «Лиличка, иди к маме!», но Лиличка мучалась и не понимала, к кому именно идти – к тете Гуле? Или к маме в смысле «маме» – но мама же вот тут, рядом, лежит и плачет? Мама иногда плакала еще и по утрам. Но тетя Гуля подыскала ей театрального психотерапевта, очень хорошего профессионала, он работал с актерами-заиками, они у него в таких говорунов превращались! Один даже на телевидение потом пошел работать – оказалось, что он может говорить только тогда, когда читает прогноз погоды, а в остальных ситуациях только робкое «э-э-э» и «т-т-т», как неисправный моторчик. Так этот психотерапевт, представляете, придумал, чтобы он всегда – даже в бытовых разговорах каких-то – вставлял в свою речь небольшой прогноз погоды (лучше правдивый – в Интернете можно вычитать, например, с утра), и тогда проблем не будет. Хотя, мне кажется, это выглядело странно. «Привет, как дела, завтра штормовое предупреждение, моя жизнь не удалась» или, допустим, «По радио сказали: урагана не будет. Подпишите, пожалуйста, вот этот документ и принесите ксерокопию свидетельства о браке, лучше нотариально заверенную, потому что подделать сейчас можно вообще что угодно». В общем, этот театральный психотерапевт иногда приходил вместе с тем хмырем, который помогал мне с книжками на лето, они вроде были то ли друзья, то ли коллеги, вообще – люди театра. Хмырь ждал, пока Мишель оденется, брал его за руку, и они вдвоем шли играть в футбол на луг, но мяча с собой не брали (но иногда возвращались с мячом – тогда за мяч со звериным визгом цеплялись маленькие Хищник и Чужой и куда-то его тащили, разрывая на лоскутки, у них была целая коллекция этих лоскутных прогулочных мячей). Психотерапевт из театра шел на кухню и сидел там с мамой, выкладывая из сахара у нее на ладони мягкие, сыпучие дорожки.
– Вам кажется, что муж вас больше не любит, – говорил психотерапевт. – Это нормально. Теперь всем так кажется.
А мама отвечала:
– Максим Максимович! (это я). Выйди из кухни сейчас же!
– Я за пирожками, – объяснял я, хватал блюдо с пирожками и по инерции бежал с ним в свою комнату. Там пирожки, конечно, есть невозможно – там Чужой беспрестанно хнычет, выводя что-то фломастерами в моей тетради (роман о любви, понимаю я, он уже в таком возрасте, наверное – когда там у них наступает возраст, когда можно размножаться?), а Хищник хищно смотрит на пирожки, и я понимаю – надо их отдать, потому что их испекла его мать, это их пирожки вообще-то. Хотя раз они теперь живут с нами, пирожки отчасти и мои, выпеченные из нашей муки. Я беру один пирожок и иду в родительскую спальню, где слепая Лиличка с засахаренными глазами спит на отцовском незастеленном месте: во всяком случае, собака-то практически наша, потому что ее покупал мой папа.
Мой папа очень добрый. Поэтому его любят собаки, тети, дети тети, дяди тети (мама рассказывала, что какие-то ранние претенденты на сердце молодой тети Гули очень быстро переключались на папу, восхищались им, переставали тетю Гулю вообще замечать, на фоне папы она начинала казаться им злобной и жестокой – ни за портьерой похохотать, ни помочь перевезти вещи на новую квартиру). Папа никогда никого не бросал в беде, честно. Когда цыган с пятого этажа пришел и сказал, что у него жена утонула, папа сразу с ним ушел, они вместе ныряли где-то в Подмосковье, искали жену – месяц или два, нашли в конце концов, она потом приходила к нам попросить воды, и у мамы жемчужные сережки, что от бабушки остались, пропали, и коронки золотые бабушкины тоже.
– Коронки – это даже правильно, – сказала тогда мама. – Если честно, я думала долго, что с ними делать после смерти бабушки. Положить к ней в гроб коронки – как-то страшно. Хранить дома – но это ведь зубы моей мертвой мамы, она ими жевала, это чудовищно – такое хранить, и с какой же целью я буду это хранить? Люди ведь не хранят черепа своих мертвых родителей, не хранят фаланги пальцев, не хранят ногти – а тут зубы.
– Мой двоюродный старший брат, – сказал папа, – получил на свое пятидесятилетие подарок от жены и сына: цепочку из зубов своей умершей матери. Она от рака сгорела, мама его, тетка моя, Валентина. Так он очень радовался. Носит на шее ее теперь, и как бы мама всегда с ним рядом.
– Какой ужас, – сказала мама. – Мертвые зубы мертвой матери носить, переплавленные, на шее. Она ими жевала двадцать лет, а теперь они цепочкой по его волосатой груди змеятся. Это варварство какое-то, честно. Вообще представить тяжело. Я, вот правда, думала эти золотые коронки, что у меня от мамы остались, выбросить в мусорный бак просто. На помойку отнести. Это утиль. Отработанный материал. Душа отлетела, тело умерло. Все, что имеет отношение к телу, все эти артефакты тела – не нужны больше, они уже отжевали, отжили свое, им место на помойке, это уже не живой человек, просто куски металла.
– Ты жестокий человек! – ужасался папа. – Ты не понимаешь! Он так страдал, когда мать умерла – а тут ее частичка будет с ним рядом, у него на сердце!
– Ожерелье из зубов мертвой матери! – отвечала мама. – Чудовищно! Какой-то дикарский обычай! В общем, я очень рада, что эта цыганка твоя их забрала, зубы эти, они меня очень тревожили все эти годы, и я теперь знаю, почему – в один прекрасный момент ты бы мог переплавить их в цепочку и подарить мне на пятидесятилетие, до которого я не доживу, к счастью, потому что ты еще раньше меня угробишь этой своей добротой!
Папа – очень добрый человек, я именно это имею в виду. Если кто-нибудь просит его о помощи – он никогда не отказывает. Когда его лучший друг разошелся с женой, папа пил с ним целый месяц: мы потом искали ему через агентство новую работу, на старой его стали принимать за чужого и даже замки в офисе все поменяли, и двери тоже. «Я не мог оставить друга в такой ситуации», – разводил папа руками, и мы не узнавали его руки: когда человек пьет целый месяц, его руки меняются намного сильнее, чем лицо. Когда секретарша с новой папиной работы ушла в декрет, а потом выяснилось, что ее некому встречать из роддома, так уж получилось, на какие-то северные тяжелые заработки уехал отец ребеночка, папа поехал ее встречать – потому что на видеокамеру все записывали ее родители, обязательно должен был быть кто-нибудь статный, красивый, кто бы встретил в больничном парадном сверточек и помахал им триумфально в воздухе: эге! это мой! Папа даже не думал о том, чтобы отказаться. «А как же они без меня? Я помню эту девочку – сидела вечно там одна около факса, маленькая, с такими грустными глазами!» – вздыхал он. Девочка на прощанье расцеловала его, мы видели на видеокассете (копию подарили и ему, тем более что у папы нет, например, видеозаписи того, как он забирал меня из роддома, тогда еще видеокамеры были не у всех, наверное, во всяком случае у нас точно не было, у нас ее и сейчас нет), и мама потом даже немного поплакала – говорит, себя вспомнила, говорит, не так все было. Лучше было? – спрашивал папа. Нет, отвечала она, не лучше, просто было не так.
Папа постоянно всех спасает. Я в школе всегда говорил, что он работает спасателем – мне верили, потому что я не врал. Однажды папа две недели не приходил домой по вечерам – потому что все это время он консультировал сестру своего близкого друга насчет покупки новой машины. Сестра была совсем одна, беременная (папа всегда особенно жалостливо относился к беременным, и они это чувствовали – даже когда в метро с ним едешь, постоянно видишь, как вокруг собираются беременные женщины, шагают из глубины вагона в его сторону, будто их чем-то тянет – и глаза мутные, вязкие, как у зомби), и некому было ей помочь, а папа тогда торговал автомобилями и хорошо разбирался во всем, а покупать надо было уже сейчас – чтобы сразу, как только ребеночек, ездить с ним всюду, в поликлинику возить, на массаж, сейчас все такие больные рождаются, не успел родиться – сразу надо всюду записываться на массаж. Еще однажды папина сотрудница уехала на Кипр на неделю и попросила пожить у нее это время, потому что там котик, и он боится один. Папа неделю жил с котиком, честно! Он вернулся весь исцарапанный, сказал, что котик мерзкая дрянь, ласкается только по утрам, когда хочет жрать, и неискренне так ласкается, трется брезгливо этим треугольным лицом своим о щеку, и у него такая лживость во взгляде! Но он все равно терпел – потому что пообещал сотруднице помочь, она потом привезла ему с Кипра сувенир – платок со спящим мишкой, мама его повязала на голову и заплакала, и плакала, и плакала, вообще она часто плачет, но не при папе.
При папе она стала плакать только тогда, когда у нас стала жить тетя Гуля. Хотя папа сразу сказал ей – это не навсегда, она поживет с нами около месяца, пока делится квартира (дядя Арам не желал, чтобы тетя Гуля возвращалась, потом оказалось, что он даже не пырял ее ножом, а просто нашел себе какую-то новую, молодую тетю и решил жить с ней), потом уже, после суда, ей будет где жить, квартиру быстро разменяют и она переедет. И ребенку весело, опять же, говорил он.
Ребенку было весело: я учил Чужого и Хищника человеческой речи и делал значительные успехи.
– Конгломерат, – булькал, будто давясь собственными битыми молочными зубами, Хищник. Казалось, у него полон рот этих битых зубов. – Изваяние свастик! Балюстрада. Нитраты. Метроном. Атреналин.
И я его поправлял: адреналин.
И Чужой вписывал в свой блокнот «Адреналин», и это было название рассказа, и какой же гадостный был этот рассказ!
Я не виноват, я не виноват, выл я, когда тетя Гуля вела меня за ухо в кухню, где мама сидела напротив папы и насыпала в его смущенные, раскрытые наизнанку ладони струйку сахара, будто у папы на ладонях – слепые, измученные вытаращенными бельмами глаза, не желающие видеть такого семейного позора: сын обидел другого сына! Свой сын обидел чужого. Я не виноват, плакал я и хватал папу за сладкие руки (он вспотел, понимал я, и мне становилось еще более неловко), он туда вписывал все мое, он вписывал туда все мои слова, это я придумывал эти слова, поэтому я был вынужден, я просто был вынужден, я выбросил, да, выбросил.
Отправили меня рыться в мусорных баках на улице, искать тетрадки, как будто в 10 лет можно написать нормальную книгу, это все полная ерунда, да еще и с чужих слов, с чужих слов вообще ничего не напишешь. Ну, может, он хотел оставить эти тетради себе на память. О том, как он жил в нашем доме и общался с нами. Это я могу понять. Но он с нами не общался.
– Аутизм, – выговаривал Хищник, а я хитро косился на Чужого. Чужой молчал и рисовал что-то в блокноте: он собирался, похоже, стать еще и художником. Но ведь все его блокноты – мои.
– При аутизме эта сторона улицы наиболее опасна! – диктовал я Чужому, усаживаясь на диван напротив него. Он, казалось, не замечал меня. Хищник карабкался мне на плечи, шипел мне на ухо, кусался и пытался жрать мои волосы – он хотел со мной играть, и как отказывать, если брат. Но он мне не брат, понимал я, и шел за утешениями к Мишель, но ее дома не было, ее вечно нет дома, она только один раз пришла поздно ночью домой, закрылась в ванной и там изрезала себе все руки стеклышком, разбила мой микроскоп причем для этого. «Почему именно мой микроскоп? – спросил я потом. – Почему не мамино зеркальце, например?»
– Я его родная дочь, ты понимаешь? – сказал Мишель очень взрослым, мужским голосом, поэтому я снова начал мысленно называть его «он», Мишель, Миша, Михаил, братик мой Михаил, не плачь, не переживай, купи мне новый микроскоп, пожалуйста, хотя зачем мне теперь микроскоп, я теперь взрослый.
– Ты теперь уже взрослый, – объяснял мне Мишель, усаживая меня на белый кафель ванной. Я старался не смотреть на его шрамы. – Нет, не подумай, ничего такого не было, просто работает у матери в театре, давно знакомы уже, он мне как родственник был, то есть нет, не в смысле «ничего не было», другое было, но не в этом проблема. Да на хер его! На хер его вообще!
Я испугался: Мишель начал колотить кулаком по стенке: вдруг он ее разобьет и начнет резать себя кафельными обломками, это неудобно.
– Я – его родная дочь! И он этого будто бы не замечает вообще! Понимаешь? То есть нет – он меня не любит вообще! Я понимаю, то есть я не понимаю, зачем он нас взял сюда жить – из-за мамы? Зачем она ему? Из-за меня? Но он вообще делает вид, что я – просто какой-то довесок к ней, придаток, просто животный дикий кусок, отрезали и бросили, все. Я без отца все время была, и вот мой отец, и кто я ему? Обломок какой-то?
Вот, понял я, началось. Они уже все начали делить его любовь – а ведь у него нет времени на то, чтобы любить их всех, он должен спасать людей.
Тетя Гуля пылесосила шторы, вокруг нее носился плачущий Хищник (он ненавидит пылесосы и боится их), на диване лицом вниз лежала измученная Мишель в старом платье моей мамы и рыдала пострашнее Хищника, в ее изголовье сидел Чужой и писал поэму о том, как тяжело приходится жить нелюбимой дочери (Чужой стал поэтом, мне строго-настрого наказали никак это не комментировать и не притрагиваться к его творчеству, он нервный, артистичная семья вообще, к тому же надо не забывать, что его отец бросается с ножом вообще на все, что движется, такой темперамент, так что не надо его будить, иди в свою комнату, иди выведи собаку – и я понимаю, это теперь наша собака, всё). Я вошел, за мной вошла тихая, заплаканная сахаром Лиличка, это было тихо и торжественно, будто парад, и все плачут, только мы с тетей Гулей спокойны и занимаемся делом: она пылесосит, а я стою над этой плачущей оравой несчастных существ и думаю, что все можно поправить. Пылесос можно выключить – и Хищник заткнется. Мишель может честно подойти к папе и сказать ей, что ей нужна помощь и, возможно, его любовь – папа не откажет, я уверен, он всегда помогает, просто нужно ему об этом сказать, попросить, иначе он просто не заметит, что человеку нужна помощь. Чужой может перестать писать о слезах, поэтому слез в мире станет чуточку меньше (впрочем, я могу всего лишь отобрать у него блокнот и изорвать его в клочья, и не склеивать, как меня заставили в прошлый раз). Лиличка может умереть от старости (сколько ей лет? Если она старше Михаила – он вдруг очень по-мужски всхлипнул, и я явственно увидел, как по его лицу пробежала жесткая, длинная, какая-то сетчатая борода разбитого, полностью расклеившегося сорокалетнего боцмана – если она старше его, значит, ей как минимум лет 14–15! Собаки разве живут столько?), еще Лиличка может перестать плакать так сладко (мама уже два месяца сыплет ей в глаза сахарную пудру – и не помогает), еще Лиличке можно сделать операцию и удалить глаза вообще, они ей только мешают жить, какой я циничный, понял я, я тоже хочу все исправить, сделать все, как лучше, сделать так, чтобы всем было хорошо – и что?
Я взял Лиличку на руки.
Тетя Гуля выключила пылесос и сказала:
– Ты как твой отец. Ты такой же. Ты тоже хочешь, чтобы всем было хорошо. Чтобы все было, как лучше. Но так не бывает. Так не может быть. Кому-то всегда будет плохо.
Тетя Гуля работает в театре, поэтому она театральничает, я ей не верю. Я поцеловал Лиличку в нос и вынес ее из комнаты в кухню. Там сидела мама и этот психотерапевт из театра. Он смотрел маме в переносицу и морщился: тоже театральничал. Такая работа – люди театра, что с них взять.
– Да, он такой же, как его отец. – говорила мама. – Очень добрый и ничего вокруг не видит. Хочет всем помочь, всех спасти, всем помогает, но выходит ерунда. Например, он совершенно одинаковыми словами утешал меня и Гульнару Леонидовну – мол, не надо переживать, вы для него единственный в своем роде близкий человек, ну, то есть ты для него единственный в своем роде близкий человек, и как он может вдруг тебя, то есть вас, бросить в беде? Никак.
– Выйди немедленно из кухни! – заорала она и уронила сахарницу. Я уронил Лиличку. Лиличка вскрикнула, потом подошла к сахару и начала его лизать.
– У собаки старческий диабет, ну что вы творите! – на кухню ворвалась тетя Гуля, схватила Лиличку в охапку, сурово посмотрела на психотерапевта (хотя это не он уронил собаку, захотел я закричать, вы же сами видели, что я нес ее на руках, это я ее уронил!) и убежала в ванную – отмывать; у Лилички все лицо было в застывающем сахаре.
Я пошел в родительскую спальню, застелил кровать, подумал, что это какое-то идиотское лето, и еще о том, что, наверное, было бы круто, если бы ко мне пришел тот хмырь из театра и мы пошли бы с ним в луга играть в мяч, потому что мы бы на самом деле играли в мяч, а не то, что там у них с Мишель было мяч.
У Мишель, кстати, действительно было мяч. Через две недели она сообщила мне, что беременна. Мы сидели в ванной, закрывшись (мы часто после инцидента с разрезанными руками сидели вдвоем в ванной комнате и откровенничали – видимо, так она хотела загладить свою вину после того идиотского случая с летними книжками: я думала, что ты маленький кретин, говорила она, а потом вдруг поняла, что ты мой родной брат, и ближе у меня нет человека на этой земле), – я на высоком барном стуле, который притащил с кухни, а Мишель просто на полу, обхватив руками острые, как обглоданные птичьи крылья, колени. Она такая худая, думал я. Просто ужас. Мне надо было сесть с ней рядом, обнять ее, сказать ей что-нибудь, она же моя сестра. Но я не мог ничего сделать. Беременность! Боже, как страшно. Боже, избавь меня от этого. Боже, если бы я ходил с этим хмырем играть в мяч, в луга, за город, на ночь, на неделю – я бы тоже влип, наверняка. Мишель казалась мне неизлечимо больной и немного заразной. Мне казалось: если я до нее дотронусь, я тоже могу забеременеть. Я поджал ноги и сел на стул весь целиком – я висел в пространстве, я был высоко, я был недосягаем, а мой родственник был тяжело болен и неизлечим, и потеря его была невосполнима, а я чувствовал – вот она, потеря, я его теряю, до свидания, родной мой братик, я только-только с тобой подружился, покружился в тайном танце в этой кухонной темноте, а тут с тобой приключается проблема посложнее аутизма.
– Миша, – тихо сказал я. – Миша, брат. А оно само не пройдет как-нибудь?
– Я не брат, я сестра, – сказал Миша. – Поэтому не пройдет.
Миша решил уйти из дома, в конце концов, и я ему в этом помог – я не мог не помочь родной сестре. Я украл у тети Гули немного денег (у мамы деньги я красть не мог, а тетя Гуля мне чужой человек, к тому же она Мишина мама, и если что, мне бы от нее не влетело совершенно – потому что я брал у нее деньги для родной дочери, это святое!), продал каким-то дуракам во дворе свой велосипед (все равно я вырос, понимал я, потом мне уже новый велосипед понадобится, или сразу машина, взрослые люди ездят на машине, а не перепрыгивают с велосипеда на велосипед), помог Мише собрать рюкзак, который я для него купил на велосипедные деньги, отдал ему свой шарф и шапку – тетя Гуля приехала к нам летом, поэтому зимние вещи оставила на той, старой квартире, которая делится, а ведь Мише наверняка придется померзнуть зимой, понимал я, да и вообще, быстро ли он найдет жилье? Может быть, и нет.
Я провел Мишу на вокзал, и помог ему купить билет, и пообещал забыть, куда этот билет, чтобы не выдать, если что. Миша посмотрел на меня очень внимательно и сказал: ты не понял, ты должен всерьез пообещать забыть, чтобы всерьез забыть. Я прислонился к стене вокзала, зажал уши кулаками и начал кричать: «забываю, забываю, забываю, забываю!» – и, кажется, действительно начал всерьез забывать. Вокруг собрались люди, мне стало дико неудобно, потому что я даже не заметил, как они все здесь собрались – когда только они успели? Что ты здесь делаешь? – спрашивали люди. Я не отвечал: я забыл. Ко мне подошел Миша, сказал: «Он со мной», вывел меня на улицу и начал бить по щекам.
– Ты кто? – спросил я.
– Я твоя сестра, – ответил Миша. – И я только что опоздала на поезд.
Тогда мы решили, что Миша никуда не поедет, а просто будет жить где-нибудь в другом месте – раз с отъездом возникают такие серьезные проблемы. Мы сдали билет, накупили на вырученные деньги какой-то вокзальной разноцветной еды, немного погуляли в привокзальном парке, потом Мишу стало тошнить всей этой едой, я испугался и убежал.
Дома я сказал, что у меня был очень тяжелый день и что я лягу спать прямо сейчас, потому что мне дурно.
– Хорошо, тогда собаку пусть выгуляет Миша, – сказала тетя Гуля, – В конце концов, это и ее собака тоже. А то делает вид, что вообще тут ни при чем, живет на всем готовеньком.
Но Миша не выгуляла собаку, потому что Миши не было дома. Хищника и Чужого отпускать с собакой боялись, какие-то они были неадекватные (это замечал не только я). Поэтому с собакой пошла тетя Гуля – укутала шею маминым шарфом, потому что это был первый шарф, который она нашарила на верхней полке абсолютно ватной, отяжелевшей рукой. Она ушла и не вернулась, и наступила ночь, и папа вернулся с работы, и страшно на нас кричал: что вы им сказали? Что вы им сделали? Почему они ушли? Где моя собака, где моя собака?
Хищник и Чужой валялись на кровати, Чужой жевал Хищника, Хищник грыз Чужого, все в точности, как в кино. Без матери они становились ну совершенно неуправляемыми – посмотреть на них, совершенно непонятно, кто из них поэт, кто из них художник, кто из них разучил недавно новое слово «Ламинат», никто из них ничего, просто какой-то клубок челюстей, дурная наследственность.
– Дурная наследственность! – сказала мама. И добавила, что не будет с ними возиться, чуть что. Придется повозиться, понял я.
Папа устроил просто нечеловеческий скандал.
Что ты им сказала? Что они живут за наш счет? Хотя она отдает половину зарплаты – на еду, на хлеб, на электричество, честно все отдает.
Что ты сказала им? Одинокая женщина, с ребенком, с девочкой этой несчастной, с собакой этой старой – куда они пойдут, к кому? У них тут никого нет! Куда они могли пойти? Что ты сказала? Что я им никто? Как я им никто? Она моя дочь, как я им никто?
Папа первый раз в жизни сказал, что Миша – его дочь, до этого он вообще этого как-то не осознавал. Маме от этого стало очень плохо, хотя она всегда, конечно, знала, что Миша – его дочь.
– А почему ты тогда раньше не ходил, не навещал ее, эту самую дочь? Вообще жил, будто бы ее нет – она с тобой фактически только этим летом познакомилась, – начала тараторить мама. В самом деле, ну вот почему ты не ходил с ней на выходных в зоопарк, в кино, не участвовал в воспитании, дочь же!
У нее был как бы отец, – сказал папа. – Я не хотел разрушать семью. Я и так им все разрушил. Я очень виноват перед ними – ушел.
Зачем папа ушел, я не совсем понимал – мне нравились и тетя Гуля, и Миша, в частности потому, что Миша был очень похож на тетю Гулю, хотя он совершенно был на нее не похож, он, скорей, на меня был похож, но я мальчик, а Миша – девочка. Хотя кто он теперь – уже и непонятно, с таким-то диагнозом, видимо, переходящее что-то, какая-то промежуточность, душная жуть. Я вспомнил, как убегал из вечереющего парка, оставив там бешено тошнящего (так, это правильное слово – тошнящего? Надо спросить у Чужого, он ведь разбирается в словах, несмотря на аутизм) Мишу, и мне стало неудобно и стыдно. Вначале Мишу бросил папа, потом Мишу бросил я – действительно, я ужасно похож на своего отца. Во всяком случае, хорошо, что я это осознал достаточно рано.
Поэтому ты теперь заглаживаешь эту вину, и мы всю жизнь будем растить этих двоих детей, и они никогда не вырастут, – сказала мама. Тут уж даже я почувствовал, как у меня из спины растет какое-то дерево – это был ужас, и я в этот ужас стремительно превращался.
Где моя собака? – спросил папа. Глаза его сверкали. Вложить бы в эти глаза нож – и он бы всех ими перерезал и развесил на березе.
Это не твоя собака, сказала мама, это ее собака.
Тут в дверь позвонили: это была тетя Гуля, она вернулась вместе с Лиличкой и Мишей. Они стояли в дверях мокрые, политые дождем, от Миши пахло блевотиной и отчаянием, у нее в руках был выпотрошенный, грязный, измочаленный рюкзак, который я для нее купил.
– Я почувствовала, что с дочкой что-то не так, поэтому пошла ее искать, – объяснила тетя Гуля. – Материнское сердце. Почувствовала: непорядок, какая-то дрянь, какая-то чушь, срочно надо спасти, найти, предотвратить. И я предотвратила. Даже не буду говорить, что.
– Мишель, – объявил папа. – Я не хотел это тебе говорить. Но теперь скажу. Я – твой биологический отец. И я очень за тебя волновался.
Все жутко напряглись, потому что все были уверены, что папа знает, что Миша все знает. Оказывается, папа почему-то был уверен, что Миша считал этого белозубого Арама своим настоящим отцом и что от Миши скрывали правду, и теперь наступил этот момент, когда можно сказать эту правду.
Миша с тетей Гулей обнялись и начали плакать – видимо, они по дороге наконец-то поняли, как дороги, как близки друг другу, мама и дочка, такие похожие, такие разные; к тому же они по дороге наверх решили не вызывать лифт, потому что в лифте было нассано, а Мишу все время тошнило, пошли пешком и встретили цыганку с пятого этажа, и она им что-то такое нагадала, мол, девочки вы мои девочки, давайте я вам правду скажу, милые мои, хорошие, судьбинушка у вас горькая, птички мои крошечные, оленяточки маленькие потерявшиеся, никуда вы друг от друга не убежите, а ведь пытались убежать, уехать, куда? Куда вам уезжать? И причитала, и шептала, всматриваясь в грязные ладони, и Лиличка отважилась даже и облаяла ее, так ей странно было слышать этот свистящий шепот, лишенный даже намека на жизнь, на запах, на живое человеческое тело, полное ароматов, контуров и очертаний.
И так они стояли, обнявшись, в коридоре, и ревели в десять ручьев. Я захотел убежать в ванную (я знал, что мы с Мишей там уже не встретимся – черт его знает, отчего), но мне стало невыносимо стыдно и мои ноги приросли к полу – теперь я дерево, я не буду больше ходить, и поделом.
Отец совершенно растерялся. Он всегда теряется, если при нем кто-то плачет, особенно если это не мама (когда мама плачет, отец всегда думает, что это она не плачет, а что-нибудь другое делает – например, чихает, или хохочет, или отчитывает его за нарочно криво повязанный галстук, или взбивает варенье в утреннюю пену, или поет что-то фальшивое).
Мишель вдруг затихла, отстранилась от тети Гули и пошла к отцу – медленными, тяжелыми шагами, как зомби. Повисла на нем и продолжила рыдать. Она точно беременная, понял я, дело плохо, все беременные женщины ведут себя с отцом именно так.
Тогда мама тоже заплакала – потому что у нее на отца вообще никаких шансов не осталось; она догадалась, что он скоро станет дедушкой, у него появятся внуки, а у нее что? А она никем не станет. У нее никто не появится.
Тогда я обнял маму и тоже заплакал, потому что уже просто неудобно было как-то так стоять и смотреть на этот грустный звериный цирк, думая о том, какого хрена я вообще продавал велосипед, я еще дитя, моя взрослость оказалась целиком выдуманной, мог целое лето кататься, еще ведь практически начало августа только, а сентябрь – тоже лето, и октябрь иногда лето. Вообще, вся эта ситуация с коридорными слезами наверняка могла привести к окончательному пониманию и примирению. Я надеялся, что все теперь так и будет: во всяком случае, настала какая-то кромешная ясность. Даже беременность Миши больше не была тайной – мама застенчиво прикоснулась к ее распухшим ногам, обвившим отцовские брюки, и сказала: «Мальчик. Внук у тебя будет» – отец, казалось, это услышал, понял и осознал.
Но понимания и примирения не случилось – оказалось, что в тот вечер все окончательно рассыпалось, превратилось в прах, пепел, дым и облако сахарной пудры, по мельтешению которого в полутемных комнатах мы всегда догадывались о состоянии Лилички: жива, или уснула, или хочет в туалет, или надо налить ей водички.
Мама и тетя Гуля перестали разговаривать с папой. Вообще.
– Ты меня не любишь, – сказала мама. – Любил бы – не привел бы в мой дом этих несчастных людей, которые тебе дороже всего на свете, дороже меня и ребенка, и поэтому мне тоже дороже всего на свете, потому что я люблю все, что любишь ты, – а, что, страшно тебе?
Тетя Гуля сказала папе приблизительно то же самое.
– Ты меня не любил никогда и не любишь сейчас. Максим Максимович! (она меня называла так же, как и мама, чтобы было проще и удобнее, будто мы все одна семья, да так оно уже и было). Немедленно выйди из кухни. Нет, пирожков уже ДАВНО ТУТ НЕТ. Не любил никогда и не любишь. Зачем было забирать нас из нашего разрушенного дома? Выдергивать нас из нашей растерзанной семьи? Снимать нас с березы, на которой наши кровавые останки были развешаны? Ты сказал: приходите, для вас всегда найдется угол. И что? Я чувствую себя здесь чужой, я вижу, что нам здесь не рады, я понимаю, что зачем-то ворвалась в счастливую жизнь, где меня никогда не было. И вы все смотрите на нас с укором. Типа, зачем пришли. Так зачем звал – если так? Зачем обещал помочь? Ты выйдешь из кухни когда-нибудь или нет?
Я выходил из кухни и стоял в коридоре: мне некуда было идти, всюду грохотала чья-то боль, одним лишь Хищнику и Чужому не больно, хотя кто знает: Чужой уже начал писать какие-то философские произведения, наверное, до анализа сущности боли он уже добрался.
В коридор вышел папа. В руках его был засаленный и немного подкопченный спальный мешок.
– Сын! – объявил он. – Освободи прихожую. Я буду жить здесь. Потому что твоя мама со мной не общается. И тетя Гуля тоже не общается. Я решил – будьте вы все прокляты. И ушел. Пока что сюда. А потом совсем уйду, если вы все продолжите считать, что я к кому-то там несправедливо отношусь. Делаешь, как лучше, пытаешься как-то всем помочь – и что? Выдумываете какой-то выбор, какие-то проблемы. Идите все в жопу!
Финальная фраза была дико ненатуральная, видимо, папа тоже стал человек театра. С кем поведешься. И спальник, наверное, реквизитный.
Папа спал в коридоре восемь ночей. Мама и тетя Гуля с ним не разговаривали. Друг с другом они разговаривали, чтобы папа не подумал, что их отношения отягощены взаимной ненавистью и ревностью.
– Помидоры я режу поперек, а не вдоль, – разговаривала мама с тетей Гулей.
– Гамлета я играла лет в девятнадцать, когда по мне было еще тяжело понять, какой я подросток – мужской, женский или просто какой-то усредненный драматический типаж, – разговаривала тетя Гуля с мамой.
Мишель лежала в больнице на сохранении. Чужой писал роман «Коробка конфет была подло украдена». Хищник немного социализировался: стал чаще бывать на улице, гулять во дворе с ребятами, ходить в одиночестве на рынок (однажды даже принес оттуда куру-хохлатку, видимо, украл). Папа приходил с работы в полдесятого, умывался, вынимал из портфеля какие-то журналы и шел укладываться на свой спальник, который ему еще со студенческих лет достался, как выяснилось, походы, котелочки, на картошку ездили все вместе дружно, а вы тут что, а вам разве понять, уйди отсюда, и так тошно. Все это длилось ровно восемь коридорных ночей, а на девятую умерла Лиличка, которая все эти восемь ночей спала рядом с отцом в спальнике в прихожей, роняя на воспоминания о картофельных поездках юности сахарные слезы и редкие седые волосы. Папа проснулся, обнимая мертвую Лиличку, которая в эту последнюю ночь стала немного жесткой и будто бы упиралась лапами ему в ребра, поэтому спать было тяжело, болело сердце, и даже ничего не понимающий Чужой вдруг будто бы вспомнил свои прошлые, проведенные в сознании, жизни и тревожно прибежал из кухни с пузырьком валокордина – что, кому плохо, где?
– Наверное, это все-таки был рак, а не бельма. – разговаривала мама с тетей Гулей.
– Она была старая уже, и потом, собаки все чувствуют и понимают, она поняла, что пора уходить, – разговаривала тетя Гуля с мамой.
Отец наконец-то взял себя в руки.
– Это наша общая собака, – сказал он. – Поэтому ее похороны – наше общее дело. Можете со мной разговаривать, можете не разговаривать, но эта трагедия случилась со всей нашей семьей. Пускай мы все никогда этой семьей не были и не будем.
Мы оделись, съездили на такси в больницу за Мишель (ведь это и ее собака тоже!), положили Лиличку в коробку из-под папиных парадных ботинок и пошли в парк «Ромашка», чтобы вырыть там ямку у оградки, Лиличка в последние месяцы любила гулять в парке «Ромашка», потому что мы жили недалеко, вообще с ней больше некуда было ходить, только в эту «Ромашку».
Мы закопали Лиличку, мама обняла папу (больше не обижается), тетя Гуля тоже обняла папу (больше не обижается), Мишель ватными зомбическими руками обняла папу (все еще беременна), Чужой и Хищник обняли друг друга (Хищник укусил Чужого за шею, Чужой сковырнул Хищнику старую зеленчатую корочку на запястье), я обнял дерево, росшее над свежей могилой, и понял, что превратился именно в это могильное дерево: ну что ж, все к этому и шло.
Папа всю ночь плакал, тетя Гуля собирала вещи (теперь чемоданов почему-то оказалось три), Чужой спешно дописывал роман (теперь он назывался «Все плачут»), мама сидела на кухне и не знала, что теперь делать с сахаром. Утром тетя Гуля забрала всех своих детей и ушла, предварительно закутав каждого ребенка в синюю ветошь, которой вдруг оказалось неожиданно много (видимо, этой ветошью ей в театре платили зарплату все эти три душных и полупустых летних месяца).
– Все закончилось. Пора уходить, – тихо объяснила тетя Гуля маме, вышедшей ее провожать (папа продолжал где-то сидеть и убиваться, ему вообще на все было наплевать – умерла его любимая собака из детства, из юности, из молодости, целый кусок жизни, неожиданно восстановленный, превратился в ямку под деревом). – Пришли вчетвером, уходим вчетвером (кивнула на округлившийся живот Мишель). Что-то потеряли, что-то приобрели. В семье прибавление, в семье похороны, а общая сумма не меняется – такая жизнь.
Мишель на меня даже не посмотрела. Был брат, нет брата, общая сумма не меняется. Такая жизнь.
Я провернул ключ в замке три раза. Было понятно, что я их всех больше никогда не увижу. «Лето закончилось, – написал в последней главе своего романа, специально для меня (я это только потом понял) забытого в ящике письменного стола, Чужой. – А мы продолжаем делать вид, что существуем. Как разрешить эту ситуацию? Разве что с помощью гигантской, величиной с девятиэтажный дом, резиновой уточки, которая наконец-то придет и уничтожит нас всех. Обычно, когда люди доводят себя до такого состояния, выручить их всех может разве что такая вот уточка. Но уточка никогда не приходит, поэтому мы гибнем и исчезаем незаметно».
Я закрыл тетрадь и перестал бояться смерти. Эту чушь про уточку мог бы написать и я! Может, это и был я. Только почерк был чужой.
Папу мы нашли молча сидящим на полу в ванной комнате. Сели рядом. О чем можно было говорить? Мы снова остались втроем, лето закончилось, ничего не изменилось, мы никого не потеряли, мы снова были друг у друга.
Разве что теперь у нас больше не было собаки.
Но и это горе можно как-то пережить.
Завтра никогда не получится
Фея отъезда, наша фея.
Когда уже все было решено, часто развлекались простыми предсказаниями: поймав эту вязкую, легкую, болезненную, как удар под ребра, волну скорого исчезновения, она неожиданно обнаружила в себе способность предсказывать будущее, но только то будущее, где пляшет смертным поплавком отъезд навсегда, этот звонкий серебристый скачок в сладкую послежизнь, послемрак и послетлен, прыжок в светлое иное; с ее слов, чувство безошибочности этого грядущего прыжка возникало у нее во рту, как кипящая соленая волна чужой яростной крови, и бурлящее желание сплюнуть чужую кровь рождало вначале гримасу невыразимой немоты, после – мучительное сглатывание, после – безошибочную, как мы понимали, фразу: седьмого июня, через десять лет ровно. Или: конец января, через год, надеюсь, вы уже начали собираться. Или: о, этим летом уже! И прячут глаза, и идут дальше.
Тем мутным летом мы покупали за краденые копейки пластинки в комиссионных магазинах, бегали по городу мысленно голые, насильственно играли в предсказания, смешили этим цветастых соседок, некоторых пугали до смерти: вот уже мчит на свой четвертый без лифта перепрятывать эмиграционные сбережения. Если бы в те времена был суд, кто-нибудь бы подал в суд, но с этим тогда было сложно.
Эта семья уезжала навсегда, мама, папа и 14-летняя Ляля, имя простое, как пять еще не забытых копеек, фамилия была посложнее, мы ее произносили как Франкенштейн только ради того, чтобы увидеть, как Ляля медленно вынимает из пояса джинсов жесткий кожаный ремень, чтобы преследовать нас с ним, хохоча и плюясь теплой детской слюной, а не этой чужой железнодорожной кровью, темными теплыми дворами, увитыми, будто сиренью, качающимися синими тенями.
Вот она стоит в зияющем провале подъезда, медовые волосы до плеч, апельсиновые тени под глазами, безразмерная отцовская футболка с логотипом несбыточного, узкие черные джинсы, эта мятная, примятая сонная улыбка – пока, мальчики, пока.
Ляля беременна: она тонкая, тощая, как уличная кошка, и этот маленький тугой живот, размером с крупный грейпфрут, смотрится на ее жестком подростковом теле, как смертельная опухоль – то ли уедет навсегда, то ли умрет при попытке вырезать. Об этом вполголоса переговариваются соседки, когда Ляля победоносно проходит мимо них, вдруг оборачиваясь, сплевывая в снег лужицу перламутровой ржави и так же вполголоса сообщая, что Бараниха собирается в Израиль через год, а квартиру продавать боится, еще бы, сейчас страшно продавать, к Верховцевым вот бандит вместо покупателя ввалился и видеомагнитофон отжал, а мог и Верховцевых захватить в страну похищенных видиков, смотрели бы там в вечности цианидовые мультфильмы до Страшного Суда.
«Уже там, видимо, родит» – сидят по вечерам на скамеечке у подъезда, озабоченно звенят: видимородит, видимородит. Зимородок-герой Ляля проходит мимо, размахивая зеленой, как муха, продуктовой сумкой. Ляля не здесь, у нее дома десять розовых ящиков, по которым она, закусывая щеки от усердия, раскладывает свои школьные дневники, детские рисунки, подаренные нами сборники на аудиокассетах – Ляля хочет то ли забрать с собой свою прошлую, леденцовую, еще детскую жизнь, то ли оставить ее тут нетронутую, как памятник. Мы надеемся, что она оставит это все нам, и когда чугунная приграничная вечность, туго сглотнув, примет послесмерть ее семьи, мы будем годами перелистывать страницы Лялиной жизни. Наверняка это была очень интересная жизнь: например, никто так и не знает, от кого Ляля забеременела. Возможно, мы найдем разгадку на страницах ее дневника. Впрочем, кажется, ее мама и папа искали эту разгадку везде, но так и не нашли, и удивительно быстро смирились: может, это и не беременность вовсе. Во всяком случае, нам она не мешала, мы считали Лялю красавицей. До дара предсказания чужих отъездов у нее обнаружился еще один, не менее бесполезный дар – присев на корточки перед уличной дождевой лужей и опустив в нее ладони, с безошибочной точностью определить день рождения человека, который последним прошел по этой луже как минимум по щиколотку в воде.
Гоняли туда-сюда по лужам пацанов с соседних дворов, уходили зареванные, мокрые, цедили сквозь слезы и зубы свои мелкие, маленькие деньки: седьмого апреля, десятого мая, и Ляля победоносно усмехалась влажными бледными губами, после чего каждый из нас отпускал жесткую птичью лапку крошечного страдальца с Ленинской сорок шесть – беги, малыш, не говори маме, что бродил по лужам, до утра, она и так догадается, материнское предвидение не хуже нашего домашнего.
Ляля не боится стать матерью, Ляля вообще ничего не боится, кроме скорого отъезда – все эти несколько месяцев она задумчиво упаковывает каждую тетрадку, каждый блокнот в целлофановый пакетик, подписывая его несмываемым маркером, часами бродит с нами по слякотному весеннему городу, хватая прохожих за рукава пальто и улыбаясь, пока рот до рвоты наполняется солью и кровью, обнимает кирпичные углы домов, триумфально хамит директору школы, забирая у него ветхие справки про свое образование – Ляле уже можно не ходить в школу, доходит там, и беременность доходит там, шепчут соседки, доходит-доходит, и тянется, как жевательная резинка и поезд в Москву, влажный апрельский вечер, и живот все больше, и вот уже восьмой ящик запечатан ее самодельной девичьей печатью с бельчатами и белым голубиным пухом – то ли надгробие, то ли багаж, не поймешь, не разберешь.
В то время отъезд был как смерть, и мы провожали Лялю, будто на эшафот, паковали ее как на «Титаник», завидовали и ненавидели, и она, хохоча, обнимала нас, повисая на наших плечах, как на последних качелях своей здешней жизни, и обещала писать. Мы отлично знали, что оттуда никто никогда не пишет. Да и какой смысл в этих письмах? Все равно, что явиться на бабушкину могилу и получить от нее прямо там в конверте записку о том, что все хорошо, отлично устроилась. Мы сами видим, что отлично устроилась, мы тебя и устраивали, первыми швырнув горстку земли на палубу твоего деревянного трансвселенского лайнера – ты пропутешествовала, пожалуй, уже до самого центра планеты и вот-вот сгоришь, но не сомневаемся, что устроилась отлично. Все, что происходит с близким человеком по ту сторону, нас не интересует и интересовать не должно. Поэтому важно правильно попрощаться – и это искусство мы освоили в идеале.
Ляля говорит, что через десять лет, когда отучится и станет сама зарабатывать, обязательно приедет. Нам бы этого не хотелось: кому охота видеть, во что превратился близкий человек через десять лет после того как? Однако, это важная часть нашего ритуала: обещания встреч в раю, там, где никто никого не узнает и никто никого не помнит. Мы заходим по колено в лужу после ливня, Ляля опускает в нее ладони и молчит. Она и так все про нас знает. Ей немного тяжело сидеть, мешает живот. В принципе, это все похоже на затянувшийся прощальный поцелуй – кромешная вспышка затмевающего все знания, полученного неведомым запретным способом, но не имеющего никакого смысла, потому что вся информация друг о друге у нас уже есть. Способ, которым она получена, самый примитивный, но для нас самый болезненный: близость, ясность, эта изматывающая вечерняя беготня. Ляле хочется повторять напоследок эти тягостные вечерние поцелуи регулярно, каждый день, но мы быстро мерзнем, и соседи каменными птицами смотрят из окон, да и ей тяжеловато сидеть, мешает живот. Кто это был, Ляля? Ляля тяжело поднимается, выпрямляя тонкие, как оторванные ветром ветки деревьев, узловатые ноги, с ее ладоней капает серая чугунная дождевая вода. Кто-то смотрит на нас из маслянистого вечернего окна. Скоро она уедет, и ничего этого больше не будет. Кто, Ляля? Если не мы, то кто?
Она говорит, что никто, и мы ей верим. Или шутит: святой дух, весенний снеговик, валялась пьяная этим невозможным своим будущим в снегу, а поднялась уже вся нафаршированная этой серебристой пыльцой, которая начала виться, прорастать, забиваться в нос и наполнять живот чем-то жарким, жалким, вибрирующим и слепым, как котята. Она никогда не врет: про нас, например, она сказала, что мы никогда никуда не уедем и всю жизнь проживем здесь, в этом слякотном дворе, так оно и случилось, а когда вся жизнь закончилась, мы переехали в города побольше, но это не считается, ведь там была непрерывность.
Лешу мы знали давно, он был из этих, немного надменных низкорослых парней с гитарами из двора через дорогу: пару раз играли двор-на-двор в футбол не на жизнь, а на последующую кровавую драку; дал кому-то из нас щелбана, но мы скрутили руки и сразу нет-нет, мир и дружба, не дали сигарету, потому что не курили, он курил, и в отместку сам предложил нам вонючую, как смерть, ржавую табачную пачку. Отказывались, но прижал, заставил, потом долго хохотал, наблюдая, как мы харкаем на зеленые подъездные стены непереносимостью этой дерзкой приметы чужой юности. Зеленые, зеленые. Мы помнили только свои зеленые, как стены, лица, его шрам над бровью, его скользкий вопрос про пластинки: темный типчик, чужие дворы, ни шагу к нашей луже.
Ляля встретила Лешу в последний день перед отъездом, они буквально приклеились друг к другу в бесконечной, тяжелой, как свинец, очереди за хлебом. Лялю родители попросили купить побольше черного хлеба, потому что там, в этой послесмерти, в направлении которой они уже покорно склонили, сложили все свои чемоданы, черный хлеб на вес золота, сказали они.
«Зильберманы позвонили и попросили привезти им две буханки», – уточнила Ляля про черное золото. Никому из нас никогда не могли бы позвонить Зильберманы – как телефонная связь способна преодолеть этот невидимый черный океанический водораздел между этой жизнью и другой, подземной, пылающей и превращающей родное во всеобщее?
Возможно, Зильберманы могли звонить только тем, кто сам находился как бы на пороге этого большого перехода в неведомое – тем, кто, как наша Ляля, на несколько месяцев завис в порхающем, невыносимом состоянии прощания с собственной судьбою навсегда.
От Ляли разило этой рассыпающейся судьбой едко и терпко, как трупным ядом – возможно, поэтому Лешу, любителя темной ночной музыки, притянуло к ней резко и неотвратимо, как порой притягивает взгляд масштабный пожар на соседней улице: ни оторвать, ни прекратить, все возгорелось и пошатнулось. Из хлебного они шли уже вместе, пошатываясь от страсти и томного, дымного ужаса. Леша держал в руках пакет с десятью хлебами – чтобы беременная Ляля не таскала тяжести.
Дальше все завертелось, как дождевые хляби в мутной бездонной луже: вот Ляля с кислой улыбкой сообщает нам, что еще непроявившийся, малознакомый нам Леша пообещал принять этого невозможного ребенка, как своего. Вот мы, неловко хихикая, зажали ее в подъезде, чтобы выяснить, как вообще это все могло получиться, но она виновато пожала плечами, после чего помахала перед нашими лицами своими крошечными распухшими пальцами, складывающимися в невозможную, как змея, цифру. Завтра в десять у них самолет, прочитали мы в мельтешении костяшек и обгрызенных заусенцев. Видимо, в нас тоже открылся дар предсказания – но это исключительно предсказания самолетов, которые увозят от нас в небытие главного человека в нашей крошечной, но навсегда теперь другой, жизни – дар сверхценный, но использовать его можно только единожды, и мы выпили его весь, кромешным и горьким пушечным залпом. Почти как проглотить разом стакан чужой крови.
Случившееся, очевидно, раздосадовало Лялю, как будто разрушив ее планы на новую жизнь с чистого листа, на достойное закрытие этого эпизода своей возможно позорной биографии. Пока ее мама и папа топтались, как сонные вечерние птицы, вокруг чемоданной цитадели, Ляля и Леша, обмирая от ужаса, шатались по пыльным подъездам, беспрестанно целуясь, шепчась о несбыточном, обещая чушь, похищение, побег и отмену судьбы. Тот факт, что они как минимум десять лет жили на расстоянии сотни метров, но рассмотрели друг друга только в этот невозможный последний день, который, казалось, никогда не наступит (мы все время, как заколдованные, думали о нем все эти месяцы и не могли представить: неужели когда-нибудь мы будем в этом самом дне, и он будет не завтра, а в окончательном и вечном сегодня?), пугал и завораживал Лялю, и они бродили по дворам заторможенные, тихие, слипшиеся в какую-то бесформенную лягушачью подушечную фигуру.
Обнимаются в нашем подъезде, выходят распухшими ртами. Лялины зубы блестят, как влажные недозрелые горошины в лопнувшем, разваренном губном стручке бесполезной страсти, Лешу шатает, он что-то шепчет про тающую башню льда и жарко шипит: почему ты боялась, никогда не целовалась, что ли, и Ляля прячет теплые и горькие, как каштаны, глаза, и кивает: никогда, никогда.
Никогда. Мы смотрим на ее живот так, как будто она прячет там кролика, которого вот-вот триумфально выудит из-под футболки пышным танцевальным жестом, фокус смерти, никакого рождения. Ляля беременна своим глупым «никогда», как никто в мире, и мы все ей верим, будучи всем населением этого преданного ей и преданного ею мира, где никого никогда не было и нет: только она сама, только ее бесполезные знания и только этот ее навсегда бессмысленный переход туда, где вся Ляля будет уже не вся и не Ляля.