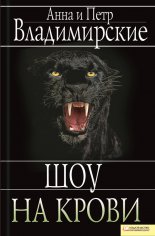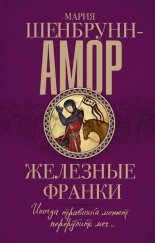Королева пустыни Хауэлл Джорджина

Примерно на полпути к Дамаску, за Карьятейном, Гертруда раскинула лагерь и увидела компанию хасинехов с черными шатрами, возвращающихся с зимних квартир.
«Их шейх Мухаммад пришел меня навестить. Мальчик 20 или меньше лет, красивый, прилично толстогубый, торжественный, волосы под куфией толстыми косами. При нем огромный меч, ножны инкрустированы серебром… Ему принадлежат 500 шатров и дом в Дамаске и небо знает сколько лошадей и верблюдов». Через некоторое время Гертруда нанесла ответный визит и сидела в его шатре с прочими гостями вокруг шейха. Когда подали кофе, начал играть музыкант на рубабе, однострунном инструменте.
«Музыкант пел длинные грустные песни, монотонные, каждая строчка начиналась в одном и том же размере и заканчивалась падением голоса почти до стона… жутко, печально и по-своему красиво. Все вокруг молчали и глядели на меня – нечесаную, полуголую, куфии на лицах, и ничего живого в них, кроме глаз… Иногда кто-нибудь заходил в открытый шатер… и, стоя на краю круга, приветствовал шейха словами “Йа Мухаммад!”, поднимая руку ко лбу, потом всем остальным: “Мир вам”, на что все отвечали: “И тебе мир”».
Через некоторое время Гертруда встала и распрощалась. Когда она вернулась к себе в палатку, солдаты сказали ей, что она совершила опаснейший промах. В ее честь закололи и готовили барана. Выйти до того, как еда подана, – оскорбление. И она должна была сделать шейху подношение. Более того, положение Мухаммада требует, чтобы ему поднесли дар достаточной ценности. Арабу нельзя ничего подарить меньше, чем конь или оружие. Встревоженная Гертруда взяла пистолет у одного из своих людей, завернула его в платок и послала с ним солдата, велев передать, что не знала, что ей оказана честь быть приглашенной к трапезе. Солдат вернулся с настоятельным приглашением Гертруде вновь посетить шатер шейха. «И пошла я обратно… мы ждали до половины десятого! Я не скучала… вокруг шли разговоры – политика пустынь: кто продал лошадей, у кого сколько верблюдов, кого убили в набеге, каков будет выкуп за кровь или где ожидается следующая битва. Очень трудно было понять, но я более или менее следила за разговором…»
Наконец пришел раб, неся кувшин с длинным горлом, полил водой на руки всем участникам, после чего было внесено огромное блюдо баранины. После еды все снова вымыли руки, и Гертруда откланялась. Ужин, решила она, вышел дорогой, зато этот вечер дал понять, как надо проводить встречи с влиятельными шейхами. Впоследствии она путешествовала с подарками, знала, что дарить и как себя вести, что обсуждать и когда можно уходить. Утром она смотрела, как снимаются с лагеря хасинехи, и зрелище ей показалось впечатляющим и величественным. «С шейхом Мухаммадом были лишь двадцать – тридцать из пятисот его шатров, но верблюды наполнили долину, как полки войска, и каждая семья шла со своим отрядом верблюдов…»
Она вернулась в Дамаск испытанным и опытным путешественником по пустыне. Потом она жила в Иерусалиме у Розенов, организуя следующие экспедиции, и в Англию вернулась в июне. Уезжая, она отправила Хью финальное письмо, оказавшееся пророческим: «Знаешь, любимый мой отец, я вскоре сюда вернусь! Человек, так далеко зашедший, далеко от Востока жить не сможет».
Через два года после своего первого приключения Гертруда приехала в Хайфу, где провела два месяца одна, совершенствуясь в арабском языке. К тому времени она его изучала уже девять лет. Она сняла себе дом на горе Кармель, наполнила комнаты мимозой, жасмином и полевыми цветами и делала уроки на столе в столовой под люстрой, в которой свили гнездо птицы, свободно влетавшие и вылетавшие в открытое окно. Четыре часа арабского в день и полчаса персидского занимали все ее время, свободное от верховых прогулок по окрестностям и участия – благодаря растущему кругу связей – в текущей политике. Домой Гертруда писала: «Так дико интересуюсь арабским, что ни о чем другом думать не могу. Ты понимаешь радость, когда наконец можешь овладеть этим языком, с которым я так долго боролась». Еще она, к своему удивлению, обнаружила, что ее одиночные экспедиции сделали ее знаменитой – Личностью с большой буквы, и она поспешила заверить родных: «Меня очень забавляет, что в этой стране меня считают Личностью – они думают, что я Личность!.. Здесь не очень трудно создать себе репутацию».
Научившись легко говорить на арабском, Гертруда предприняла первую из пяти своих выдающихся экспедиций по Ближнему Востоку. Четырехмесячное странствие верхом началось в 1905 году в Иерусалиме, оттуда она отправилась в горы Джебел-Друз, через Сирийскую пустыню в Дамаск и на север в Алеппо. Она прошла Турцию от Антиохии на юге через Анатолию к Константинополю, проехав на поезде лишь последнюю пару сотен миль. В 1907 году Гертруда высадилась в Смирне на Средиземноморском побережье Турции и снова-таки верхом проехала по нескольким крупным археологическим раскопкам, делая остановки, чтобы дождаться зафрахтованного вагона со своим багажом. Постепенно забирая на восток, она дошла до Бинбир-Килисе, где работала с профессором Рамсеем до отъезда поездом через Константинополь.
Самое долгое путешествие Гертруды началось в феврале 1909-го в Алеппо, по северному маршруту через пустыню к реке Евфрат – теперь этот район находится на северо-западе Ирака. Этим длинным маршрутом Гертруда направлялась в Багдад. В окрестной пустыне, с некоторой для себя опасностью, она измеряла и фотографировала величественный дворец Ухайдир с южной стороны города, потом направилась туда, где были города Вавилон и Ктесифон, чтобы оттуда выйти к Тигру. Вдоль этой реки на север Гертруда прошла мимо западных гор Ирана, через турецкую границу до истока реки на высоком плато Тур-Абдин. После пяти месяцев в седле дойдя до Мардина, она снова свернула в Константинополь.
В феврале 1911 года она вышла из Дамаска в плохую погоду. Сперва лагерь пришлось разбивать в глубоком снегу, верблюды скользили и падали на замерзшей земле. Пройдя Сирийскую пустыню на восток, она свернула на юг к Ухайдиру. Закончив там измерения дворца, которые она первый раз делала в 1909-м, и посетив Неджеф, Гертруда снова двинулась на север, остановилась на отдых в Багдаде и опять по долине Тигра направилась в южную Турцию и Тур-Абдин. Вернувшись с севера в Сирию, остановилась в Каркемише на отдых и прибыла в Алеппо в конце мая, пройдя через Бейрут.
Начав в ноябре 1913 года, Гертруда совершила эпическое путешествие на верблюдах, несколько раз пройдя насквозь Аравийскую пустыню с самым большим для себя караваном, укомплектованным слугами, погонщиками, вьючными животными и бесполезными спутниками. Она прошла через Неджд, широкую безводную пустыню из гальки и лавы, направляясь в расположенный в ее центре город Хаиль, о котором ходили боязливые легенды. Выйдя из него, Гертруда пошла к Багдаду ради короткого отдыха, чтобы оттуда снова уйти в пустыню. Перейдя Сирийскую пустыню второй раз, она достигла Дамаска в конце мая, и у нее оставалось мало времени на передышку до того, как разразилась Первая мировая война.
Перечисление этих путешествий по пустыне подряд не может передать их феноменальной длительности и трудности. Если рассмотреть в совокупности, путешествия Гертруды охватывают почти всю Сирию, Турцию и Месопотамию – грубо говоря, территорию, на которой расположены Басра, Багдад и Мосул. Она проделала больше десяти тысяч миль, и это был путь по холмам и горам, поиски бродов, отклонения от маршрутов к древним городам и контакты с шейхами. Более шестисот дней она путешествовала в седле, проехав не меньше 20 тысяч миль.
Ее путешествия происходили примерно с двухгодичными интервалами, а в промежутках она ездила в другие места и продолжала горные восхождения. В 1901-м, когда ее дед, сэр Лотиан, в возрасте восьмидесяти пяти лет решил слить компанию Беллов с компанией «Дорман Лонг», увеличился ее доход. Стали доступными полугодовые путешествия, для которых ранее требовалось финансирование от отца.
Раз за разом Гертруда направляла свои экспедиция по Ближнему Востоку в места, которые могли представлять интерес для археологии, и на территории, не нанесенные на карты. Методично обследуя местность, она по итогам своих экспедиций написала пять книг – некоторые читаемые, другие набиты информацией до неперевариваемости. Она мечтала, что когда-нибудь найдет тайную крепость, жемчужину в пустынях, а тем временем ни одной развалины на своем маршруте не оставляла без внимания. После целого дня странствий при жуткой погоде, по территориям, где кочевали воинственные племена, часто страдая от недостатка воды и провизии, она тщательно записывала события дня при свечах на складном столе в своей палатке.
Гертруда очень хорошо осознавала, что ей не хватает умений археолога – например, знания эпиграфики. Поэтому в промежутках между тщательно спланированными экспедициями она старательно осваивала новые практические навыки, поэтому, проходя некартированные земли, она умела отмечать места, составлять карты и наконец распознавать, что нашла, и укладывать это в исторический и археологический контекст, протоколируя найденное. Гертруда посещала курсы, где ее учили измерять и зарисовывать найденное, стала умелым фотографом и членом Королевского фотографического общества и могла отдавать свои пленки на профессиональную печать. Повсюду у нее с собой были два фотоаппарата. Один – ручной, снимающий на стеклянные пластинки 6,5 х 4,5 дюйма, второй – аппарат для панорамных съемок. Возвращаясь из путешествий, Гертруда использовала технику, недавно принятую Дэвидом Хокни: сканировать весь горизонт сочетанием пяти-шести точно нацеленных кадров. Школа исторических исследований в Университете Ньюкасла, где хранятся семь тысяч ее фотографий, особенно ценит панорамные снимки, как имевшие существенное археологическое значение в те дни, поскольку на них точно видно, как соотносятся друг с другом разные памятники на фоне ландшафта. Ее документальные описания монументов и церквей сами по себе не менее важны, потому что рассказывают о состоянии зданий на момент съемки, до разрушительного воздействия эрозии и мародерства XX века. Учитывая, как мало осталось фотографий самой Гертруды, интересно видеть ее тень на фоне снимков, когда солнце светит сзади, на закате или рассвете.
Путешествие 1909 года провело ее по восточному берегу Евфрата на некартированные территории. За несколько недель до этого она ходила к мистеру Ривсу из Королевского географического общества – научиться проводить астрономические наблюдения для определения координат места.
«Вчера… вечером я поехала в Ред-Хилл, приехала туда в восемь. Меня встретил на станции молодой человек (тоже студент) и проводил до Коммон, где ждал мистер Ривс. Там мы два часа вели наблюдения за звездами… я сделала много наблюдений и должна буду обработать их к понедельнику… Сегодня утром я вернулась в Ред-Хилл до десяти и три часа брала пеленги для составления карты вместе с мистером Ривсом».
Впоследствии Ривс говорил Флоренс, что никогда не видел никого, кто учился бы быстрее. Он писал: «Путевые съемки мисс Белл, сделанные с помощью призменной буссоли во время ее удивительных путешествий после нашего расставания, начерчены в ее путевых дневниках и перечерчены с поправкой на широты местности нашими чертежниками. Нет смысла даже говорить, что ее карты имели огромное значение». Эти путевые дневники хранятся в Королевском географическом обществе до сих пор.
Археологией Гертруда заинтересовалась после каникул в Греции в 1899 году, где она была с отцом и дядей – Томасом Маршаллом, специалистом по Античности, который был женат на сестре Мэри Шилд. Там она познакомилась с Дэвидом Хогартом, студентом-античником и братом ее оксфордской подруги Джанет. Он занимался раскопками города Мелос, имевшего шеститысячелетнюю историю, и был рад показать свои находки. Раскопки так заинтересовали Гертруду, что она осталась возле Мелоса на несколько дней – посмотреть и поучаствовать. Они с Хогартом стали друзьями и впоследствии переписывались. Его последняя книга «Проникновение в Аравию» была у Гертруды с собой в ее походной библиотеке. Позже, в 1915-м, он дал старт самому важному повороту ее карьеры.
А пока же, в 1901 году, после каникул, проведенных с отцом и Хьюго, она поехала принять участие в раскопках древних городов Пергамона, Магнезии и Сардиса. Работа на раскопках доставляла ей явно большее удовольствие, чем довольно скучный предшествующий круиз, запомнившийся в основном осмотром достопримечательностей в Санта-Флавии в сопровождении Уинстона Черчилля, который жил там на вилле и занимался живописью.
В 1904 году Гертруда занялась планированием предстоящего путешествия через западную Сирию и Малую Азию, первой своей экспедиции после Иерусалима и Розенов. Чтобы придать существенности своим археологическим заслугам, она написала работу о геометрии крестообразных зданий, которую хотела разместить в видном журнале «Revue Archologique», выходящем в Париже. Она хотела познакомиться с редактором, профессором Саломоном Рейнахом – ученым, отстаивавшим точку зрения, что Восток был колыбелью цивилизации. Еще он был директором музея Сен-Жермен. Гертруда приехала туда со своей кузиной Сильвией и семейством Стэнли под предлогом несколько обновить гардероб и купить подарки к Рождеству и нанесла визит вежливости Рейнаху, простому и доброму человеку, отцу семейства. Он ее тепло встретил, сразу проникся к ней симпатией и открыл для нее свою адресную книгу. 7 ноября она написала домой:
«Ездила по магазинам со Стэнли и купила очаровательную меховую курточку, чтобы ездить в ней в Сирии – да, купила! Потом вернулась и читала до двух, пока за мной не зашел Саломон и не повел в Лувр… Мы прошли от Египта до Помпей и обратно к Александрии… Саломон разработал целую новую теорию насчет век – греческих век, конечно, и проиллюстрировал ее бюстом Фидия и головой Скопаса… это было здорово».
Имея рекомендательные письма к представителям научных кругов Парижа, Гертруда стала желанным гостем в любой библиотеке или музее, которые у нее хватало времени посетить. Рейнах также прочел ей некоторый экспресс-курс археологической истории. Под его началом она осматривала греческие манускрипты и ранние таблички, закопавшись в Национальной библиотеке, день провела в музее Клуни, прошлась по новому Византийскому музею, еще не открытому для публики, и проводила время в размышлениях над книгами в библиотеке Рейнаха: «Он просто предоставил все это безграничное знание в мое распоряжение, и я за эти несколько дней узнала столько, сколько не узнала бы за год, будь я предоставлена самой себе».
В последний вечер они играли в игру: он ей показывал фотографию или рисунок из наугад выбранной книги и просил идентифицировать. Гертруда думала, что, наверное, прошла испытание, поскольку Рейнах сделал ей комплимент, предложив написать для журнала рецензию на одну книгу. Автором книги был Йозеф Стржиговски, неортодоксальный археолог из Вены, пропагандирующий, что Восток породил западную культуру и постоянно влиял на нее. Он был известен убеждением – спорным, – что предшественники христианских зданий прослеиваются до Ирана. Чтобы писать о любой книге Стржиговски, нужно было тщательно выдерживать баланс взглядов, но Гертруда этого не побоялась. Она рассказала Рейнаху о своем предстоящем путешествии, и он посоветовал изучать римские и византийские развалины и влияние этих двух цивилизаций на регион. Из двух империй Византия была меньше, и археология ее тоже была меньше разработана: с этой минуты она станет специализацией Гертруды. Рейнах пообещал, что опубликует ее эссе, и они тепло расстались. Она встретила его потом в Париже после своего путешествия, и он обещал раскрыть ей некоторые тайны набатейских и сафаитских надписей.
В январе 1905 года Гертруда выдвинулась из Бейрута, купив двух сильных лошадей и направившись на юг вдоль побережья. Ехала она с мужской посадкой. Отряд у нее был маленький. Она взяла с собой пару мулов, нагрузила на них зеленый непромокаемый шатер, купленный в Лондоне, походную парусиновую ванну и запасные пистолеты, а также подарки поменьше, купленные на месте, на случай если понадобится дарить их шейхам.
«Поездка началась плохо и пошла еще хуже до самого конца в Конье в Анатолии, через девятьсот миль. Еще до того, как были пройдены первые сто пятьдесят миль из Бейрута в Иерусалим, «…грязь была невероятна. Мы брели… по часу, по колено в ней, мулы падали, ослы почти исчезали в ней, а лошади выматывались все сильнее». Сперва Гертруду задержала лихорадка, потом лед. У нее была меховая куртка из Парижа, но кроме нее – всего два маленьких чемодана. В Иорданской долине стофутовые выносы грязи, смытые проливным дождем, стали такими скользкими, что экспедиция едва не потеряла лошадь. Отряд прибыл в точку на двадцать миль севернее Мертвого моря, в город Ас-Сальт, настолько промокнув, что пришлось искать убежища в доме. «Мой хозяин, – писала Гертруда домой, – …его племянник и маленькие сыновья считали долгом гостеприимства не оставлять меня ни на миг и ассистировали мне с большим интересом, когда я переобувалась, меняла гамаши и даже нижнюю юбку – так измазалась».
Объявленным ее намерением было снова посетить Джебел-Друз, не вступая в контакт с турецкими властями, которые припомнят, как она от них ускользнула в прошлый раз. Услышав, что Гертруда в этих краях, они настоят на придании ей военного эскорта, что будет означать крушение ее планов проехать по западной Сирии от шейха к шейху и от места к месту. Ее теперь отличное знание языка было тем единственным ключом, который тут необходим. Хозяин, у которого она остановилась в Ас-Сальте, передал своему зятю Намуду, процветающему купцу, живущему к востоку от Мадебы, чтобы он о ней позаботился. До него был день пути на восток, и при этом требовалось избегать встреч с турецкими властями.
Раздумывая вместе с ней над картой, Намуд рассказал ей, как именно добраться до Джебел-Друз и не попасться туркам. Но тут возникла задержка в виде феноменальной бури. Подобно потерпевшим крушение на острове, группа бедуинов из племени бени-сахр и еще трое из племени шерарат, потеряв свои шатры, вынуждены были вместе с Гертрудой и ее командой укрыться в убежище в огромной пещере, где жил Намуд со своими людьми и их двадцать три коровы. Именно племени бени-сахр опасалась Гертруда на пути в Петру, пока не сумела завоевать его дружбу и помощь. Теперь оно признало ее своей. «Мащаллах! Бинт-Араб», – говорили о ней члены племени. Это значило: «Велением Бога – дочь пустыни».
В пустыне вести разносятся как по волшебству. Прибыл родственник шейха Даджи, чтобы быть сопровождающим (рафиком) для Гертруды в течение четырех дней путешествия по территории друзов. Кутаясь в свою меховую куртку, пытаясь согреться и куря египетские сигареты, Гертруда сидела у огня в сырой пещере и отмечала оттенки различия между тремя племенами и сложность их политики. Задав несколько дополнительных вопросов Намуду и своим людям, она смогла подытожить информацию наиболее ясным способом. Она отметила, что шераратцы, хотя вообще-то рассматриваются другими как низкорожденные, продают лучших в Аравии верблюдов, что между шераратом и сахром была кровь, что сахр в союзе с ховейтатом и те и другие – враги друзов и бени-хасана, которые, в свою очередь, в союзе с даджа.
Вскоре Гертруда стала гостьей шейха даджа и в разговоре поразилась тому, как в племени знают текущее состояние дел и поэзию. Чтение стихов сопровождало вечерние сплетни относительно газзу – набегов – и рассказы о турецком гнете. Сидя в сшитом из козлиных шкур шатре шейха Феллаха, гарем которого находился в дальней половине за занавеской, она стала более чем гостьей – стала равной.
«Я рассказала им муаллакат [доисламские стихи] и привела три-четыре примера использования разных слов. Это вызвало у них живейший интерес, и мы склонились над огнем прочесть текст, передаваемый из рук в руки. Я чудесно провела время… рассказывая им, как идут дела в Египте. Египет – нечто вроде Земли обетованной, и вы себе представить не можете, какое впечатление произвело наше тамошнее правительство на восточные умы».
Еще через день проводник из племени даджа привел ее к лагерю племени бени-хасан, где их встретили отчаяние и уныние. Это племя пропустило газзу пятисот всадников, совместный набег племен сахр и ховейтат, которые угнали две тысячи голов скота и увезли много шатров. «Я несколько пожалела, – пишет она, – что газзу не дождался сегодняшнего дня и мы его не увидели». Тем временем прошел Пир жертвоприношения. Гертруда не стала смотреть, как убивают трех верблюдов, но в ружейной стрельбе на закате участие приняла: «Я тоже внесла свой вклад – по просьбе хозяев – довольно скромно, из револьвера. Первый и, надеюсь, единственный раз, когда я пустила его в ход».
Мрачный разрушенный дворец в Салхаде, городе черной лавы, встроенном в южный склон вулкана, как-то компенсировал упущенное зрелище в лагере бени-хасан. Ужиная вечером в день своего прибытия, Гертруда услышала дикое пение и стрельбу снаружи в темноте. Выйдя из палатки, она увидела горящий в крепости огонь. Гертруда оставила свой ужин, полезла на склон горы и застала газзу в процессе: отмщение за набег сахров, уведших пять тысяч овец, принадлежавших друзам. Эту сцену она описывала так:
«Завтра друзы выступят в количестве 2000 всадников – вернуть свои стада и перебить всех сахров – мужчин, женщин и детей, что попадутся навстречу. Сигналом для всей ближайшей местности послужил костер. Там, наверху, мы увидели группу друзов, мужчин и юношей. Они стояли в кругу и пели страшную песню. Все с оружием, и у многих сабли наголо.
Завороженная, я подошла и прислушалась к словам военной песни:
“На них, на них! О Господь наш Бог, на них!” Потом в круг вошли с полдюжины людей, каждый с дубиной или обнаженной саблей, потрясая оружием перед лицами собравшихся. “ Ты мужчина воистину? Ты храбр?”… сверкали и мелькали при лунном свете сабли. Несколько из них подошли и приветствовали меня. “Да будет с тобой мир! – говорили они. – Англичане и друзы едины!” И я отвечала им: “Благословен Господь! Мы тоже – раса воинов”.
И если бы вы прислушались к этой песне, вы бы узнали, что самое лучшее в мире – пойти и убить своего врага».
Церемония завершилась бешеным бегом вниз по склону горы. Гертруда, поддавшись общему возбуждению, помчалась со всеми. В долине она остановилась, пропустила бегущих и еще несколько минут стояла, прислушиваясь, перед тем как вернуться в свою палатку. Она стала первой женщиной, посетившей сафех – дикую территорию, терзаемую набегами племен с севера и юга. Все дальнейшее путешествие она ехала полностью вооруженная.
А погода между тем все ухудшалась. Вскоре пришлось пробиваться вперед по глубокому снегу при десяти градусах мороза.
«…Это было так мерзко, что не передать словами. Мулы падали в сугробы, лошади взвивались на дыбы и били задом, и если бы я ехала в дамском седле, то уже упала бы полдюжины раз, но в этом любимом седле можно сидеть прямо и плотно. Так что мы шли и шли… пока наконец не вышли в совершенно белый мир. Последний час я шла пешком и вела коня в поводу, поскольку он на каждом шагу проваливался в глубокий снег».
В друзской деревне Салех, где Гертруда нашла убежище, оказалось, что мужчины деревни знают имя секретаря по делам колоний Джозефа Чемберлена и интересуются лордом Солсбери, бывшим премьер-министром, поэтому выразили вежливое сожаление, узнав о его кончине. «Настоящий триумф красноречия наступил, когда я им объяснила финансовый вопрос, и они тут же на месте стали сторонниками свободной торговли».
Оставив территорию друзов, Гертруда на две ночи нашла приют у людей из племени гиат, в дымных и полных блох шатрах. По прибытии в Дамаск она получила приглашение к губернатору и узнала, что из Салхада приходило по три телеграммы в день по поводу ее исчезновения. Она уже и в Сирии стала Личностью.
Гертруда побывала в большой мечети, оставив обувь у дверей, и была очень тронута вечерними молитвами: «Ислам – величайшая в мире республика, нет ни расы, ни класса внутри этой конфессии… Я начинаю смутно понимать, что означает цивилизация великих восточных городов: как они живут, что думают. И мне надо к ним приспособиться».
Быть Личностью, как вскоре она увидела, не всегда хорошо. Позже в этой поездке ей предстояло узнать, что в Дамаске за ней тайно следовал полицейский «надзиратель». Гертруда прибыла в Хомс, проехав еще сто миль, уже знаменитостью и обнаружила, что не может даже на базаре нормально с кем-нибудь поговорить из-за возбуждаемого интереса у публики. «Это оказалось утомительно – все время я была в обществе пятидесяти – шестидесяти человек. Одна из самых трудных известных мне вещей – сдерживаться, когда вокруг тебя постоянно толпа. Настоящим с отчаянием оставляю надежду когда-нибудь быть простым довольным путешественником».
Ей пришлось прибегать к помощи солдата, чтобы сдерживать толпу, а еще отбиваться от властей, которые хотели дать ей восемь охранников на ночь, хотя она просила, чтобы их было не больше двух.
В сопровождении странствующих курдов и пары скованных пленников Гертруда двинулась на Алеппо и к анатолийской границе, где ее ждали наводнения и снесенные мосты. По дороге она остановилась осмотреть место, где сирийский отшельник Симеон Столпник прожил последние тридцать семь лет своей жизни – на верхушках колонн, – и подумала, как сильно он должен был от нее отличаться. Под проливным дождем Гертруда пыталась, прикрывая блокнот плащом, скопировать вырезанные в камне рисунки. «Черт бы побрал все сирийские надписи!»
Погода изменилась внезапно. Стало так жарко, что земля парила, и шатер атаковали комары. Новые погонщики-турки стали мрачны и раздражительны. Впервые Гертруда пожалела, что она не мужчина.
«Нечего было делать, кроме как прикусить язык и самой все сделать, и я, проверив, что лошади накормлены, пошла спать без ужина, потому что они никак не могли решить, чья обязанность развести огонь!…Бывают моменты, когда быть женщиной добавляет трудностей. Моим слугам нужна была хорошая взбучка, и они бы ее получили, будь я мужчиной, – трудно вспомнить, когда еще бывала я в таком состоянии подавляемой ярости!»
Вскоре после целого дня срисовывания надписей и фотографирования развалин, поросших травой, где кишели змеи, Гертруда, вернувшись в лагерь, где не было ужина и не стоял шатер, вышла из себя и отхлестала погонщиков хлыстом. Последней каплей, прорвавшей плотину злости, было то, что они улыбались и сидели на нераспакованном шатре. Когда она добралась до Аданы, ей будто по воле провидения порекомендовали нового слугу: армяно-ка-толика по имени Фаттух, у которого жена жила в Алеппо. Фаттуха ждала судьба ее Дживса[20], человека, которого она описывает как «альфа и омега всего на свете». Гертруда наняла его поваром – и у них потом сложилась шутка, что это было единственное умение, которым он так и не овладел, – но теперь ей никогда не приходилось ждать, пока поставят шатер. С тех пор Фаттух стал ее спутником во всех путешествиях. Он был разумным и умелым начальником над погонщиками, был смелым, веселым и преданным. Гертруда отплатила ему добром за добро, когда он заболел в Бинбир-Килисе в 1907 году. И только однажды, после изнурительного дневного перехода, она на него сорвалась. Это было совершенно для нее нехарактерно, и чуть позже Гертруда его разыскала и пристыженно извинилась. Через две недели после того, как Фаттух поступил к ней на службу, она писала: «Фаттух, благослови его Господь! Лучший слуга, который у меня когда-либо был, готовый варить обед, погонять мула или откапывать надпись с одинаковой готовностью… и рассказывать мне бесконечные дорожные байки на ходу, потому что погонщиком мулов он стал в десять лет и знает каждый дюйм земли от Алеппо до Вана и Багдада».
Из Коньи Гертруда с величайшим облегчением уехала в Бинбир-Килисе на поезде. Ее внимание к этой крепости-городу разрушенных церквей и монастырей привлекла книга Стржиговски 1903 года «Kleinasien» («Малая Азия»), в которой описывались памятники ранней Византии. Эту книгу она провезла с собой в седельной сумке от самого Бейрута. На свои исследования Гертруда ежедневно ездила из Коньи. Как-то вечером, возвращаясь к себе в отель, она встретилась с великим церковным археологом сэром Уильямом Рамсеем, чьи книги о церкви и Римской империи стояли у нее дома в кабинете. «Мы упали друг другу в объятия и сразу подружились», – писала она родителям. На одной полустертой надписи в пещере в Бинбир-Килисе Гертруда увидела, как ей показалось, дату. Они втроем (вместе с миссис Рамсей) сели на поезд и поехали туда, чтобы Гертруда эту надпись показала. Она оказалась права, и вскоре они договорились через год-другой вернуться сюда, тщательно исследовать эти руины и датировать их с помощью найденной надписи.
Чем глубже Гертруда проникала на Восток, тем более возрастало ее уважение к его людям.
«Раса, культура, искусство, религия – выбери их в любой момент долгого течения истории, и увидишь, что по сути своей они азиатские… Я надеюсь, что когда-нибудь Восток опять станет сильным, разовьет собственную цивилизацию, а не подражание нашей, и тогда, быть может, научит нас кое-чему, что мы от него когда-то узнали и забыли, к нашей великой потере».
Вернувшись в июне в Раунтон, она написала Валентайну Чиролу: «Я говорила вам, что пишу путевой дневник? Так вот, говорю. Это огромное удовольствие… Это изнанка Сирии, это разговоры у костра, сказки, рассказанные мне на переходах, слухи с базара». Ее книга «Пустыня и плодородная земля», вышедшая в 1907 году, до сих пор считается классической книгой о путешествиях.
Ко времени поездки на Ближний Восток в 1909-м обильные дневники Гертруды становятся практически нечитаемыми. Они представляют собой смесь исчерпывающих археологических подробностей, сокращенных заметок о людях и о том, что ей говорили о политике и экономике, и еще множество деталей обыденной пустынной жизни, иногда украшенных вспышками приключений[21]. Иногда Гертруда переключается на турецкий или арабский. Зачастую она писала эти заметки в полночь после десяти – двенадцати часов в пути и вечера за многоязычным разговором в пустынном шатре или золоченом посольстве. Зачем она это делала? Зачем богатой молодой женщине проводить годы своего расцвета за изучением самых трудных языков мира, жить в ужасных условиях и подвергать себя великим опасностям, ехать в такие глухие углы, что они даже не были обозначены на современной карте? Независимая женщина с большими способностями, она унаследовала настойчивое любопытство Лотиана Белла, получившего мировое признание за свои научные прорывы и технологические достижения. У Гертруды поначалу преобладала не целеустремленность, а любопытство. Она отлично понимала, что альпинизм, скажем, недостаточен как цель жизни. Покорение вершины – да, это достижение, но никому от этого нет пользы, кроме тебя. Обычно Гертруда, достигнув совершенства в одном деле, тут же переходила к другому. Движимая тягой испытать себя, она стремилась к трудностям, приправленным опасностью и азартом.
Когда же она открыла для себя путешествия по пустыне, преодоление трудностей внезапно преобразилось во всеохватывающий личный эксперимент, в котором невозможно дойти до конца. Тут были языки, в которых предстоит совершенствоваться, обычаи, которые надо узнавать, новые люди, которыхнужно понять, археология и история, требующие изучения, техника наблюдений и ориентирования на местности, фотография и картография, которые необходимо освоить. Преодолевая риск, оставаясь живой и достигая цели, Гертруда опьянялась самоутверждением вдали от мира, где она прежде всего и главным образом воспринималась бы как представитель фамилии Белл, незамужняя дочь Хью, внучка-наследница Лотиана.
Приключения ей нужны были не для того, чтобы прославиться или подняться в высшее общество. Всю свою жизнь Гертруда отказывалась от публичности и все больше теряла интерес к аристократичности – если только к ней не прилагались какие-то высочайшие умения. Хью, завоевавший авторитет у правительства и делового мира, намеренно решил не делать дальнейших обычных шагов – покупка загородного имения, шикарная жизнь в лондонских клубах, получение титула пэра, – чтобы поднять Беллов из успешных капитанов промышленности в высший класс. У него не было времени для людей, пользующихся престижем лишь за свой титул и связанные с ним привилегии. В эпоху, когда в нем ценили бы лорда больше, чем человека с достижениями, Хью хотел, чтобы его уважали за опыт, за деловую сообразительность, за гражданское лидерство. Точно так же Гертруда, как представитель третьего поколения Беллов, не использовала в своих предприятиях унаследованную власть и положение. Единственная помощь, которую она принимала, – это семейные деньги, финансировавшие ее исследования. Во всем остальном она зависела лишь от своего интеллекта, мужества и жажды знаний.
По мере того как таяла перспектива брака и детей, Гертруда чувствовала растущую потребность реализовать себя в иной сфере. В определенный момент даже этого бы не хватило, но когда этот момент настал, жизнь преподнесла ей цель мирового масштаба. В течение какого-то времени она стала завоевывать себе имя в международных делах. Вплоть до Первой мировой войны государственные дела, внутренние и иностранные, велись на обедах, суаре и посольских приемах не в меньшей степени, чем в правительственных кабинетах. Гертруда была принята в этот мир и стала завоевывать в нем признание – как эксперт в своей области интересов. Куда бы она ни приезжала, сразу без колебаний объявляла о себе консульству или появлялась у посла, мудира или губернатора (вали) района. В Бухаресте, Париже, Хомсе, Антиохии объявляла она о своем прибытии. Затем были приглашения на парадные обеды, приемы, настоятельные приглашения вести дела из комнаты в консульстве, а не из шатра. Если ты Персона, каковой она стала, Персона, с которой считаются, то очень невежливо не зайти и не оставить свою карточку. Если ты не герцог или граф, ты можешь поддерживать такое положение, только если и дальше будешь его заслуживать и если сможешь утвердить себя среди послов и прочих важных лиц. Когда Гертруда говорила о своих дискуссиях с доктором таким-то по вопросу о тяжелом положении преследуемых граждан в Армении, или о важности залива Акаба как пути снабжения нефтью, или о соображениях в пользу организации железнодорожного сообщения с Меккой, или о факте, что из Дамаска послано десять полков, чтобы привести друзов Хаурана к порядку, за столом воцарялось молчание. Ее слушали, за ней повторяли. Гертруда не пыталась войти в мир мужчин – она в нем существовала.
С XVIII века такие женщины, как Джорджиана, герцогиня Девонширская, организовавшая успех либеральной партии, или намного позже в Америке миссис Гарриман, возродившая удачу демократов, действовали «салонной властью» – обедами и домашними приемами. Гертруда представляла собой новое и современное явление – личность, которая свое влияние оказывала с помощью знаний из первых рук и мнений, основанных на этом знании. Дома и за границей она общалась с величайшими людьми своего времени. Она определенно отличалась от всех женщин, что ездили на Восток до и после нее: Фрей Старк, говорившей, что женщине намного легче путешествовать, потому что можно прикинуться, что ты глупее, чем ты есть; леди Энн Блант, сопровождавшей своего мужа Уилфрида; или нескольких романтичных женщин, описанных у Лесли Бланш в «Диких берегах любви», вроде леди Бертон и Джейн Дигби.
Ее свежайшая информация о том, что сейчас происходит, вместе с ее взглядом на ситуацию была важнейшим инструментом влияния. В ее дневниках в сокращенном виде хранилось все, что сейчас бы лежало в памяти компьютера. Гертруда кратко записывала все, что говорилось в одном кругу, потом, вероятно, позже обнаруживала, какой это проливает свет на то, что она слышала в другом. Она передавала информацию своему другу-журналисту Чиролу, и от дома до заграницы, лицом к лицу или в письмах – государственным деятелям той поры. Как и многих археологов, сообщающих местные политические новости Ближнего Востока, ее называли «шпионкой». Гертруда бы рассматривала такой ярлык и как кричащий, и как неверный. Она была собирателем и распространителем информации, ничего не терявшим от бесплатности этой работы и потому получающим вход в коридоры власти – вход как полноправная Персона.
Как уже упоминалось, ее стиль путешествий, начиная с 1909 года, можно назвать величественным. Она не только любила путешествовать с шиком, но и знала, что шейхи будут судить о ней по ее имуществу и дарам и соответственно с ней обращаться. Гертруда не забывала, как друз Яхья-Бег расспрашивал местных жителей: «Видели вы здесь путешествующую королеву?» И она возила с собой модные вечерние платья, батистовые блузки и полотняные юбки для верховой езды, хлопчатобумажные рубашки и меховые манто, свитера и шарфы, холщовые и кожаные сапоги. Под слоями кружевных юбок у нее скрывались пистолеты, фотоаппараты и пленки, а в свертках лежали бинокли и пистолеты в дар наиболее важным из шейхов. У нее были с собой шляпки и вуали, зонтики, лавандовое мыло, египетские сигареты в серебряном портсигаре, порошок от насекомых, карты, книги, веджвудский обеденный сервиз, серебряные подсвечники и гребни, хрустальные стаканы, простыни и одеяла, складные столы и комфортабельное кресло – не говоря уже о походной парусиновой кровати и походной ванне. Шатров у нее было два – один Фаттух ставил сразу же, как разбивали лагерь, чтобы был стол, где она сможет писать, а во втором ставили ванну, которую наполняли горячей водой, как только появлялся огонь, и походную кровать, которую застилали муслиновым спальным мешком, уложенным под одеяла. «Мне не приходится прятать патроны в сапогах, – писала она домой в январе 1909 года. – Мы прошли таможню, не открыв ни единой коробки».
Картируя Евфрат в 1909 году, Гертруда осмотрела 450 миль вдоль его берегов до прихода в район Неджефа и место своего назначения, Кербелу. Здесь, в Ухайдире, она нашла огромный красивый дворец в замечательно сохранном состоянии. И никогда не забывала свое изумление при первом взгляде на потрясающие стены и сводчатые потолки. Какое-то время, когда было подтверждено, что ее план дворца будет первым, Гертруда верила, что открыла неизвестную цитадель: «Никто ее не знает, никто ее не видел. Это такая удача, какой у меня еще никогда не было… предмет такой завораживающий и вызывающий столько мыслей, как дворец Ухайдир, два раза в жизни не встретится».
В 1910 году она должна была напечатать предварительную статью об Ухайдире в «Джорнал оф хелленик стадиез», а также дать подробный разбор здания в своей пятой книге, описывающей ее великие экспедиции 1909–1910 годов, «От Амурата до Амурата», обильно иллюстрированной собственными фотографиями. Но когда Гертруда вернулась сюда в 1911 году, на этот раз прямо через пустыню от Дамаска до Хита, выяснилось, к ее глубокому разочарованию, что большая монография, которую она собиралась выпустить, 168 страниц умело начерченных планов и 166 фотографий, не будет первой. В Вавилоне Гертруда узнала, что немецкие археологи посетили это место за те два года, что ее здесь не было, и собираются издать собственную книгу. Ее отношение к этому досадному событию продемонстрировало умение вести себя в трудных обстоятельствах: она в предисловии к своей книге, «Дворец и мечеть в Ухайдире», написала о своем восхищении «мастерской» немецкой книгой и извинилась, что предлагает вторую версию, объяснив, почему так поступает: «Моя работа, почти законченная к моменту выхода немецкой книги, охватывает не только территории, раскопанные моими учеными друзьями в Вавилоне, но также те, которых у них не было желания и возможности исследовать… Здесь я должна распрощаться с предметом изучения, который четыре года был для меня основным полем работы, как и основным источником радости».
Посвященная Гертруде запись в Prolegomena, «Кто есть кто» в археологии, говорит о ней как о «замечательной женщине, пионере изучения византийской архитектуры». После выхода книги «Тысяча и одна церковь» – о Бинбир-Килисе – в 1909 году она сосредоточилась на высоком анатолийском плато Тур-Абдин и собранный там материал опубликовала в своей седьмой книге «Церкви и монастыри Тур-Абдина» в 1913 году. К этому времени Гертруда нашла собственную археологическую точку зрения и аргументированно спорила с некоторыми убеждениями Йозефа Стржиговски. Но он, никоим образом не сочтя это за обиду, предложил ей написать статью о Тур-Абдине для журнала «Амида», который издавал с Максом Ван Берхемом. Следом Гертруда написала статью для «Zeitschrift fr Geschichte der Architektur», обе иллюстрированные ее планами и фотографиями.
Оставив Тур-Абдин позади, она в той же поездке сделала небольшой крюк к археологическим раскопкам Каркемиша – древней южной столицы хеттов. Там она рассчитывала встретить своего старого учителя и друга Дэвида Хогарта, но не застала его, зато познакомилась с молодым человеком, которому предстояло войти в ее жизнь, как и ей в его. 18 апреля 1911 года Гертруда написала о нем: «Интересный мальчик; из него получится путешественник».
Его звали Т. Э. Лоуренс, и она на него произвела впечатление не меньшее, чем он на нее. Он написал об этой знаменитой путешественнице домой матери в Англию, что она миловидна, лет тридцати шести (ей было сорок три) и не красавица.
«В воскресенье приезжала мисс Гертруда Белл, и мы показали ей все наши находки, а она нам рассказала про свои. Мы расстались, обменявшись оценками: она сказала Томпсону, что его понятия о раскопках – доисторические, и нам пришлось оглушить ее демонстрацией эрудиции. Ее провели экскурсией (за пять минут) по византийцам, крестоносцам, римлянам, хеттам, французской архитектуре и греческим легендам, ассирийской архитектуре и месопотамской этнологии… доисторическим черепкам и телеобъективам, технике металлообработки бронзового века, Мередиту, Анатолю Франсу и октябристам… движению младотурков, status constructus в арабском языке, похоронным обычаям ассирийцев и немецким способам земляных работ на Багдадской железной дороге… Это было так, легкие закуски… она несколько нас зауважала».
Дэвиду Хогарту Лоуренс написал совсем в другом ключе: «Герти пошла спать в свои шатры. Она из победителей, и из храбрых».
В каждой экспедиции бывает момент, который потом долго помнят и который передает ее суть. Для Гертруды в 1911 году это был Ашур в северной Месопотамии милях в шестидесяти от Мосула. Сидя в одиночестве на вершине холма, она пробыла там час, а перед ее мысленным взором проходила история цивилизации.
«Мир сверкал как драгоценность, зеленые поля, синие воды и вдали ослепительные снега на горах, окружающих Месопотамию с севера… Я представляла себе, как передо мной проходит история Азии. Здесь Митридат умертвил греческих военачальников, здесь принял командование Ксенофонт, а сразу за Забом греки развернулись и разбили лучников Митридата, потом прошли дальше в Лариссу, к кургану Немврода, где Ксенофонт увидел великий ассирийский город Кала в развалинах. Курган Немврода стоял у моих ног среди полей. Чуть дальше видны были равнины Арбелы, где завоевал Азию Александр.
Мы, люди Запада, всегда можем завоевать Азию, но никогда нам не удержать ее – вот что, казалось мне, написано на этом ландшафте».
Гертруда смотрела на землю, где будет потом Ирак – страна, в которой она станет некоронованной королевой. Интересно, что она также предсказала его будущее – далеко за пределы собственной жизни.
Глава 7
Дик Даути-Уайли
Непоколебимый герой… Никогда не обнажал клинка более храбрый солдат… Нежность и жалость наполняли его сердце.
Летом 1907 года, издав свою последнюю книгу, Гертруда находилась в Конье и Бинбир-Килисе в Турции, работая с сэром Уильямом Рамсеем. Их сотрудничество над этим проектом, задуманное в 1905 году, подразумевало, что Гертруда берет на себя всю рабочую рутину, измеряя здания и снимая их планы, работая по двадцать четыре часа в сутки, пока Рамсей будет руководить и анализировать. Книга по результатам этой работы, «Тысяча и одна церковь», напечатанная в 1909-м, до сих пор считается образцом работы по ранней византийской архитектуре в Анатолии. Наградой для Гертруды стали престиж и репутация в мире археологии, которую ей бы не заработать без многих лет учебы и которой завидовали многие археологи.
У нее как у археолога были большие преимущества: готовность идти на опасные территории, свобода, с которой она могла преследовать собственные и независимые цели, энергия и энтузиазм. Не было горы слишком высокой, не было места слишком опасного, охраняемого змеями, пауками или комарами, не было пути слишком далекого, стоило ей только взять след. Рамсей написал в предисловии к ее работе и в письме к Флоренс, что та ключевая дата, которую Гертруда заметила в 1905 году, содержалась в маленькой нише, на которую до того никто не обращал внимания. Он написал о своем восхищении «тщательностью и наблюдательностью» Гертруды (выразившихся в том, что она их заметила) и добавил: «Хронология “Тысячи и одной церкви” строится вокруг этого текста». По сравнению с Рамсеем Гертруда была в этой области талантливым новичком. Когда его попросил о совместной работе Дэвид Хогарт, профессор направил его в Грецию изучать эпиграфику. Беря под свое покровительство такого горящего энтузиазмом ученика, как Гертруда, Рамсей мог сделать это не без задней мысли. Она уже была знаменита своим экспедициями, и все знали, что она – наследница крупного состояния, которая может поддержать раскопки финансово.
Прибыв в апреле в Малую Азию, Гертруда встретила своего любимого слугу из Алеппо, Фаттуха. Двадцать восьмого числа она писала:
«Моря и горы полны легенд, а по долинам рассеяны развалины больших и богатых греческих городов. Здесь – страница истории, которая входит в мозг так, как ни одна книга передать не может… не думаю, что есть в мире человек счастливее меня или страна прекраснее Малой Азии. Я только упоминаю эти факты мельком, чтобы вы держали их в памяти».
В Милете Гертруда получила телеграмму от сестры Эльзы, сообщающую о ее помолвке с неким Гербертом Ричмондом. Письмо Флоренс с подробностями прибыло на место расположения древнего карийского города Афродисиаса, где Гертруду заворожили дверные проемы, декорированные лозами фруктов и цветов с вплетенными зверями и птицами. Она прошла вдоль берегов озер, мимо персиковых и вишневых деревьев под снежными вершинами гор, по неровным дорогам, рассеченным потоками, затруднявшими путь вьючным животным. У озера Эгердир она купила еще одну лошадь за десять турецких фунтов и убедила местного рыбака свозить ее на лодке на островок. «Он был окружен разрушенными византийскими стенами, обрывающимися в воду огромными блоками каменной кладки, там и сям попадались остатки более древних колонн… и все было густо населено змеями». Глядя вниз на озеро, Гертруда видела блики на упавших камнях под водой, и на камнях мерещились надписи. Разгоняя змей, Гертруда спустилась по камням вниз и вошла в воду. «Я изо всех сил пыталась добраться до надписи. Соскребала с камня водоросли, но они всплывали, и наконец я бросила это дело, сильно промокнув и не менее сильно досадуя».
В сопровождении Фаттуха она углубилась в Азию римскими дорогами, отмечая огромное количество бабочек по пути, и достигла Коньи. Гертруда уже была занята работой в Бинбир-Килисе, «раскапывая церкви», когда ввалились Рамсеи на паре телег, запряженных ослами, и с ними их сын, приехавший делать какую-то работу для Британского музея. Миссис Рамсей приготовила чай, а тем временем профессор, «ничего вокруг не видя», тут же с головой ушел в работу Гертрудой, будто продолжая разговор, прерванный минуту назад. «Мы думаем, что это хеттское селение! – писала она домой 25 мая. – Представить себе не можете, как это здорово. Видели бы вы, как я управляюсь с рабочими – 20 турок и 4 курда!»
Хотя ей исполнилось уже тридцать восемь, Гертруда находилась в самом расцвете сил. Если не говорить о любви, она полностью реализовалась и все-таки – как заметила Джанет Хогарт в Оксфорде – была искрометно молода. Так хорошо ей жилось, что Флоренс, вероятно, с некоторым скепсисом восприняла ее приписку в конце одного письма: «Я страшно досадую, что меня не будет на свадьбе Э.». У Гертруды, счастливой и поглощенной своей жизнью, не было предчувствия встречи с человеком, который станет любовью всей ее жизни.
Майор Чарльз Хотэм Монтегю Даути-Уайли из полка королевских уэльских фузилеров – Ричард, или Дик для друзей – был тихим героем войны, заслужившим планки и медали в битвах восточноафриканской кампании 1903 года и до нее. Он был племянником путешественника Чарльза Монтегю Даути, поэта и геолога, который написал нашумевшую «Аравийскую пустыню». Описание диких и опасных приключений Даути, исполненное богатой величественной прозой, сделало эту книгу чем-то вроде библии для серьезных путешественников по Ближнему Востоку. Она входила в число тех, что постоянно возила с собой Гертруда.
Дик Даути-Уайли получил образование в Винчестере и Сэндхерсте. В 1889 году в возрасте двадцати одного года – они были с Гертрудой одногодки и родились почти день в день – он поступил на военную службу и служил в Британской египетской армии в Китае и в Южной и Восточной Африке. Дик был офицером транспортной службы в Индии, конным пехотинцем в Южной Африке, командовал отрядом боевых верблюдов в Сомали. На военной фотографии он – худощавый, усатый, загорелый – превосходит большинство своих сверстников ростом, шириной плеч, внешней красотой и количеством медалей на груди. Он был тяжело ранен на Англо-бурской войне и потом еще раз при Тяньцзине во время Боксерского восстания. Всего за три года до встречи с Гертрудой Дик женился – она в тот год восходила на Маттерхорн. Его переменчивая и честолюбивая жена Лилиан, известная вне семьи как Джудит, была вдовой лейтенанта Генри Адамса-Уайли из Индийской медицинской службы. (Она потребовала от обоих своих мужей присоединить ее фамилию к своей.) На фотографиях, снятых в Конье, она сидит на садовом стуле, наклонившись вперед и задумчиво глядя в землю, руки на коленях, пальцы переплетены. Настойчивость Джудит в сочетании с потребностью Дика в свободе послужила стимулом для его перехода в дипломатию, и он был сейчас военным консулом Британии в Конье. Гертруда познакомилась с ним, придя в консульство за своей почтой.
Сперва для нее Даути-Уайли был просто «очаровательный молодой военный» с «очень приятной маленькой женушкой», которая пригласила Гертруду на ленч в тенистом саду своего дома в Конье. Гертруда пришла и была проведена в сад вместе с другими гостями. После недель раскопок на палящем солнце она загорела, зеленые глаза сверкали, пряди каштановых волос, выбивавшиеся из-под соломенной шляпки, выгорели до белокурых. В разъездах по пустыне она обычно носила светло-синюю вуаль, которую опускала с полей шляпы, но на раскопках ей нужно было наблюдать и осматривать, а вуаль этому мешала. Светлокожая Джудит одевалась в белое и любила кружева. Редко она выходила из дома без зонтика.
Гертруда излучала энергию, говорила во весь голос, много смеялась. Она была в своей стихии. Через шесть бурных лет Даути-Уайли вспоминает эту встречу: «ГБ вошла в коконе собственной энергии, открытости, обаяния». Будучи к тому времени достаточно известной англичанкой, она сразу оказалась в центре внимания. Всем было любопытно познакомиться с этой путешественницей и лингвисткой, чья последняя книга «Пустыня и плодородная земля» стала предметом широких дискуссий. Блестящая собеседница и умелая рассказчица, Гертруда в этот день была душой компании, забавляя всех присутствующих описаниями хаотической манеры Рамсея путешествовать. Он мог стать прототипом рассеянного профессора, теряющего по дороге багаж и одежду и постоянно забывающего рисунки и оттиски где-нибудь под камнем. Гертруда взяла себе за обычай обходить раскопы каждый раз, когда они уходили, собирая бумаги и заметки, которые он разбросал, а миссис Рамсей тем временем бегала за ним, держа его панаму и чашки с чаем. Однажды профессор обратился к Гертруде: «Напомните мне, милочка, где мы сейчас?» Без жены или Гертруды он был не способен запомнить название своей гостиницы и ее местоположение.
«Уайли оба очень милы», – писала Гертруда Флоренс, добавляя, что именно со спокойным Диком она «долго говорила» о предметах и людях. Он был покорен Ближним Востоком и питал привязанность и уважение к туркам: в прошлом году он возил жену в Багдад, Константинополь и древний город Вавилон. Они с Гертрудой вышли из-за стола, чтобы обсудить суфийского философа и теолога Джелал-ад-Дина Руми, к чьей могиле в Конье до сих пор каждый год приходят десятки тысяч его последователей. Мистик Руми посвятил себя сочинению стихов и ритуалам вертящихся дервишей. Даути-Уайли был глубоко потрясен миром ислама, и на него произвело большое впечатление, как много стихов знает Гертруда наизусть. Когда-то она впервые с Генри Кадоганом прочитала строки Руми о его тоске по духовному дому:
- Вы слышите свирели скорбный звук?
- Она, как мы, страдает от разлук.
- О чем грустит, о чем поет она?
- «Я со стволом своим разлучена».
Гертруда несколько раз встречалась в Конье с Диком и Джудит, и они ей помогали во многих мелочах. Но при первых встречах этим и ограничилось. Экспедицию пришлось резко свернуть из-за тревожного состояния слуги Гертруды Фаттуха. В предыдущей экспедиции с Гертрудой он вбежал вслед за ней в разрушенное здание и ушиб голову о низкую притолоку. Сейчас он свалился, и стало понятно, что у него мучительные головные боли с того самого случая. Гертруда, ничего не делающая наполовину, телеграфировала британскому послу в Константинополе и великому визирю Ферид-паше, объяснив, что Фаттуху нужно особое внимание. Она собралась, чтобы тут же везти его в больницу, попрощалась с семьей Уайли, пригласив их в Раунтон, и уехала. Но Фаттух оказался в больнице и пошел на поправку лишь после того, как она покаталась по Босфору на посольской яхте и увиделась с великим визирем: «Он действительно великий человек и… более того, отнесся ко мне лучше, чем можно передать словами».
Домой Гертруда вернулась в августе 1907 года и встретилась со своей французской горничной Мари Делэр, которая приехала в Лондон помочь купить ей новый осенний гардероб. Вскоре она возвратилась в Раунтон и засела в своем кабинете с профессором Рамсеем – он с женой прибыл, чтобы работать вместе с Гертрудой над «Тысячью и одной церковью».
Поскольку у нее было много знакомых среди сильных мира сего и к тому же ее хороший друг Чирол регулярно писал в «Таймс», Гертруда держала альбом вырезок. Вскоре в него попало описание последнего героического предприятия Даути-Уайли. Возбужденные националистическим восстанием младотурок, толпы фанатиков в Конье и ее окрестностях начали истреблять армян, усеивая трупами шоссейные и железные дороги. Натянув свой прежний мундир, Даути-Уайли сколотил отряд турецких солдат и провел их через Мерсин и Адану, усмиряя кровожадные толпы. Раненный пулей, он снова вышел в патруль с перевязанной правой рукой. Говорят, что его инициатива спасла сотни, если не тысячи жизней, и его сделали кавалером ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Что самое необычное, турецкие власти также наградили его за доблесть редким орденом Меджидие. Письмо Гертруды с поздравлением было одним из многих, полученных им со всего света, но, видимо, он на него тепло ответил, поскольку через год они уже переписывались регулярно, и Гертруда иногда посылала письма им обоим, иногда ему одному. Похоже, что Даути-Уайли навещали Беллов в Раунтоне в 1908 году: «Он очень мил», – отмечает Гертруда почти застенчиво. Учитывая ее обычно экспансивный стиль самовыражения, эти три слова замечательны своей краткостью, словно она подавляет все, что еще могла бы о нем сказать, как и свои чувства, с ним связанные.
Их письма теплеют, путешествуя между Месопотамией, где Гертруда совершает одно из своих самых важных исследовательских путешествий и археологических предприятий – зарисовку и обмер огромного разрушенного дворца Ухайдира, – и Аддис-Абебой, где теперь служит консулом Дик. А потом, весной 1912 года, он прибывает в Лондон без Джудит (навещавшей мать в Уэльсе), чтобы повидаться с главой благотворительной организации Красного Креста. Остановился он на своей старой холостяцкой квартире на Хаф-Мун-стрит, как делал всегда, когда жены с ним не было. Возможно, Гертруда и Дик встречались раз-другой в Лондоне за пять лет после первого знакомства, поскольку она в тот же миг решила, что тоже должна быть в Лондоне. Ее зовут прочесть лекцию, сказала она Флоренс, и вообще самое время повидать кузенов и закупить новых вещей на лето. Она поехала в город и пустилась в один из самых счастливых периодов своей жизни.
Широкий круг состоятельных друзей и жизнелюбивых кузенов Гертруды идеально подходил для того, чтобы принять в свою орбиту усталого солдата. Дик был серьезен по характеру и суров в манерах. Чувствовалось, что в его жизни не слишком много веселья. Через Гертруду он познакомился с такой живой и заразительно веселой группой, какую не знал раньше, – вероятно, более интеллектуальной и остроумной, более восприимчивой к музыке, книгам и живописи, чем его военные друзья в клубе. Они знали, что его брак не совсем гладкий, и после всего перенесенного Дик был вполне доволен открывшейся на время возможностью плыть по течению, удрать от старых друзей и коллег ради дней и вечеров совершенно непредсказуемого толка. В компании друзей и родственников они с Гертрудой ходили в театры, в мюзик-холл, в музеи и на выставки, слушали оркестры и концерты в парке и вели громогласные споры о литературе и искусстве. Дик посещал лекции, которые читала Гертруда, – а читала она стильно и уверенно, и юмор, не менее чем эрудиция, завоевывал ей аудиторию. На прогулке в парке или на пути в ресторан Вест-Энда либо на домашний прием Даути-Уайли возвышался над Гертрудой, они отставали от остальных, увлеченные разговором, и взрывы смеха иногда заставляли ее кузенов оборачиваться и гадать, что там такого смешного. После ужина они часто вдвоем отрывались от группы, проводя время за разговорами и смехом до позднего вечера, окутанные клубами дыма из длинного мундштука Гертруды. Видя Гертруду в жемчугах и бриллиантах, с искрящимися зелеными глазами, прекрасными заколотыми волосами, в одном из новых французских вечерних платьев, ее родственники, должно быть, поражались, как она умеет быть красивой. И как флиртует.
Это было уже для нее не забавой: возникали самые серьезные в ее жизни отношения. В Дике Даути-Уайли она видела сочетание качеств, против которых не могла устоять. Подобно своему аскетическому дяде Чарльзу М. Даути, с чьей «Аравийской пустыней» Гертруда не расставалась, подобно бедуинам, к которым она давно относилась с восхищением и любовью, Дик был одновременно и духовен, и решительно-тверд. Огонек, пульс сексуального влечения их друг к другу разгорался с каждой встречей. Связь их крепла – и Гертруда это чувствовала. У нее в этом году не было планов ехать за границу, и в январе 1913-го она написала Чиролу, что отклонила приглашение в научную экспедицию в горы Каракорум в Китае: «Чем ближе была эта перспектива, тем более невыносимой она становилась. Я не выдержу четырнадцать месяцев вдали от родины. Моя жизнь в Англии сейчас так восхитительна, что я не стану ее прерывать на столь долгий срок».
Гертруда так долго ждала этого счастья. И в этом ощущении взаимного влечения и общих интересов ей оказалось легко забыть про существование Джудит. В первых письмах о встрече с семьей Даути-Уайли в Конье она их описывала как «очаровательного молодого солдата» и его «очень приятную маленькую женушку». Любая женщина, прочитав данное описание консула и его жены, насторожилась бы от этого уменьшительного. В системе ценностей Гертруды эпитет «маленькая» по отношению к женщине употреблялся с течением времени все чаще и всегда в неодобрительном смысле. «Приятная маленькая женщина» было в ее устах одной из самых убийственных оценок. Эта фраза стала семейным шифром для обозначения маловажных и раздражающих особ – зачастую, к сожалению, связанных с тем или иным «полезным» человеком. В случае миссис Даути-Уайли, профессиональной медсестры, эта характеристика была очень далека от истины. Когда Дик в Конье занимался спасением двадцати двух тысяч беженцев, Джудит организовала три полевых госпиталя для больных и раненых. Однако ходили слухи, что брак у Даути-Уайли не особенно легкий. Джудит наверняка знала о его похождениях, но была не из тех жен, кто жалуется – как это вскоре и подтвердилось.
Счастье, испытываемое Гертрудой, не могло длиться вечно. Дата приезда Джудит в Лондон была известна, и в должное время она прибыла. Гертруда, подавленная, в смешанных чувствах, вернулась в Йоркшир. В это время она бросилась в садоводство и археологические занятия и на рубеже лета и осени тринадцатого года стала пропадать на охоте – делая все, что угодно, лишь бы как-то протянуть время до встречи с Диком. Кульминацией каждого дня – появление почты, где могло быть – и часто было – письмо от него.
Работая над статьей или рисуя церковь у себя в кабинете, Гертруда могла замечтаться, подперев рукой подбородок, затем резко встрепенуться. Приказав садовникам продолжать работу, она уходила в лес, оставив их без присмотра, не проверив, выкопали ли они до конца канаву, или не сказав, какие растения куда сажать.
Минуты радости и грусти сменяли друг друга беспорядочно. Они с Диком стали так нужны друг другу, что Гертруда часто задумывалась, может ли она улучшить ситуацию, и если да, то на каких условиях. Находящийся на отличном счету военный и администратор потеряет сразу жену, репутацию и карьеру. Ее неудовлетворенные стремления всегда будут приводить его опять на ту же развилку: Дик никогда не давал ей никаких обещаний. И это вызывало у нее в моменты размышления, все более частые и настойчивые, ощущения мучительного одиночества и подавленности. Она жила до и для следующей встречи.
Сторонник семьи и ее ценностей, женственная по своим вкусам, Гертруда любила компанию детей и молодежи. И несправедливо, что у нее никогда не было счастливого романа, не говоря уж о муже или детях. В свои самые мрачные моменты она понимала, что вопреки всем своим триумфам никогда не была ни для кого на первом месте – разве что для своего отца. Она знала, что ее агрессивная манера и быстрые, нетерпеливые ответы отпугивают многих мужчин, но это ей было все равно. Человек, которого возможно запугать, подавить, не мог стать для Гертруды партнером в жизни. По мере того как шли годы и рос список ее достижений, ее запросы становились все более серьезными – в сущности, почти невыполнимыми. Ей нужен был красивый и умный мужчина, неординарный, с достижениями хотя бы не меньшими, чем у нее самой; человек смелый, умеющий сражаться, охотиться и читать стихи, прочитавший великие книги цивилизации и говорящий на иностранных языках, который чувствует себя как дома и в Лондоне, и в иностранном обществе, много путешествовавший, знающий выдающихся политиков и государственных деятелей, которых знает она. Да, Гертруда искала героя – так что? Она же и сама героиня. И наверняка чувствовала, что Даути-Уайли – именно тот, кто ей подходит. Смущаемая эмоциями, вряд ли раньше ею испытанными, она жила в состоянии постоянного нетерпения. И положила ему конец, решив пригласить Дика в Раунтон.
Снова и снова объясняла она себе этот поступок. Это же не будет с его стороны социальной бестактностью – погостить без жены. Гертруда могла бы пригласить их обоих, если бы Дик сказал, что Джудит будет в Уэльсе. Гертруда и без того постоянно принимает друзей и родственников, и каждый уик-энд появляются новые гости, а Дик просто станет одним из них. Весной и осенью бывает охота и стрельба, скачки, танцы, поездки к соседям. Когда озеро замерзнет, можно рубиться в хоккей, в котором она большой мастер. Но Гертруда пригласит Дика в июле, когда дни заполнены пикниками, теннисом, экскурсиями, походами сквозь лесную чащу, рыбалкой, поездками к морю, катанием на лодках и посещениями развалин аббатств. Однако если Дика можно было включить в эту жизнь, не получая комментариев от друзей и соседей, все же оставался вопрос, как к этому отнесутся Хью и Флоренс. Ни за что на свете Гертруда не хотела бы их огорчить, и ей действительно требовалось их одобрение. А не было, разумеется, ни малейшей надежды, что эти два столпа общества, придерживающиеся всех правил общественного поведения, одобрят ее планы. И еще весомым фактором оставалось ее собственное чувство чести, нерушимое настолько, что разрушило бы роман на любой стадии. Глазами постороннего Гертруда видела брак как святая святых. Она не собиралась начинать с Диком сексуальные отношения – всего лишь продолжить эту необыкновенную взаимную радость от его привлекательного – для обоих – присутствия. Пожалуй, впервые в жизни она отказала голове в праве управлять сердцем.
Гертруда не позволила себе задумываться, насколько далеко может зайти взаимная радость в частые моменты наедине или какие последствия все это может для нее иметь. Когда же ее это стало волновать, Гертруда уже слишком далеко зашла, чтобы отказать себе в этой редкой приятности – его обществе. Наверное, вначале был какой-то самообман по поводу глубины ее чувств к нему, потому что она все еще скрывала от Хью и Флоренс тот факт, что пригласила Дика, вполне понимая, что приедет он без жены. Но Гертруде надо было признать перед самой собой, что намерения у нее не такие, какими должны быть. Конечно, порядочность по отношению к Джудит значила для Гертруды меньше, чем растущая привязанность к Дику. Если Флоренс что-то подозревала – как оно, вероятно, и было, – то могла бы сказать себе, что сорокачетырехлетняя Гертруда уже не в том возрасте, когда ее следует учить, как себя вести. Еще, вероятно, она сочувствовала той девушке двадцати четырех лет, что была разлучена со своим нареченным, а потом и пережила его смерть. И пусть со стороны Гертруды не было упреков или злости на родителей по поводу той трагедии, но это никак не освобождало мачеху от угрызений совести и сожалений. Возможно, вспоминая, как она никогда не позволяла Гертруде в отрочестве посещать аристократические дома, где бывали случайные адюльтеры, Флоренс вздохнула и решила смотреть на происходящее сквозь пальцы.
В доме была еще одна женщина, которая, возможно, обо всем догадывалась. Мари Делэр не могла не заметить повышенного внимания хозяйки к летнему гардеробу. Проводились примерки новых обеденных платьев, перешивались шляпки, доставались полотняные юбки, менялись костюмы прошлого лета, и шились десятки новых белых блузок с вышитыми оторочками: стало модно носить тонкие блузки с ниткой жемчуга внутри, видной сквозь тонкую ткань.
И Дик прибыл в Раунтон на несколько дней в июле 1913 года.
После дневной далекой прогулки, галопа по полям, шумного и радостного обеда, за которым последовали кофе и карты в гостиной, шум голосов стал стихать, гости прощались по одному – по два и брели наверх в свои комнаты. Гертруда и Дик остались одни у огня, разговаривая и глядя друг на друга.
Это была ее мечта: все выглядело так, будто они женаты. Счастье опьяняло ее. Вот сидит человек, которого она любит, родные, которых она любит, в доме, который она любит. Ломались барьер за барьером, но не могло не возникнуть неловкости, невысказанного вопроса о наступающей ночи. Вероятно, Гертруда как-то намеком дала ему знать, где ее комната. Наконец она пошла спать. Распуская волосы, она услышала легкий стук в дверь и открыла ее. Они стояли, Дик обнимал ее, и сердце у нее часто билось, потом с некоторой неловкостью сели на кровать. И разговаривали – полушепотом. Трудно было читать мысли этого всегда мрачного человека, но Гертруда, как обычно, обнаружила, что нет пределов тому, что она может сказать. Она объяснила свои чувства: счастье, что нашла мужчину, которого может любить, – и горе, что он уже женат. Дик прижал ее к себе с нежностью, и они легли. Приютившись в его объятиях, Гертруда сказала ему, что девственна. Его тепло, его внимание и сочувствие были неисчерпаемы, но когда он поцеловал ее и придвинулся ближе, она зажалась, испугалась, прошептала «нет». Дик тут же остановился, сказал, что все это неважно, и слезы подступили к ее глазам. Он утешал ее еще несколько минут и говорил, что ничего не изменилось. Потом тихо вышел.
На следующий день снова полетел пестрый каскад развлечений и к вечеру стих. У Гертруды не было возможности долго с ним говорить, а потом он уехал. Вскоре от Дика пришло письмо с благодарностью, написанное 13 августа, – Гертруда схватила его со стола в холле и убежала наверх, чтобы прочитать в одиночестве.
«Дорогая моя Гертруда!
Я очень, очень рад, что ты пригласила меня в Раунтон. Мне так там понравилось – место, люди, сад, лес, все вообще. Это главные декорации жизни женщины, ставшей моим близким другом, как бы органично ни смотрелась она в необозримом множестве иных декораций. И я слушал, как ты рассказывала мне самые важные вещи, и радовался, что ты можешь со мной говорить свободно. Это то, что я люблю, – открытость, свобода говорить и делать ровно то, что хочешь. Но у тебя, мне кажется, было чувство – естественное при первом открытии дверей, – что это не было оценено как надо. Это не так – я люблю откровенность, и я всегда, еще с самых первых турецких дней хотел быть твоим другом. Теперь я чувствую, что мы будто и в самом деле стали близкими, родными людьми. Я очень многое обрел и хочу сохранить это. Одиночество – почему все мы рождаемся в одиночку, умираем в одиночку, живем на самом деле в одиночку, и это иногда больно – это чушь или проповедь? Мне все равно. Я должен что-то написать, чтобы ты поняла, как я горд этим счастьем – быть твоим другом. Что-то очень значимое, пусть это даже невозможно выложить на бумагу, нежность, моя дорогая, благодарность и восхищение, и доверие, и неудержимое желание видеть тебя как можно больше…
Удачи тебе, сколько ее есть в мире.
Всегда твой,
Р.».
«Удачи тебе, сколько ее есть в мире». Гертруда омертвела от унижения. В какое положение это письмо ее ставит? Она прочла его слова и перечитала их снова, вертя так и этак, чтобы выжать из них весь смысл до последней капли. И попыталась смягчить холодность письма, размышляя над словами «все мы на самом деле живем в одиночку». Это наверняка отсылка к неудовлетворительному состоянию его брака, но ничего нового для нее в этом нет. Гертруда снова воспрянула духом. Дик и правда хочет сказать: «Тебе нечего стыдиться, я понимаю глубину твоих чувств, рад, что ты не была задавлена, будем друзьями»?
Но ей хотелось куда большего, чем дружбы. Ее осенило, что этот интимный вечер в Раунтоне стал для нее откровением, каким для него не был. Дик куда опытнее ее, он сам рассказывал о многочисленных романах с женщинами. Ее личная жизнь была неуспешной. Гертруда слишком глубоко чувствовала и слишком сильно страдала по Генри Кадогану, чтобы легко идти на повторение этих переживаний. Прошло двадцать лет, но тот роман остался в ее жизни самым важным – поэтическая, по сердечному движению помолвка, которая заставила Флоренс и Хью изучить его прошлое и финансы и отвергнуть его – или по крайней мере несколько лет выждать. Потом была его смерть от пневмонии как результат падения в ледяную реку, что не могло не оставить вопросы. В любом возрасте это больно, когда, посвятив себя любимому человеку, должна разорвать эти отношения, а потом узнаешь, что твой любимый погиб таким образом, что остаются мучительные вопросы.
Смерть Кадогана оставила у Гертруды душевную рану: она могла флиртовать, но не допускала серьезного чувства. Она была привлекательна в своей теплоте, энергии и идеальном здоровье, прекрасна, какой умела быть со своими рыжими волосами и изящным сильным телом, но мало кто из мужчин мог пробиться через ее зажатость. Был у нее один особый обожатель, некто Берти Крэкенторп, которого Гертруда сперва отметила как «очень преданного», а потом, с растущим раздражением, сказала о нем: «вечно торчит у меня под рукой и слушает». Вскоре она вообще его от себя отстранила: «Пока его с меня более чем хватит!» Были краткие, но глубоко прочувствованные отношения с Билли Ласселсом, племянником Флоренс, кипевшие на нескольких семейных торжествах. Когда это закончилось и Гертруда повзрослела, она отстраненно проанализировала свои тогдашние чувства: «Как странно сознавать, что этот огонь стал теперь пеплом, и нет больше ни одной искорки, слава небесам! Ни азарта, ни сожалений. Осталась лишь грусть воспоминания, которая иногда побаливает, как ни странно, но она очень, очень далека от того, чтобы требовалось его присутствие». Потом у нее был флирт с обаятельным йоркширцем Уиллом Пизом. Ее наблюдательная единокровная сестра писала: «Гертруда с ним отчаянно флиртует», а Элизабет Робинс, друг семьи, думала, что они заключат помолвку. Но если у Пиза и были такие намерения, Гертруда от них уклонялась. Роман так и остался на стадии нежных подшучиваний.
Любовь пришла к Гертруде только дважды, и во второй раз потрясла ее до самых глубин души. Действие, которое произвело на нее чувство, могло быть отчасти обязано полному отсутствию у нее сентиментальности и ее выдающемуся интеллекту. Она вряд ли, как могла бы другая женщина, путала привязанность и страсть. Как пришлось написать Флоренс, знавшей Гертруду лучше всякого другого: «Дело в том, что в основе истинной природы Гертруды лежала ее способность испытывать глубокие эмоции. Великие радости бывали в ее жизни и великие скорби. Как могло быть иначе при… ее горячей и магнетической личности… и темпераменте, столь жадном к новому опыту?» Она уже давно, еще до тридцати лет, выучилась жить без любимого и с лихвой это компенсировала, наполнив жизнь разнообразными приключениями. В то же время желания, которые не исполнились, выразились в ее необычайной склонности к поэзии, проявившейся еще в школе, когда чтение Милтона вызывало у нее «желание встать на голову от радости». Поэзия – выражение эмоций в чистейшем виде – была единственным измерением личности Гертруды, в котором, к разочарованию мачехи, она не реализовалась полностью. Флоренс задумывалась: не отсутствие ли возлюбленного и мужа подавило у падчерицы этот мощный источник чувств?
Из Раунтона Даути-Уайли поехал в Саффолк и оттуда написал странное послесловие к своему письму:
«…Кстати о снах: на следующую ночь призраки Раунтона снова ко мне пришли. Есть ли про них какая-нибудь легенда? Какая-то тень женщины, которая действительно меня встревожила, так что я включил свет. Это был не твой призрак, ничего на тебя похожего, но что-то враждебное и пугающее… Это была… тень, напоминающая высокую женщину, и она кружила, кружила над моей кроватью, как коршун, наклонялась ко мне и молчала, и я не знал, что это за чертовщина, но она собиралась напасть, и я хотел зажечь свет…»
Раунтон был всего сорок пять лет как построен, а Хью и Флоренс жили в нем с 1905 года[22].
Дик вернулся в Лондон, где его ждала пачка писем от Гертруды. Несомненно, ему льстило внимание столь уважаемой женщины, и терять ее дружбу он не хотел, но в то время как ее письма говорили о том, что ее мучило, его ответы тщательно обходили все, что можно было бы понять как обязательство. «Чудесные письма, дорогая, читаю с наслаждением, спасибо тебе за них. Но нет на свете слов, которыми можно было бы на них ответить. Ну, поговорим тогда о другом…»
А потом грянул гром. Письмо, написанное им в клубе, сообщало, что он принял пост в Албании, в Международной комиссии по границам. «Моя жена сейчас в Уэльсе, она приедет, когда я дам ей телеграмму, и она поедет со мной – посмотреть все “как”, “зачем” и “где”… Я вернулся в свою холостяцкую квартиру на Хаф-Мун-стрит, 29. Пиши мне туда… пока я один, пусть я буду один». Возможно, понимая, что эта весть будет значить для Гертруды, и стараясь немного ее утешить, он впервые подписался как «Дик». Все надежды, которые были у нее на новую скорую встречу или избавление от отчаяния, захватившего ее после визита Дика в Раунтон, разом рухнули. Его письма были для нее спасательным кругом. Она их столько раз читала, что выучила наизусть, но сейчас подумала: а не из жалости ли он допустил всю эту переписку, сказав себе: «Все равно я скоро уеду, так уж пусть ее»?
Гертруда не скрыла от него, как несчастна, и Дик попытался ее утешить. «Дорогая, пусть это письмо говорит с тобой и передаст тебе мою любовь и поцелуй, будто я дитя или ты дитя». В том, что касалось любви, она была новичком. Наверное, она допустила ошибки, слишком рано открыв свои чувства и побуждая его оставить жену. Дик же в своей манере, обиняками, старался объяснить связь между этими стремлениями и фрустрацией наложенного на себя целомудрия. По доброте своего сердца и несколько неуклюже он пытался сказать Гертруде, что не следует стыдиться этих эмоций. «Вчера вечером меня остановила бедная девушка – все та же старая история. Я дал ей денег и отправил домой… Столько людей на самом деле похожи на меня или на того, кем я был когда-то, и я им сочувствую… Те желания тела, что правильны и естественны, что зачастую не больше, чем любой обычный голод, – они могут быть огненной колесницей разума, и уже тем одним они велики…»
Потом последовало предупреждение: «Джудит хорошо тебя знает, и, всегда ранее видя твои письма, сочтет очень странным, если вдруг от нее их станут скрывать, а в путешествиях наша жизнь будет идти совсем рядом». Гертруда пришла в неистовство. Нужны ли ему ее письма? Она это проверит. И она перестала писать, а Дик клюнул на наживку. Заверения пришли сразу же – к концу августа. «Пустой день, дорогая. Есть искушение спросить: я сказал лишнее? Или дело в том, что ты подумала, что время прошло? Или слишком занята? Ладно, все это в сторону. В цепях, в которых мы живем – в которых живу я, – мудро и правильно будет носить их легко». Она усугубила свою маленькую победу вопросом: как именно лучше к нему адресоваться в письмах в Албанию. Он ответил:
«Конечно, называй меня Диком, а я тебя буду Гертрудой. Это ничего, многие так друг друга называют. Моя жена не читает мои письма, как правило, но так как она часто сама тебе пишет, мы всегда показывали твои письма друг другу – но как же мне будет их недоставать!.. Есть еще одно, что следует делать: сегодня я уничтожу твои письма. Не передать, как не хочется, но так будет правильно. Человек смертен или что там еще, а письма эти ни для кого, кроме меня».
Гертруда чувствовала, что ничего не могло бы быть хуже. Это было прощание, и за ним пришло еще одно: «…если не смогу тебе писать, я всегда буду думать о том, как ты мне все рассказывала в своей комнате в Раунтоне. Неуловимая книжка ускользает, но наши руки встречаются на ее обложке». Она поняла, что «неуловимая книжка» всегда была иносказанием для секса. «…А ты останешься все той же умной и блестящей женщиной, не боящейся ничего, что может удивить, у которой всегда есть работа и жизнь во всей ее полноте. А я всегда буду твоим другом».
Гертруда оказалась на перепутье. В возрасте, когда разум подсказывает, что пора оставить надежду выйти замуж и завести детей, она встретила такого мужчину, которого всегда искала, – такого, что не стушевался бы рядом с ее собственными достижениями, которого она могла бы с гордостью сравнить с могущественными отцом и дедом. Имея меньшую, чем у большинства женщин, вероятность завести опрометчивый роман, Гертруда все равно была очень уязвима. Нонконформистка, разрушительница шаблонов, ощущающая, что она выше почти всех встреченных ею мужчин, и не стесняющаяся это показать, она так долго скрывалась за линиями обороны, что власть Дика над ней застала ее врасплох. До сих пор в печальные моменты она переживала лишь из-за отсутствия мужа и семьи, но никогда у нее не было ни малейшей горечи или ревности по отношению к детям Эльзы и Молли, которых она считала очаровательными. Валентайн Чирол однажды видел, когда Гертруда приезжала к нему в Уэльс, как целая стайка шумных ребятишек молча слушала ее истории, и серьезные, и смешные. А на дебюте ее двоюродной сестры Стэнли было примерно двадцать девочек, с которыми она энергично танцевала весь вечер.
При всей своей эрудиции Гертруда оставалась такой же, какой была в Оксфорде, когда однажды, решив, что день слишком жаркий, прыгнула в воду прямо в одежде. Она первой выбегала из-за стола, где дети уже в нетерпении ерзали и подпрыгивали, и наперегонки бежала с ними за битой и мячом, чтобы начать шумную игру с криками и спорами. В аббатстве Маунт-Грейс она организовала блестящий пикник для всех детей большой семьи, а в ее письмах то и дело попадается восхищение маленькими племянницами. «Вряд ли я в жизни видела кого-то более достойного обожания, чем дети Молл. Что Полина хорошенькая, это само собой, но она, по-моему, совершенно очаровательна».
А теперь последний шанс на счастье таял на глазах, пока Дик и Джудит собирали чемоданы в Албанию. Обхватив руками болевшую голову, Гертруда поняла, что не может ни подвинуть роман вперед, ни общаться с Диком непосредственно. Казалось, ничто на свете уже не доставляет удовольствия, и ей стало все равно, жить или умереть. Не в первый раз судьба отказала ей в желаемом, да и не последний, а ведь Гертруда была богатой наследницей, которая мало что в жизни не могла получить. Редко ей приходилось слышать «нет», но рок заставлял ее встречаться с этим словом именно тогда, когда труднее всего казалось с ним смириться.
С тем же мужеством, что характеризовало ее всю жизнь, она решила раз и навсегда соскочить с этих качелей надежды и отчаяния. Гертруда не являлась викторианской моралисткой – слишком для этого она была умна, – но понимала, что нарушает правила, а эти правила – на стороне брачных обетов. Но она покажет Дику, что ее любовь к нему не может быть уменьшена ни временем, ни расстоянием. Чтобы избавиться от душевной муки, она пустится в какое-нибудь опасное для жизни предприятие и посвятит ему. Она вернется в пустыню и пройдет маршрутом, где до нее путешественники погибали. Дик говорил, что любит ее произведения. Хорошо, она напишет для него книгу об испытаниях и победах каждого дня и станет посылать частями из каждого промежуточного пункта. Книга будет относиться только к путешествию. Это ему, в Албании, где он наверняка не очень ладит с Джудит, будет напоминать, что она ради него рискует жизнью – возможно, уже даже погибла, и он ее никогда не увидит. Она выберет путь его дяди, вдруг подумала Гертруда, оживляясь, и пойдет трудной дорогой среди воюющих племен в Хаиль – предприятие, где другие не выживали.
Гертруда выехала на восток через полтора месяца после отъезда семьи Даути-Уайли. Перед этим она послала Дику пачку своих книг и обзорных статей. Он ответил:
«Мне нравится, как ты пишешь, – ты человек очень умный и обаятельный, и ты в своей пустыне… Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо до твоего выхода. Если да, милая, то в нем я тебе желаю удачи и успеха, как можно больше безопасности и разумного комфорта (последние два пункта твоя суровая душа склонна презирать)… Доброго тебе пути, отыскивай замки, будь здорова – и оставайся моим другом.
P.S. Что до procs verbaux – тут главное подключать коллег и самому отходить в сторону».
Письмо было прохладным и намекало ей, что писать надо Джудит, а не ему. Гертруда подобралась, чтобы перетерпеть эту боль. Книга, решила она, сама по себе станет любовным письмом. Подобно Шахерезаде, она завоюет его внимание и любовь гипнозом своих рассказов и самой силой своего предприятия.
В Лондоне Дик намеревался положить этим отношениям конец, но не пробыл еще и месяца в Албании, как снова начал писать Гертруде каждые несколько дней. Может, он попытался вложить в свой брак больше усилий, но результата не получил. Может, когда Гертруда была далеко, его меньше волновала наблюдательность Джудит. Может, после ужина, когда Джудит уже легла спать, после целого дня хитрых переговоров о границах с сербами, албанцами и черногорцами, Дик садился с графинчиком портвейна и давал волю чувствам, весь день бывшим под замком. В одном письме он это даже признавал, вспоминая случай в Раунтоне, когда она удержала его на расстоянии вытянутой руки: «Это было правильно… и трезвая часть моей личности не сожалеет, а вот пьяная ее часть сожалеет и вспоминает, пока не заснет». Так или иначе, а в переписке теперь чувствуется новое тепло.
«Да, я очень к тебе неравнодушен. Я думаю, давно уже думаю, что ты чудесна, умна, сильна, такая, как любит моя душа. И мысленно я на верблюде, что бежит быстрее твоих, устремляюсь за тобой в пустыню… но буду писать дальше». И в другой раз:
«Сейчас поздно, я сижу один и думаю… о любви и жизни, об одном вечере в Раунтоне и о том, что все это значило… ты в пустыне, я в горах, и в этих местах многое можно сказать под облаками. Значит ли это, что осторожность была безрассудством, что мы могли бы быть мужчиной и женщиной, какими сотворил нас Бог, и быть счастливыми… но я сам отвечаю себе, что это ложь. Если бы я был для тебя твоим мужчиной, в тех телах, в которых мы живем, переменило бы это нас? Нет, конечно. Мы не смогли бы оставаться вместе долго, а иногда бывают такие “потом”, которых надо бояться… И все равно это великое и прекрасное прирожденное право каждого, женщины и мужчины равно, только многие из них не понимают его простоты. И я всегда считал, что это загадочный и сильный феномен – половое влечение, есть вещь правильная и естественная, которой должно отдавать то, что ей принадлежит, но если не отдают – что тогда? Разве нам хуже от этого?»
Даути-Уайли не остались в Албании надолго и вернулись на Рождество в Лондон, где Дик навестил родителей Гертруды на Слоун-стрит и застал дома Хью. В Саффолке в Новый год казалось, что в браке Даути-Уайли не все гладко. Дик писал:
«Сегодня… хотел бы я тебе рассказывать… о разочаровании моих родственников и жены, что я не приобрел еще букв после фамилии… Где ты? Я пишу будто какой-то мысли, сну своему… Потому ли темнота такая черная в эту ночь? Или это сожаление об утраченном, о великом и прекрасном, что я нахожу в твоей книге, в твоем уме и теле, в любви твоей, во всем, для меня утерянном… Хотелось бы тебе, чтобы я написал тебе любовное письмо – сказал, как мне радостно, благодатно и смиренно, когда я о тебе думаю?»
Вскоре он уже писал, что поедет в Аддис-Абебу, на этот раз один. «Там анархия, полная и зверская… Быть может, мне можно будет сообщить в Каир. Твой отец даст мне знать…» Гертруда, находясь в Зизе, только что отклонила предложение защиты и от турецких чиновников, и от британского правительства. Она твердо решила оказаться вне закона, и когда свернула к пустыне, начиная самую опасную часть своего путешествия, начала книгу, которую будет писать исключительно для него. Она станет ее делить на части и по частям посылать в Аддис-Абебу вместе со своими письмами. По крайней мере теперь она не боялась, что они попадут в руки Джудит.
Через посредство Дика она получила пожелания безопасного пути от самого автора «Аравийской пустыни». Для нее ничего не могло иметь в этот момент такого важного значения, кроме того ощущения, которое было у нее от писем Дика: эмоциональная связь между ними крепла, пусть даже ничего фундаментально не изменилось.
«Ты сейчас принадлежишь пустыне, – писал он, – с твоей блестящей храбростью, моя королева пустыни, и сердце мое – с тобой. Будь я молод и свободен, и будь совершенным рыцарем, мне бы следовало догнать тебя и поцеловать. Но я старый, усталый, обремененный сотней ошибок… ты права: не этот путь для нас с тобой, потому что мы рабы, а не потому что это неправильно – не для нас естественный путь, когда страсти тела пылают и переплавляются в страсти духа, в этих восторгах мечты, столь редко находимых людьми, к которым, как ты могла бы сказать, присоединяется Бог, и в некоторый божественный момент мы могли бы достичь такого восторга. Этого не будет. Но очень многое нам осталось. Как ты могла бы сказать, моя дорогая и мудрая королева, – все, что есть, мы возьмем».
Как ни трудно ей было переводить его письма в свое собственное ясное понимание, но по крайней мере из Лондона Дик писал ей ежедневно или раз в два дня. В ее письмах нет задней мысли, нет уклончивости или расчета. Она снова и снова говорила ему, чего хочет. Он отвечал: «Не могу тебе передать, как это меня тронуло – увидеть слова, написанные твоей рукой, что ты могла бы выйтиза меня замуж, родить мне детей, быть моей жизнью и моим сердцем».
Напоминая ему, что в персидском «сад» и «рай» обозначаются одним и тем же словом, Гертруда придумала метафору фантазийного сада, куда могли войти только они. И там они могли бы наконец остаться одни.
«Ты мне дала новое слово, Гертруда, ты мне дала ключ от твоего сердца, хотя у меня и есть друзья, и среди них женщины, и даже есть жена, все они как восток от запада далеки от сада, где идем мы с тобой… Я часто любил женщин, как любит их мужчина вроде меня: к добру или к худу, очень и не очень, когда бурлила кровь, или звало время, или в ответ на приглашение, или просто приключения ради – посмотреть, что будет. Но все это в прошлом».
В конце января четырнадцатого года Дайти-Уайли снова посетил Хью, потом уехал в Аддис-Абебу. Уезжая, Дик написал письмо менее красноречивое и более чувственное, чем все, что он посылал ей раньше. «Где ты теперь? Возле замков Белки[23], работаешь за десятерых, усталая, голодная и сонная… Такая, какой я люблю о тебе думать: иногда (хотя это очень по-скотски с моей стороны) думаю о тебе, одинокой, и что ты меня хочешь…» Наконец Дик написал ей слова, которые она так долго хотела услышать:
«Ты говорила, что хочешь услышать слова от меня: “я люблю тебя” и не скрываешь этого желания… Я люблю тебя – есть от этого толк посреди пустыни? Стала она не такой огромной, не столь одинокой, как дальний край жизни? Когда-нибудь, быть может, в шепоте, в поцелуе, я тебе скажу… такая любовь – это сама жизнь. Ох, где ты, где ты?.. Ладно, я еду. Африка меня тянет, я знаю, что есть вещи, которые я должен сделать… но я почти не думаю о них, а вот только о том, что люблю тебя, Гертруда, и не увижу тебя…»
Сидя в шатре, она снова и снова перечитывала эти слова, и сердце у нее прыгало. Наконец-то он сделал признание. Дик признал перед собой, что любит ее, ни больше ни меньше. И все же никогда она не чувствовала себя дальше от него. Помнит ли он хотя бы, как она выглядит? Бывали страшные моменты, когда Гертруда пыталась вспомнить его лицо – и не могла. Ее путешествие уже подходило к концу, уже почти можно было сказать, что она уцелела, но впереди ее ждало, возможно, одиночество еще более полное, чем то, что она уже вынесла. Дик физически был от нее так же далеко, как всегда, и не приблизился к тому, чтобы оставить жену. Плача от изнеможения и грусти, Гертруда спросила себя, что же она выиграла:
«Я стараюсь заранее себя дисциплинировать, напоминая себе, как все время предвидела… этот конец, и когда он настал, нашла – попросту ничего. Пыль и пепел в горсти… мертвые кости, которые никогда не встанут плясать – все это ничто, и от них отворачиваешься со вздохом и стараешься направить взгляд на то новое, что перед тобой… А вот смогу ли я вынести Англию: вернуться к тому же и делать то же самое снова и снова – вот об этом я иногда себя спрашиваю».
Гертруда вернулась в Англию, где не было Дика Даути-Уайли, – но не затем, чтобы повторять то же самое снова и снова. Лето было жаркое и полное политических предзнаменований. А его письма продолжали идти, тон их становился более горячим и менее осторожным. «Что не дал бы я за то, чтобы ты сидела напротив меня в этом одиноком доме…»
В Раунтоне в день начала войны, четвертого августа, она бросилась в работу для войны. Сперва временно, в госпитале лорда Онслоу в Клэндон-Парке вблизи Суррея. Гертруда написала в Красный Крест, спрашивая, найдется ли для нее работа. В Клэндон-Парке она не пробыла и трех недель, как получила телеграмму с вопросом, может ли она немедленно уехать в Булонь и работать там в отделе раненых и пропавших без вести.
В октябре немецкая армия насквозь прошла Фландрию, и британский экспедиционный корпус, посланный к Ипру ее остановить, был практически истреблен. Потери оказались огромными. Когда к концу ноября приехала Гертруда, на платформах станции еще лежали раненые на носилках.
Она поселилась в городе в крошечной комнате на чердаке, сразу же пошла в офис и занялась работой по регистрации и индексированию, составлению списков раненых и пропавших без вести для военного министерства. Проработав восемь-девять часов в день, она уходила в ресторан поужинать, потом садилась, смертельно уставшая, писать Дику и родным. Сейчас она была уже не так несчастна, потому что снова включилась на полную, впряглась в лямку и стала работать с такой скоростью, что коллеги по офису поверить не могли, не то что угнаться. Письма от Дика стали теперь такими страстными, как ей только могло желаться, она брала их с собой на работу, чтобы перечитывать за перехваченным на скорую руку ленчем:
«Сегодня я не хотел бы говорить, – пишет он. – Хотел бы любить тебя. Понравилось бы тебе, обрадовалась бы ты, или тут же сотня колючих изгородей восстала бы и ощетинилась? – но мы бы прорвались сквозь них. Разве есть изгородь, которая нас должна разделить? Ты у меня в объятиях, вся в огне. Сегодня я не хочу снов и фантазий. Но этого никогда не будет… В первый раз не был бы я почти испуган – стать твоим любовником?»
Лишенный секса, он иногда ни о чем другом думать не мог.
«И не меньше трогает ум настойчивая страсть тела. Женщины иногда отдаются мужчинам, чтобы доставить им удовольствие. Мне бы очень не понравилось, если женщина так вела себя со мной. Я бы хотел, чтобы она испытывала до последнего вздоха тот же прилив и волну, что уносят меня. Она бы не упустила ничего, что я мог бы ей дать».
Гертруда отвечает от самого сердца:
«Милый мой, я весь этот год свой отдаю тебе, и все годы, которые будут после. Самый дорогой, когда ты говоришь, что любишь меня и все еще меня хочешь, сердце мое поет – а потом плачет от желания быть с тобой. Я все пустоты мира наполнила моим желанием тебя, оно выплескивается, взбирается на высокие горы, где живешь ты».
Но в декабре пришли нежеланные вести. Джудит прибыла в северную Францию и устроилась на работу в госпитале неподалеку. И тут же Гертруда получила от нее письмо с предложением вместе пообедать. В панике, не имея возможности посоветоваться с Диком, Гертруда решила, что если не ответить, – будет выглядеть странно. Она должна через это пройти.
Если у Джудит уже есть подозрения, что Дик и Гертруда находятся в тесном контакте, то при встрече они почти наверняка подтвердятся. Гертруда не притворщица, и если ее спрашивают, отвечает правду. И как можно узнать из последующего письма Гертруды Дику, Джудит, дрожа от злости, сказала ей, что Дик всегда будет держаться своего брака и в конце концов бросит Гертруду. Она написала:
«Это было невыносимо. Не заставляй меня это пережить… ты меня не оставишь? Это пытка, это вечная пытка».
С самого начала каждая встреча, каждое письмо возносили ее вверх – а потом бросали в пропасть. Почти предсказуемо Гертруда теперь металась от одного края спектра чувств – надежды – к отчаянию. А сейчас она ощутила невероятное счастье – Дик написал, что возвращается домой. Он будет в Марселе в феврале, заедет к Джудит по дороге через Францию, потом отправится дальше в Лондон. Гертруда может туда к нему приехать. Пусть тогда ждет его сообщения и будет готова выезжать. Но Дик останется там недолго. Он «с радостью» вызвался добровольцем на фронт и едет в Галлиполи.
Сообщение пришло. Чемоданчик был уже собран. Гертруда схватила его и побежала к машине, что должна была отвезти ее на паром. Прибыв в Лондон, она помчалась в дом 29 на Хаф-Мун-стрит, взбежала по лестнице и позвонила. Дверь открылась, и они наконец оказались лицом к лицу. Секунду они стояли, глядя друг на друга, потом Дик одной рукой подхватил ее чемодан, а другой втянул ее в дверь. Они были вместе и наедине четыре ночи и три дня. Потом Дик уехал в штаб генерала сэра Иэна Гамильтона – собирались силы для безнадежного предприятия в Галлиполи.
Великая война быстро забуксовала, и целое поколение молодых людей было убито во Франции на Западном фронте без малейшего продвижения против немцев. Чтобы разорвать эту патовую ситуацию, британские боевые корабли в Средиземном море получили приказ пройти узкие Дарданеллы и напасть на Константинополь и немецких союзников – турок. Если бы удалось открыть второй фронт на юго-востоке, Германии пришлось бы отвести войска с Западного фронта. Но операция обернулась трагедией: британские корабли налетели на мины. Три корабля были потоплены, флот отступил. Поспешно составленный резервный план открытия нового фронта состоял в высадке британской армии на берег в Галлиполи. Этот план обернулся самоубийством для ее участников, которых турецкие пулеметы расстреливали прямо в воде.
Самые романтические моменты в жизни Гертруды были также самыми острыми и болезненными. Наверно, современной женщине трудно это понять, но она все еще не реализовала свою любовь полностью в физическом смысле. Можно было бы привести аргумент, что ее нерушимые принципы, те же, что вывели ее живой из пустыни и тысячи других опасностей, не позволили бы ей стать соучастницей супружеской измены. Но нет необходимости это подчеркивать. Письмо, которое обезумевшая Гертруда написала Дику через несколько дней после расставания, не оставляет сомнений в том, что она не боялась последствий в виде возможной беременности, но не могла перешагнуть врожденную щепетильность. Она всей душой хотела освятить их союз сексом, но в то же время не могла не дать себе в последний момент отпрянуть. Чего она на самом деле хотела, как пришлось ей объяснить, – это чтобы Дик преодолел свое нежелание и ее протесты и взял ее силой. Но он, при всей своей опытности, любовник был мягкий и безнадежно цивилизованный и заставить себя так поступить не мог.
Гертруда посылала ему вслед письма, напуганная собственной неспособностью, охваченная паникой, съедаемая сожалениями.
«Когда-нибудь я попытаюсь тебе это объяснить – страх, ужас перед этим. Ах, ты думал, я храбрая. Пойми меня: не страх последствий – я ни на секунду о них не задумывалась. Это страх перед чем-то, чего я не знаю… ты должен знать все об этом, потому что я тебе рассказывала. Каждый раз, когда он во мне всплывал и я хотела, чтобы ты его отмел… но я не могла тебе сказать: изгони его. Не могла. Этого последнего слова я никогда не могу сказать. Ты должен его произнести. Страх – это ужасная вещь. Это тень – я знаю, что он на самом деле не существует…
Только ты можешь меня от него избавить – прогнать его прочь, я теперь знаю, но до последней секунды… я очень боялась. Но тогда я наконец поняла, что это тень. И теперь это знаю».
Дик писал в ответ: «Может быть, это какой тонкий дух предзнания, что не дал нам соединиться в Лондоне? Риск для тебя слишком велик – для твоего тела, для твоего душевного покоя и гордости…»
Гертруда ответила, что была готова «платить по этому счету», какой бы высокой ни оказалась цена – беременность, позор, социальный остракизм. Сейчас она думала, что ребенок, и без того не худшее из последствий, мог бы стать лучшим подарком:
«И положим, что случилось бы то, чего ты боялся, чего я боялась наполовину – наверное, ты помнишь. Если бы это сейчас со мной было – то, чего ты боялся, – я бы славила Господа и ничего не опасалась. Не только величайший мой дар для тебя – дар даже больший, чем любовь, – но и для меня, божественный залог свершения, созданный в экстазе, переданная в огне жизнь, чтобы лелеять ее и почитать и жить ради нее, с тем же жаром, с каким почитала и лелеяла ее создателя».
Ее письма рождались в часы страданий и сожалений, с обещаниями, что никогда больше она не будет сдерживаться. «Если бы я отдала больше, если бы я обняла тебя крепче, притянула к себе увереннее? Я оглядываюсь и злюсь на собственную нерешительность… У меня было несколько звездных часов, я готова была умереть ради них и была бы счастлива. Но ты – ты не получил того, что хотел».
Для Гертруды, как бы она ни была бесстрашна, секс стал последним барьером. Ее не следует судить слишком сурово – она и так казнилась из-за этой нерешительности каждый день своей оставшейся жизни. Она по-настоящему хорошо знала Дика с этих счастливых дней в Лондоне весной 1912 года. В следующие три года вопреки ускоряющемуся темпу их переписки она провела с ним только считаные дни. Время от времени они снова встречались в людном насыщенном событиями мире, протягивали друг другу руки – и их растаскивало в стороны. Гертруда и Дик в каком-то смысле были похожи на многие пары военных лет, поженившиеся в начале войны, расставшиеся, когда мужчину забрали на фронт, а потом встретившиеся через годы как муж и жена – и почти чужие люди. Им бы узнать друг друга, пока они были молоды, среди родных и друзей, и медленно двигаться к близости, что неизбежно привело бы к постели, но такое постепенное развитие редко случалось в бурной неразберихе пятнадцатого года. Их бросило друг к другу на миг, они едва успели узнать друг друга снова за эти четыре ночи в Лондоне, а потом он уехал, оставив ее еще более влюбленной и еще более тоскующей.
Гертруда не верила, что ее страдания можно усугубить, но они усилились вдесятеро. То, что она написала ему, было ультиматумом:
«Не могу спать. Не могу спать. Час ночи. Ты, ты, ты, ты стоишь между мной и любым отдыхом… нет мне отдыха не в твоих объятиях. Жизнь, назвал ты меня, жизнь и огонь. Я пылаю, и я сгораю… Дик, так жить невозможно. Когда все закончится, ты должен взять то, что твое. Перед всем миром заявить на меня права и взять меня на веки веков. Ненавижу действовать украдкой – но если открыто прийти к тебе – что я могу сделать и остаться жить – то что я потеряю? Все это ничего для меня не стоит, я дышу, мыслю, двигаюсь в тебе. Ты можешь ли это сделать, осмелишься ли? Когда все это кончится, когда ты сделаешь свою работу, рискнешь ли ты этим для меня? Потому что или так, или никак. Жить без тебя я не могу.
Те, кто меня любят, поддержат меня, если я так поступлю, – я их знаю. Но не в другом случае. Не обман, ложь, изворотливость и наконец разоблачение, как оно и будет… Если ты думаешь о чести, это и будет честь, а наоборот – бесчестье. Если ты думаешь о верности, то это она и есть – верность любви… Потому что я высоко держу голову и не пойду другими путями, быть может, мы в конце концов сможем пожениться. Я не рассчитываю на это, но для меня это было бы лучше, намного лучше… Но не прогляди огонь бивака, который горит в этом письме, – ясное, чистое пламя, питаемое моей жизнью. Ты думаешь, я могла скрыть этот сияющий через полмира огнь? Или разделить тебя с другой? Если погибнешь – подожди меня. Я не боюсь этого перехода, я приду к тебе».
Дик ей ответил, когда они были вместе, что Джудит угрожала самоубийством с помощью «ампул морфина», которые в госпитале доступны. Он не решился объяснить жене насчет Галлиполи – что это может значить, но от Гертруды у него таких тайн не было. Дик верил, что она останется спокойной и неунывающей. А теперь – несомненно, к собственному ужасу – прочел, что она подумывает о том же выходе. В апреле 1915 года она писала:
«Я совершенно спокойна насчет огня и шрапнели, под которые ты идешь. Что уведет тебя, уведет и меня тебя искать. Если только есть там, за краем, поиски и находки, я тебя найду. Если там ничто, как подсказывает мне здравый смысл, – ну, значит, там ничто… жизнь от этого отшатывается, но я не боюсь. Жизнь закончится, как же сможет гореть огонь? Но я смела – и ты это знаешь, – насколько вообще может быть смел человек.
Дик, пиши мне. Что я услышу?.. Я надеюсь, я верю, ты обо мне подумаешь: дашь мне возможность стоять прямо и говорить, что я никогда не ходила кривыми путями. А потом они простят меня и тебя – все, чье прощение для нас будет важно…. Но это ты должен был так сказать, должен говорить это прямо сейчас, ты, а не я. И я этого никогда не повторю».
Бедный Даути-Уайли, застрявший между обезумевшей женой и готовой идти за ним на тот свет возлюбленной! Из Галлиполи он отвечал Гертруде так:
«Милая, не делай того, о чем говорила: мне страшно даже думать об этом. Вот почему я рассказал тебе о жене: насколько ты выше этого – не делай ничего столь недостойного такой свободной и храброй души. Человек должен пройти свой путь до конца. Когда я просился на этот корабль, моя радость была наполовину придушена тем, что ты сказала, – я даже не могу повторить и говорить об этом… Не делай этого. Время ничего не значит, мы снова соединимся, но ускорять его бег недостойно никого из нас».
И снова Дик напоминает Гертруде о ее прежнем убеждении, что смерть завершает все: «Что до того, что говорила ты о каком-то будущем в далеких краях, – это мечты, женщина моей мечты. Мы должны идти своим путем, а такое небесное безумие – для богов и поэтов, а не для нас, разве что в прекрасных снах». В его письмах появилась некоторая отстраненность. В конце концов, время предложить себя для Гертруды миновало. Дик отлично знал, что предстоящая битва – практически самоубийство, и у него было о чем подумать.
В архивах Имперского музея войны хранится последнее письмо Дика Даути-Уайли. Написанное не жене и не возлюбленной, оно дает ключ к разгадке нерешительности в его отношениях с Гертрудой. Оно написано матери Джудит, миссис Х. Х. Коу – «Жан» – в Лландисале, Уэльс. Датировано письмо 20 апреля 1915 года, за шесть дней до гибели Дика в Галлиполи, и отправлено из штаб-квартиры Средиземноморского экспедиционного корпуса. Письмо осторожное и сдержанное. В нем Дик выражает заботу о своей жене и тревогу о состоянии ее ума.
«Дорогая моя Жан!
Лайли [Джудит] запрещает мне вам писать… я хотел сказать, в каком состоянии она была, когда я видел ее во Франции, в мой приезд и в мой отъезд. Она вся жила в своей работе и, я думаю, занималась ею слишком много, как всегда была склонна, но, в общем, чувствовала себя хорошо. Это славная работа и очень хорошо сделанная, среди многих трудностей всевозможного рода. Сестринский состав ее мне понравился, и я о нем высокого мнения, как и о двух ее английских врачах. Французский доктор мне понравился меньше, но он переменился.
Теперь я вас прошу кое-что для меня сделать. Я завтра уплываю на одной крайне опасной штуке – а именно, развалине корабля, название которого вы увидите в газетах. Если дело обернется плохо, Лайли будет невыносимо одиноко и безнадежно после долгих часов работы, что плачевно сказывается на состоянии духа и жизнеспособности человека. Она поговаривает о передозировке морфия и прочем в таком роде. Я думаю, что на самом деле Лайли слишком храбра и сильна разумом для таких вещей, но все же мне неспокойно. Если вы услышите, что я убит, тут же поезжайте во Францию с Х. Х. и разыщите ее. Сразу дайте ей телеграмму, что едете, и попросите послать Фрэнка Уайли с машиной встретить вас в Булони. Не теряйте времени, поезжайте к ней. Не забирайте ее с работы, потому что для нее лучше всего работать, но постарайтесь быть рядом и присматривать за ней. Скажите Лайли истинную правду: что ее работа без нее идти не будет. Я ей про развалину корабля не сообщил – не хочу, чтобы она знала раньше, чем это случится.
Это всего лишь предосторожность. С ней рядом близкая подруга, сестра Изобель Стенхаус, и мисс Сэндфорд – сестра моего помощника в Абиссинии, очень хорошая девушка, и Лайли сейчас в таком месте, которое ей лучше всего подходит, и я просто излишне за нее переживаю.
Это весьма интересное шоу с любой точки зрения – но как ни оценивай, довольно рискованное. Успех может быть ослепительный, но в любом случае идея очень смелая.
Надеюсь, вы с Х. Х. оба в добром здравии. В Англии я был, как вы, наверное, знаете, меньше трех дней и ни с кем не имел времени повидаться – или хотя бы привести себя в норму, что мне было необходимо.
Так что не стоит слишком переживать из-за этого дела – все это обыденность, насколько я понимаю, а ее госпиталь – самое подходящее для Лайли место на случай, если что-нибудь случится.
Целую вас обоих,
любящий вас Дик».
Конечно, он говорил неправду, когда писал теще, что не мог ни с кем в Лондоне увидеться. Еще важнее, что письмо это проливает новый свет на Дика и его отношения к двум женщинам его жизни. Оно наводит на мысль, что его письма, которые так трудно было понять Гертруде, которые, казалось, с одной стороны декларируют любовь, а с другой – желание избежать любых обязательств, несколько отравлены нестабильностью состояния его жены и его о ней заботой. Наверное, Дик знал, что Джудит не сможет без него справиться. Когда она не уходила с головой в трудоемкую работу в госпитале, то пребывала в полном душевном беспорядке. Поскольку он не решился сказать жене о «развалине корабля», то вполне правдоподобно, что Джудит действительно угрожала самоубийством, если он бросит ее ради Гертруды. В любом случае Дик понимал, что если его убьют, у нее, вероятно, будет срыв.
Кажется, он все же полюбил Гертруду так, как ей мечталось, с сексом или без него, но не мог заставить себя сделать решительный шаг и оставить жену. Одно несомненно: сейчас он оказался перед страшной дилеммой. Дик мог поддержать душевное здоровье своей жены и заставить Гертруду мучиться. Или же он мог объявить о своей любви к Гертруде и причинить боль психически нестойкой жене. Наверное, эта борьба его истощала. Однако сейчас ему не требовалось принимать окончательное решение: его собственная жизнь была в опасности.
Последние слова Дика, обращенные к Гертруде, когда он поднялся на борт «Ривер-Клайд», были: «Столько воспоминаний, милая моя королева, о тебе, о твоей прекрасной любви и твоих поцелуях, о твоей храбрости, о чудесных письмах, которые ты мне писала, от твоего сердца к моему, – письмах, которые я взял с собой, как капли крови». Эти ее письма, которые ехали с ним в Галлиполи, Дик отправил ей обратно накануне дня, когда ожидалась высадка на берег «V».
На корабле было две тысячи человек – все мюнстерцы, две роты хэмпширцев, рота дублинцев, несколько человек из королевской военно-морской дивизии, Даути-Уайли и еще один человек из штаба Гамильтона, подполковник Вейр де Ланси Уильямс. В эту ночь, перед тем как повести штурм против турок, к которым он был так привязан, Даути-Уайли выглядел очень спокойным. Его коллега Эллис Эшмид-Бартлетт сообщает, что он редко говорил, но «видимо, много думал». Подполковник Вейр Уильямс писал: «Я не сомневаюсь, что бедняга Даути-Уайли понимал: его на этой войне убьют».
«Ривер-Клайд» обогнул берег «V», лихтеры заняли позицию для использования их в качестве плавучего моста. Даути-Уайли и Уильямс ждали прибытия капитана Гарта Уолфорда. Он прибыл в полночь с приказами генерал-майора Эйлмера Хантер-Уэстона, что атака на крепость и деревню Седд-эль-Бахр должна быть отложена. Уолфорд сошел на берег утром 26 апреля – сражаться бок о бок с хэмпширцами. По плану один отряд должен был захватить крепость и деревню, второй пройти на соединение с войсками на берегу «W», а третий прорваться через проволочное заграждение прямо вперед к высоте 141.
Отряд взял крепость, но Уолфорд был убит. С деревней так просто не получилось. Турки прятались в погребах, за стенами каждого дома и отстреливали захватчиков, стоило им появиться из крепости. Иногда они пропускали англичан, а потом стреляли в спину.
Даути-Уайли смотрел со своего корабля и страдал почти до полудня. Потом взял трость и направился в деревню. Пистолет, если он его привез, остался на «Ривер-Клайде». Возле задних ворот крепости пуля сбила с него фуражку. Потом, как писал один офицер мюнстерцев, Даути-Уайли заходил в дома, где могло быть полно турецких солдат, так небрежно, словно в магазин: «Я… помню, как меня поразило спокойствие, с которым он отнесся к этому инциденту. У него не было вообще никакого оружия, только тросточка». Безмятежно прогуливаясь, Дик подобрал винтовку, лежащую рядом с мертвым солдатом, но через несколько секунд, будто передумав, бросил ее. Деревню наконец взяли. Даути-Уайли теперь направился к высоте 141. Все с той же тросточкой, с тем же странным спокойствием он взошел на холм, ведя с собой ликующую толпу дублинцев, мюнстерцев и хэмпширцев. Они дошли до вершины, и турки перед ними отступили. И в момент победы Даути-Уайли получил пулевое ранение в голову навылет.
Его похоронили тут же – Уильямс и другие солдаты. Уильямс произнес над его могилой молитву Господню и попрощался с ним. Позже он поставил над могилой временный крест, сколоченный корабельным плотником, и капеллан мюнстерцев отслужил погребальную службу. Дик Даути-Уайли был самым старшим офицером, заслужившим крест Виктории – самую высокую военную награду – во время операции в Галлиполи. Его могила остается там и по сей день, в окружении кустов лаванды и двух кипарисов – единственное кладбище союзников в Галлиполи, где только одно захоронение. Как писал сэр Иэн Гамильтон: «Никогда не обнажал меч более храбрый солдат. У него не было ненависти к врагу… нежность и жалость заполняли его сердце… Он был безупречный герой… И как хотел бы он умереть, так и умер».
После его смерти остались вопросы. Почему Дик не взял пистолет? Ему так не хотелось нападать на турецких друзей, что он готов был погибнуть, не защищаясь? Совершил ли он своего рода самоубийство, сперва посоветовав тем, кого любил, «идти по дороге до конца», потому что «спешить – недостойно»?
Может быть, Дик думал, что, если переживет Галлиполи, его жизнь станет невыносимой. Гертруда предъявила ему страстный ультиматум: «Перед всем миром – объяви меня своей… Так или никак. Жить без тебя я не могу». Джудит дошла до точки срыва. Вероятно, он, как Гертруда, когда направлялась в Хаиль, не видел разницы, жить ему или умереть, и ничего не сделал, чтобы себя защитить. В сущности, как сказал Гамильтон, «нежность и жалость наполняли его сердце»: Дику проще было пойти с ясными глазами на смерть, чем причинить боль любимым.
Услышав эту весть, Джудит написала в дневнике: «Удар был ужасен. Будто что-то разорвалось где-то в области сердца… Наверное, мне придется собирать осколки… одинокой вдове». Гертруде предстояло узнать о его смерти еще более драматичным образом. Она продолжала писать Дику, потому что никто ей не сказал о случившемся: в конце концов, она была ему не жена и не родня. Однажды за ленчем в Лондоне кто-то из друзей, не зная о ее с ним отношениях, заметил, как жаль, что убили Дика Даути-Уайли. И пошел разговор о его храбрости, а Гертруда сидела с посеревшим лицом, и комната вертелась перед ее глазами. Она тихо встала, извинилась и вышла. Едва ли соображая, что делает, она добралась до Хэмпшира, в дом своей сводной сестры Эльзы, ныне леди Ричмонд. Открыв дверь Гертруде, на которой лица не было, Эльза немедленно решила, что убили их брата, Мориса, и разразилась слезами.
«Нет, – сказала Гертруда почти нетерпеливо. – Это не Морис».