Железные франки Шенбрунн-Амор Иария
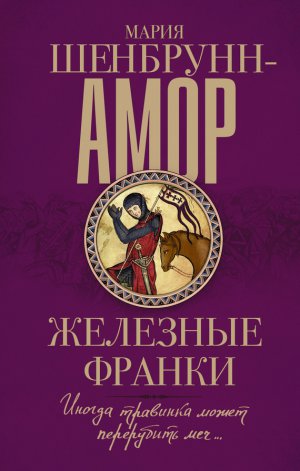
Пролог
Следы на песке
…вот, идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли; держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона…
Иеремия VI, 22–23
Солнечным октябрьским днем 1126 года от воплощения Господня две дюжины кораблей, до бортов груженных боевыми конями и рыцарским оружием, вошли гуськом в гавань Святого Симеона. С головной лодки на топкий сирийский берег спрыгнул высокий белокурый рыцарь.
Стоя в полосе прибоя, новый правитель Антиохии Боэмунд II нетерпеливо оглядывал прибрежные холмы, усеянные вооруженными всадниками в блестящих шлемах и кольчугах, реющие в небесной синеве знамена с лилиями княжества, бурый клир монахов и толстого патриарха в парчовом облачении, воздевавшего навстречу прибывшему князю огромный, сверкающий золотом крест.
Морской ветер доносил обрывки глухих торжественных песнопений, но юноша не слушал псалмы, а жадно всматривался в тонкие женские фигуры в ярких трепещущих шелках. Кто из них его невеста, принцесса Алиса, дочь короля Иерусалимского Бодуэна II, та, с которой ему суждено продолжить род и провести жизнь?
От толпы отделилась и двинулась навстречу ему невысокая девушка. Рыцарь никак не мог понять, хороша ли собой его нареченная: она прикрывала глаза ладонью от невыносимого блеска солнца на морской глади и сильно щурилась. Принцесса первой рассмотрела гостя, и ее узкие губы растянулись в улыбке. Но теперь и юноша разглядел Алису, и радость Боэмунда потухла: дева, о которой он грезил все плавание, которую представлял себе неотразимо соблазнительной и полной женской прелести, оказалась низкорослой, щуплой и плоскогрудой, а вдобавок бледной, с маленькими глазками и острым, покрасневшим на ветру носиком. Так вот ради кого он бросил в родной Апулии смуглую и пышную Бьянку?! Но новый правитель Антиохии тотчас подавил недостойное разочарование. С рождения он мечтал о грядущих подвигах на Святой земле, прозванной в Европе Заморьем-Утремером, и, достигнув восемнадцати лет, без малейшего сожаления передал все свои владения в управление папе римскому и навеки расстался не только с хохотушкой Бьянкой, но и со всеми прочими соблазнами Италии. Да за право защищать Святую землю он без колебаний жизнь отдаст! На горбатой старухе, на черте лысом он женится, если об этом просит такой герой, как король Иерусалимский! Пусть это будет его первым подвигом.
Достаточно ждала Антиохия своего законного владельца – наконец-то явился ее истинный повелитель, наконец-то его гигантские сапоги глубоко впечатались в мокрый песок.
Тридцать лет назад сирийское княжество было завоевано его отцом – Боэмундом I Тарентским, одним из предводителей Крестового похода. Византийская принцесса Анна Комнина, описывая в своих хрониках предводителей крестоносцев, отметила «решительный и ужасающий» вид этого норманнского героя. Отрадно знать, что отец испугал дочь греческого василевса. Норманнский завоеватель из рода Отвилей должен быть ужасным. Отца давно уже нет в живых, однако слава рыцаря гремит и за гробом, и ныне восемнадцатилетний Боэмунд похож на родителя как две капли воды: так же на локоть выше самых высоких людей, так же широк в груди и плечах и узок в талии и бедрах. Внук Гвискара, покорителя Италии, со стороны отца и внук короля Франции Филиппа I со стороны матери, он прибыл на Святую землю, чтобы доказать, что кровь предков-завоевателей течет в его жилах неразбавленной.
Юный князь Антиохии смело шагнул навстречу неказистой невесте и блистательному будущему. За ним линию прибоя пересекли и его воины. Набежавшая морская волна, шипя, лизнула глубокие следы рыцарей, струйки воды закрутились в оставленных сапогами выемках, одна за другой волны неутомимо захлестывали берег, ровняя мельчавшие с каждым набегом воронки, и вскоре прибрежный песок Леванта вновь лежал первозданно гладким.
С первых дней правления Боэмунд II Антиохийский боролся с врагами безжалостно и непреклонно. Когда мусульманские воины попадали в его руки, он решительно отказывался от щедрого выкупа, предлагаемого трусами, и приказывал обезглавить презренных пленников – всех до единого. Но тюрки – не единственные супротивники латинян. Всего несколько лет назад обнаглевшие армяне Киликии захватили Аназарб, по праву принадлежавший Антиохии. Ну что ж, за князем дело не станет – он докажет, что преждевременно прозвали нового киликийского царя Левона Властелином Гор.
В феврале 1130 года Боэмунд повел свою армию к Аназарбу.
После утомительного марша антиохийцы расположились на краткий ночной отдых под открытым зимним небом. Измученный Боэмунд завернулся в плащ, подложил под голову седло и с блаженством растянулся на голом каменистом склоне.
Правая рука все еще ощущала приятный холодок рукоятки меча, после целого дня в седле ноги помнили округлость конских боков, плечо продолжала оттягивать тяжесть сброшенного щита. Ночь была безлунная, только мигали в прорывах облаков далекие звезды, ветер шуршал высокими стеблями травы, еле слышно журчали в овраге стылые воды реки, фыркали кони, выли в горах шакалы. Спать в железном двойном хауберке и кольчужных штанах на мерзлой, влажной земле было неудобно, плащ не защищал от леденящего металла, но места тут дикие, отряд князя малочисленный, ставить палатки и раздеваться было бы глупой беспечностью.
Перед сомкнутыми глазами возникла белая шея Алисы, ушко, закинутые на подушку темные волосы, мучительно захотелось обнять жену, вдохнуть запах ее пряных восточных благовоний. Как быстро затмила невзрачная, но умная и непокорная Алиса сладкие воспоминания о ласковой Бьянке! В Алисе, право, сам бес сидит: княгиня, злая и упрямая, могла бы извести всех неверных в Леванте, если бы вся мощь ее свирепого норова целиком не изливалась на супруга. Эта фурия создана рожать сыновей! Правда, за три года брака на свет появилась лишь дочь, Констанция, но это не беда, они молоды и ретивы – всё впереди. А каждая ночь со строптивицей – сражение, в котором закаляется дух и ликует тело.
Однако не для того Боэмунд прибыл на Восток, чтоб воевать с женой или мирно делать с ней детей. Прогоняя неуместные тоску и похоть, князь задумался о предстоящем бое. Завтра он доберется наконец до Аназарба! Быстрым, смелым, неожиданным налетом покончит с зазнавшимся армянским царьком, даже если у того окажется в десять раз больше воинов. Посмотрим, кого после этого назовут Властелином Гор! Недаром матери от Дамаска до Багдада пугают детей именами грозных героев-крестоносцев, пора и князю Антиохийскому заслужить столь же громкую славу. А как только он расправится с Киликией – пробьет час эмиратов Алеппо и Мосула. И в следующий раз он непременно захватит набитый сокровищами Дамаск!
Измыслить бы какую тактическую хитрость для завтрашней сечи, все же солдат-то у него маловато. Но как, гвозди Христовы, застигнуть врага врасплох, если неизвестно, где именно и когда с ним столкнешься? К тому же размышлять над маневрами невыносимо скучно, все равно неприятель каждый раз умудряется спутать все стратагемы, и придуманные заранее с превеликим трудом ухищрения остаются бесполезными.
Мысли Боэмунда затуманились, князь потянулся, сладко вздохнул, сказал себе, что всякие там засады и обходы – это, конечно, хорошо, но пусть ими увлекаются трусливые слабаки, а он сориентируется прямо на месте боя. Один вооруженный рыцарь стоит ста армяшек и тысячи сарацин! Он, Боэмунд Антиохийский, твердо намерен вести себя так, чтобы при одном упоминании его имени друг вздрагивал, а враг трепетал.
Решил и с облегчением провалился в крепкий сон.
Пронзительные вопли вырвали Боэмунда из предрассветной дремы. Сердце бухнуло от знакомых до жути звуков и погнало по жилам ярость. Князь вскочил, меч сам оказался в руке. Вокруг уже вовсю кипел бой. Точнее – резня: на спящих, растерянных рыцарей налетели полчища подлых тюрков и армян, с высоты коней враги рубили, резали, кромсали полуодетых пеших франков. Убегающих сарацины преследовали, как волки овец, гнали обезумевших воинов перед собой криками, от которых заходилось сердце, а настигнув, на скаку срубали им головы.
Боэмунд рванулся к ближайшему всаднику. Меч князя длиннее тюркского, но Боэмунд был пешим, а конных врагов мгновенно возникло великое множество. Встать бы спина к спине с кем-нибудь из своих, он бы отбился, выстоял, но никто не отозвался. Князь нанес глубокую рану противнику, но удар в затылок сбил его с ног. Тут же одна стрела ужалила плечо, а вторая проткнула голень. Смуглый усатый тюрок склонился с седла – молнией сверкнуло лезвие сабли. Боэмунд не успел ни испугаться, ни прикрыться, ни крикнуть, только резкая боль, тьма и провал в небытие.
Он уже не видел, как одного за другим убивали его верных соратников, как франкских рыцарей становилось все меньше и меньше, как оставшихся в живых загнали в тесное кольцо, как последние, еле держащиеся на ногах бойцы отбросили мечи, рухнули на колени и сдались на милость неверных. Лучше бы они пали в битве.
Из вражеских рядов вылетел, подобно осе из гнезда, кургузый всадник в роскошных, ярких шелках, и вся толпа истошно заулюлюкала, заорала: «Эмир Гази! Гюмюштекин Гази!» Франкам было известно это ужасное имя – сарацинский зверь жесток и беспощаден. Гюмюштекин размахивал мечом над головой, радостно вопил: «Аллаху акбар!» и несся прямо на сдавшихся ратников. За ним, как рой демонов за дьяволом, скакали тюрки, рубя безоружных пленников на куски. Кровь захлестнула траву, отлетали руки и ноги, катились головы – один за другим падали славные рыцари и ложились на каменистую промерзшую землю уже бездыханными. Лишь души их поднимались прямиком в рай.
Когда от христианского войска в живых не осталось никого, эмир велел разыскать и подать ему голову князя Антиохийского. Несколько мамлюков поспешно соскочили с коней и бросились на поиски тела Боэмунда. Вот он, павший герой, его легко опознать по огромному росту, по великолепному плащу, по длинным белокурым кудрям. Грязные руки неверного схватили спутанные волосы, чавкающим взмахом сабли отсекли от тела тяжелую голову с замерзшим взглядом синих глаз, нанизали ее на острие копья и поднесли заклятому врагу христиан.
Костлявой рукой в драгоценных перстнях эмир брезгливо сдернул с древка кровавое подношение и довольно скривился:
–Башку забальзамировать, оправить в серебро и послать халифу в Багдад!
Гази II небрежно бросил под копыта скакуна голову прекрасного рыцаря, прибывшего три года и пять месяцев тому назад на Святую землю, дабы свершить невиданные подвиги и покрыть себя вечной славой.
Ничтожный раб нагнулся за головой – и это был последний поклон, которого удостоился на земле могущественный властелин Антиохии.
По дороге в университетскую библиотеку Ника заскочила в кафетерий гуманитарного факультета. Обычно там сидел кто-нибудь из знакомых докторантов, вечных студентов, так обжившихся в немецкой философии или в структурной лингвистике, что жизнь вне кампуса Иерусалимского университета представлялась им загробной, но сегодня ждал своего заказа только высокий светловолосый парень. Она встала за ним и машинально разглядывала красно-голубой логотип его толстовки. Внезапно парень обернулся:
–Девушка, вы любите какао? Мне вместо кофе по ошибке достался.
Ника каждый день брала эту приторную бурду, поэтому кивнула и протянула ему приготовленные деньги.
–Нет, – он отпрянул, – не могу. Пожалуйста, позвольте угостить вас.
Пока она отнекивалась и возражала, стакан сам перекочевал в ее руку, парень лепетаниям не внял, денег не взял, зато в качестве расплаты уселся за ее столик. Вежливость – это коварный мужской прием, применяемый для дезориентации и обезоруживания воспитанных женщин, так что пропала ее короткая перемена.
–Я – Итамар.
В унылом кафетерии его улыбка сверкнула солнцем в просвете туч, но все же он немилосердно использовал все преимущества, какие только можно было выкачать из подаренного стакана какао, поэтому Ника представилась очень сухо. Ей удалось его смутить.
–Ника, интуиция разведчика говорит мне, что вы тут – командирский состав. Наверное, называть вас просто по имени – это нарушать здешнюю субординацию.
Сам он тогда уже был намного моложе Ники, лет на пять-семь. С копной пшеничных волос и обветренным лицом, он больше походил на ковбоя, чем на обычных местных архивных вьюношей, давно усохших в пыли штудируемых монографий. Но ведь не поэтому Ника сделала вид, что не заметила появившуюся знакомую библиотекаршу, искавшую, к кому бы подсесть?
–Еще нет, я пока не защитилась. Еще полгода ко мне можно обращаться без пышных титулов!
–Я так и знал! – Он ударил кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. – Ну, хорошо, пока сговорились на полгода, а там посмотрим. За полгода я могу и надоесть. Я тут постигаю статистику, завоевываю степень бакалавра. Без нее лейтенанту не стать генералом.
Слово «бакалавр» он произнес с наивной гордостью, а «генерал» – как само собой разумеющееся. Наверное, эволюция позаботилась о том, чтобы такая гремучая смесь офицерской мужественности с проглядывающей сквозь нее цыплячьей беспомощной хорохористостью первокурсника губили докторанток. Вдруг его карие глаза округлились, и на лице отобразился комичный перепуг персонажа из немого фильма:
–Сейчас выяснится, что вы преподаете статистику, и весь семестр я буду страшно расплачиваться за этот треклятый какао!
Он казался смутно знакомым, но если бы Ника видела его раньше, то такого вряд ли забыла бы. Она удержалась от улыбки и подавила желание поправить волосы, но смилостивилась:
–Вы рождены под счастливой звездой: я не преподаю статистику. Я пишу бесконечную диссертацию о государствах крестоносцев и рассказываю о них первокурсникам.
Итамар изумленно покрутил головой:
–Диссертация – это круто. Но почему крестоносцы? Кому они сегодня интересны?
–Мне, израильтянке. У меня к ним интерес второй жены к первой. В двенадцатом веке именно рыцари были «солью земли», – сурово пояснила Ника и решительно попыталась отхлебнуть из уже пустого стаканчика.
–Правда? – Парень озадачился. – Вроде эти крестоносцы были жуткими сволочами, нет?
Ну что ж, неприязнь израильского офицера к крестоносцам была понятна, от многих деяний франков у израильтян на зубах оскомина.
–Во-первых, они убивали и жгли евреев, – заявил он с апломбом человека, вынесшего самое главное из курса школьной истории, – а вовторых, они умудрились потерпеть полный разгром, и мусульмане навеки изгнали их отсюда! А это неприятный прецедент.
Ника аккуратно складывала свою салфетку в крошечный квадратик и смутилась, заметив, что Итамар с любопытством следит за ее занятием. Спохватилась, зачем-то деловито расправила салфетку, вскинула на плечо ремень сумки.
–В двух словах не расскажешь. Спасибо за какао. Мне правда пора.
Будущий генерал залился краской, вскочил и взмолился:
–Ника, я что-то не то ляпнул, да? Простите! Пожалуйста, позвольте ждать вас после лекции! – Она колебалась, и он продолжал скороговоркой: – Я ведь не просто так спрашиваю, я внезапно прозрел, клянусь! А тут еще эти исламские фанатики головы отрубают! Я только сейчас сообразил, как все это ужасно поучительно, в смысле – крестоносцы, не фанатики…
Она мешкала, не уходила. Он, конечно, знал, до чего он милый, и бесстыже пускал в ход это неконвенциональное оружие. Его голос зазвенел шутовским пафосом, в золотистых глазах заиграли чертики:
–Армия обороны Израиля обязана избежать допущенных крестоносцами стратегических и тактических провалов. Вам придется поведать мне об этих ребятах во всех подробностях!
Ей бы отослать любознательного Ахилла в книжный отдел университетского «Академона» к мудрым книгам, написанным о подвигах и поражениях этих отчаянных рыцарей, а не терять напрочь собственную голову.
Книга I
Песнь о Раймонде
Откровение Иоанна Богослова
- Я взглянул, и во, конь белый, и на нем всадник,
- имеющий лук, и дан был ему венец;
- и вышел он как победоносный,
- и чтобы победить.
- ………………………
- И вышел другой конь, рыжий;
- и сидящему на нем дано взять мир с земли,
- и чтобы убивали друг друга;
- и дан ему большой меч.
Мамушка Грануш уверяла, что своеволие доведет Констанцию до несчастья. Но если бы маленькая княгиня не залезала на подоконник высокого окна замка и не высовывалась наружу, она никогда бы не увидела, как во двор замка въехала ее судьба. Правда, это ничего не изменило бы. Судьба явилась переодетой, и девятилетняя девочка не узнала ее. А к тому же все решения за Констанцию принимали ее мать, дама Алиса, и крестный, антиохийский патриарх Радульф.
Дама Беатрис постоянно грозилась, что Констанция вывалится из окна и убьется о далекие каменные плиты внутреннего двора, и тогда ей непременно влетит, но единственное оставшееся развлечение – молитвы, а надо же иногда и Констанции, и Господу Богу отдохнуть от них, особенно когда шум во дворе предвещал прибытие важных лиц.
Караульные опустили подъемный мост и торопливо распахнули тяжелые ворота цитадели, но после всех этих усилий во двор въехали всего-навсего два путника в грязных, потрепанных плащах. К ним подскочили слуги и оруженосцы, один из приезжих откинул капюшон, встряхнул длинными золотыми прядями, ловко соскочил с лошади, не глядя бросил поводья охране и решительным шагом направился к входу в замок. Высоченный, широкоплечий, он совсем не был похож на обычного паломника, да и торговые люди не держат себя так независимо и уверенно. Проходя по двору, мужчина поднял голову, встретился глазами с вывесившейся из окна девочкой, улыбнулся ей и подмигнул. Констанция засмущалась – ничего хорошего не выходило из того, что ее замечали. Поспешно спрыгнула с подоконника, и вовремя – в комнату, переваливаясь, вплыла Грануш, нянька с очень любящим сердцем и очень вспыльчивым нравом.
–Ну, неслух, вывалишься, не жалуйся мне тогда! – Грануш, пыхтя, полетела через опочивальню, бока заколыхались, коротенькие ручки отчаянно замахали, а такой сердитый взгляд мог бы удержать девочку даже в падении. Набросилась на свою воспитанницу, отряхнула ее, ощупала, запричитала, словно Констанцию уже и впрямь приходится собирать по кусочкам: – Анушикс, жизнь моя… – Убедилась, что дитя цело и невредимо, и с облегчением заворчала: – Да что же это за упрямство? Что же тебя к окну-то так тянет, несчастье мое? Хочешь грохнуться, да?!
От Грануш всегда душисто пахло шалфеем и лавандой, прикосновение ласковых рук утешало, а армянское брюзжание доказывало, что мир по-прежнему покоится на Божьей благодати и на любви преданной няньки. С тех пор как Алиса Иерусалимская – мать Констанции, вдова трагически погибшего шесть лет назад Боэмунда II Антиохийского, самовольно вернулась из приморской Латтакии в Антиохию и объявила себя правительницей княжества, челядь и придворные перестали обращать внимание на девочку, и только татик Грануш, которой никто не указ, любила свою лишенную престола звездочку с прежней силой, а следила за ней еще строже.
–Татик-джан, кто эти люди? – Когда дама Беатрис не слышала, можно было говорить по-армянски. – Почему торговых людей впустили через главные ворота?
–Какие же это торговцы, пупуш?! Это Раймонд де Пуатье, один из самых знатных рыцарей Европы. Он обрядился купцом, чтобы добраться до Антиохии незамеченным.
Мамушка Грануш, тихая, незаметная, никогда ни во что не встревала, слова лишнего не говорила, внимания ни на кого не обращала, семенила бочком по коридорам и переходам замка в глухом одеянии, из головного платка-лачака выглядывал только решительный носик, упакованный в полные белые щеки, живые, черные, любопытные глазки всегда опущены долу. При этом ей неизменно оказывалось ведомо всё, что происходит в Антиохии. Она была чуточку колдунья, хотя нет, конечно, мамушка – хорошая христианка, даром что армянка. Грануш – просто добрая волшебница. Вот только вчера, укладывая Констанцию спать, наклонилась к ее уху и таинственно прошептала:
–Анушикс, сладенькая моя, ты секреты умеешь хранить?
Констанция завороженно кивнула.
–Ты знаешь, что ты не простая девочка?
–Какой же это секрет, – разочарованно протянула Констанция. Похоже, они с няней единственные, кто еще не забыл, что она княгиня Антиохийская, дочь и внучка знаменитых героев. – Конечно, знаю. – И повелительно приказала: – Татик-джан, оставь светильник.
–Еще чего? Хочешь все спалить? Тебе на роду предопределено решить судьбу всего Заморья, – пообещала мамушка тем же уверенным тоном, каким обещала и медовую плюшку за выученный урок, и вечное спасение за прочитанные псалмы.
–Как? – Констанции стало радостно и страшно.
–Этого мы пока не знаем, аревс, солнышко мое, – призналась Грануш. – Но никогда не забывай, что именно от тебя будет зависеть Святая земля.
–А я знаю, – аревс вскочила и выложила давно продуманный план: – Когда я вырасту, я отберу свой трон у дамы Алисы, запрещу ей наказывать меня и сделаю так, чтобы смелые христианские рыцари победили всех врагов. – Подумала, не упустила ли чего важного, и грозно прибавила: – А вместо тыквенной каши все смогут есть сахар, большими ложками. И спать все будут укладываться, когда мне будет угодно.
–Так оно все и будет, – с жаром прошептала мамушка, перекрестила свою лапушку и унесла масляную лампу. А будущая повелительница осталась в темноте, одна со всеми чудовищами и страшилищами.
Но покамест не похоже, чтобы пророчество Грануш и решения маленькой принцессы собирались исполняться: неприятелей у Антиохии лишь прибавлялось, дама Беатрис, новая воспитательница, приставленная к девочке матерью, страшно трясла волосатой бородавкой и сурово выговаривала каждый раз, когда Констанция оказывалась перед ее глазами, а княжеством по-прежнему незаконно правила дама Алиса. Грануш уверяла, что Бог слышит сирот, и клялась, что, когда она, грешница, попадет на небеса, она там первым делом заступится за свою детку. Детка знала, что мамушка всегда отходила ко сну, полностью готовая встретиться с Создателем, и заступничество Констанции очень нужно, но все же пусть бы Грануш пока не торопилась, без нее на земле станет совсем плохо.
–Татик, с каких это пор отважные рыцари переодеваются в купцов?
Все знатные бароны-франки – и недавно скончавшийся дедушка Бодуэн, король Иерусалимский, да будет благословенна его память, и граф Эдесский, и граф Триполийский – всегда, как полагается рыцарям, одеты в роскошные одежды или в кольчугу, кони их покрыты драгоценными чепраками, и их сопровождает стража.
–Переодеваются, если ума больше, чем гонора…
Еще утром в замок прибыл патриарх Радульф де Домфорт, долго совещался с дамой Алисой наедине, а Констанции было строго-настрого наказано сидеть в своей каморке в башне. Что-то происходило, и почти наверняка это касалось Констанции, но ей никто ничего не объяснял. Она попыталась скрыть свой страх, только от татик никакой слабости не спрячешь.
–Лапушка моя, не волнуйся и ничего не бойся, недолго даме Алисе радоваться и ликовать! Помни, Господу угодны праведные мученики, а не торжествующие грешники!
От таких утешений девочку охватил еще больший трепет. Даму Алису теперь все, кроме армянской няньки, величали княгиней, а Констанцию стали называть по одному ее крестному имени, как безродную, и только мамушка шепотом решалась вспоминать, кто, по ее и Божьему мнению, является княгиней Антиохии, а кто – похитительницей престола.
В комнату вплыла толстая и важная дама Беатрис. Воспитательница по-армянски ни слова не понимала и потому считала этот язык варварским и княгине неподходящим. Одного этого хватило бы, чтобы Констанция ей не доверяла. А вдобавок эта волосатая бородавка на губе, и дама нестерпимо воняла камфарой.
–Констанция, княгиня велела вам читать псалтырь и не покидать своих покоев!
Все явно утаивали что-то связанное с прибытием странных путников. От Алисы можно было ждать любых обд и неприятностей. Сначала она собиралась постричь дочь в монахини, потом послала в подарок заклятому противнику всех христиан, свирепому тюрку Занги белоснежную кобылицу под попоной из серебристого шелка, с серебряными подковами и серебряной уздечкой. В придачу к кобылице мать предложила сельджукскому атабеку стать сюзереном Антиохии, а Констанцию выдать замуж за любого мусульманского властителя по его выбору, лишь бы Занги позволил Алисе править Антиохией от его имени. Про Имадеддина Занги было известно, что он напал даже на собственного мусульманского союзника и убил его сразу после того, как торжественно поклялся вместе, плечом к плечу, воевать против франков! Мамушка ворчала, что злодей, конечно, принял бы лошадку и наследницу Антиохии и наверняка наобещал бы Алисе хоть постриг принять, но верить ему нельзя. Не за любовь к дареным рысакам прозвали мусульмане грозного тюркского атабека Красой Ислама, Поборником Веры и Царем-Победителем, а за лютость и неутомимость в борьбе с латинянами. Франки, впрочем, окрестили его гораздо точнее – Сангвин, то есть Кровавый.
От незавидной судьбы в мусульманском серале Констанцию спас дедушка, немедленно бросившийся с войском в Антиохию восстанавливать права внучки. Он и перехватил посланника Алисы к Занги.
А вдруг эти внезапно появившиеся рыцари приехали забрать истинную княгиню? Недоброжелателей у маленькой наследницы Антиохии много – и атабек Занги, и византийский император, и сицилийский король, а единственный заступник, дедушка, скончался. Иерусалимский престол перешел к королю Фульку, женатому на сестре Алисы, королеве Мелисенде. Все четыре сестры, включая Годиэрну и Иовету, всегда и во всем друг друга поддерживали, поэтому, едва не стало Бодуэна, неусыпно сторожившего права внучки, Алиса самовольно вернулась из ссылки и вновь заняла антиохийский трон, а Констанция научилась не жаловаться.
Дама Беатрис плюхнулась на скамью, отдуваясь и обмахиваясь концом покрывала. Констанция покорно бормотала псалмы, лениво водя пальцем по молитвеннику, любопытное солнце, которому тоже хотелось узнать, что происходит, запустило в башню свой луч, в его свете закружилась пыль и зажужжала муха. Время от времени наглая муха присаживалась на разморенную, клюющую носом даму Беатрис. Татик почему-то внимательно следила за гувернанткой, и когда дама Беатрис принялась похрапывать, дернула Констанцию за руку, сделала страшные глаза, прижала ко рту палец, наверное, чтобы не вспугнуть муху, и поспешно потянула свою пупуш к выходу. Тихонько прикрыла за ними дверь и повернула огромный ключ на два оборота.
Дама Беатрис проснулась и принялась с криками биться в дубовую створку:
–Грануш, верните ребенка! Княгиня накажет вас за это!
–Тоже мне – «княгиня»! – Грануш опустила ключ в бесчисленные складки юбки, схватила дрожащую руку Констанции и повела девочку вниз по лестнице. Башня пустовала, и караульные еще долго не услышат вопли узницы.
На повороте лестницы Грануш придирчиво оглядела свою подопечную:
–Констанция, сердечко мое, запомни – это важно: ты выйдешь сейчас к даме Алисе и к ее гостю и будешь вести себя так, как полагается хорошей, умной и вежливой принцессе, понятно? Покажи гостю, что ты разумна не по годам!
Дама Беатрис твердила, что только неучтивое и глупое поведение Констанции заставляет даму Алису сердиться на девочку, неужели татик ей поверила? Грануш стряхнула с платья аревс следы каменной пыли, пригладила светлые волосы. Только сколько бы мамушка ни прихорашивала свою лапушку, все старания окажутся напрасны – мать обязательно придерется к чему-нибудь. Каждый раз, когда приходилось предстать перед дамой Алисой, в животе вырастал и жег противный ком, руки тряслись, сердце падало, как ведро в колодец. А тут еще она явится незваной, вопреки строгому запрету. Но раз мамушка велела, значит – надо. Констанция не смела жаловаться, однако Грануш сама заметила дрожащие пальцы, трясущийся подбородок, стиснутые губы, перекрестила воспитанницу и прижала ее к своему черному платью так, что еще мгновение – и земные страдания девочки закончились бы навеки.
–Не бойся, душа моя. С помощью Господа травинка может перерубить меч.
В главной зале на троне князей Антиохийских восседала дама Алиса.
Шесть лет назад единый взмах сарацинского меча лишил честолюбивую принцессу высокого, красивого, смелого и надменного супруга, а тем самым и антиохийского трона. С тех пор оправленная в серебро голова Боэмунда радовала потускневшими глазами лишь багдадского халифа, а юной вдове пришлось бороться за Антиохию всеми средствами.
Король Иерусалимский, отец Алисы, утверждал, что невозможно нарушить порядок престолонаследия и предпочел вдове Боэмунда его малолетнюю дочь, свою внучку Констанцию. При этом сам он не позволял никому и ничему вставать на пути своих замыслов. Из четырех дочерей покойный больше остальных любил старшую, красавицу Мелисенду, но свое королевство Бодуэн любил несравнимо больше, чем всех четверых вместе взятых: когда королю понадобился подходящий наследник, он заставил Мелисенду выйти замуж за неказистого, но могущественного графа Фулька Анжуйского, хотя принцесса любила молодого и красивого Хьюго де Пюизе. Свою младшую дочь, пятилетнюю Иовету, он оставил вместо себя заложницей в Шейзаре, и тут же без колебаний нарушил условия своего освобождения, напав на Алеппо. А едва овдовела Алиса, Бодуэн так же хладнокровно отослал ее в затхлую Латтакию – проводить оставшиеся дни в вышивании крестиком и в молитвах, пока Господь не приберет безутешную печальницу. Однако непреклонностью Бодуэна все восхищались, на его могиле у подножья Голгофы начертано, что в ней лежит надежда отечества, опора церкви и доблесть обоих, второй Иуда Маккавей, которому несли дары Ливан, и Египет, и Дан, и человекоубийственный Дамаск. О том, что Иовету после освобождения пришлось постричь в монахини, там ни слова.
Однако напрасно он ожидал, что Алиса беспрекословно уступит место на троне малолетней дочери. Понятно, что дитя не может править государством, а Констанция и вовсе странное создание. То ли дурная, то ли просто бесчувственная: всегда погружена в себя, постоянно молчит, смотрит диким зверенышем.
Дочь латинского короля и армянской принцессы, Алиса выросла в окружении вороньей стаи армянских сродственниц, кормилиц и нянек – в темных одеждах, покорных, безрадостных, с поджатыми губами, с осуждающими глазами, шепчущих, семенящих, вздыхающих, редко покидающих внутренние покои, ничего, помимо молитв и сплетен, не разрешающих ни себе, ни друг другу, ни принцессам. С детства принцесса мечтала жить иначе, поступать по собственной воле и заставить остальных повиноваться себе. И теперь, когда грозный отец скончался, упокой Господь его грешную душу, а огромное армянское население княжества признавало Алису, дочь армянской принцессы Морфии, полномочной правительницей, уж конечно не слабоумной Констанции отнять трон и надежду на новый, счастливый и выгодный брак! Пусть у Алисы не было армии рыцарей, готовых скакать за ней в любую сечу, зато она умела принимать взвешенные решения и всегда находила возможность привлечь людей на свою сторону с помощью подкупа, убеждения или хитрости. Что с того, что ее голова не такая красивая, как у покойного супруга, если она по-прежнему на плечах? Юным вдовам присуще особое очарование, если, конечно, они не прозябают забытой тенью в какой-нибудь захолустной Лаодикее, а правят богатым княжеством.
Терять ей было нечего. В этой стране каждый получал только то, что он мог вырвать у других. Если на все говорить: «Аминь», – придется молиться исключительно за чужое здравие.
Дама Алиса хоть и приоделась в парадную пурпурную далматику с широкими рукавами и подолом, расшитыми золотой вязью, но, даже выряженная и на княжеском престоле, она больше смахивала на лису, чем на благородную правительницу, такое у нее узкое личико, торчащие скулы и глубоко сидящие беспокойные глаза. И все-таки ее боялись все, кроме Грануш. Констанция тоже боялась – мать злая и взрослая, силой с трона не стянешь, – только она скорее умерла бы, чем показала свой страх.
Алисе на ухо что-то тихо, но с жаром толовал толстый патриарх Радульф де Домфорт. Констанция никогда не поверила бы противному, чванному иерарху, а мать, постоянно сердитая, всегда недовольная придворными и жестокая к слугам, на сей раз умиротворенно улыбалась и согласно кивала. Нахмурилась, лишь когда заметила дочь:
–Что она здесь делает?! Где эта дурища Беатрис?
–Ваша милость, даме Беатрис занедужилось. Я привела представить вашу дочь гостю, – Грануш подтолкнула упирающуюся Констанцию вперед.
Ком в животе противно пух, сердце колотилось.
–Много себе позволяешь, Грануш, – с угрозой начала Алиса, но патриарх вмешался:
–Оставьте, дочь моя. Оно и к лучшему. Пусть Раймонд де Пуатье сам убедится, что девочка мала и слаба разумением.
Слышать такое было обидно. Констанция хотела возразить, что умеет читать, писать, красиво вышивает и очень хорошо разумеет, когда ее оскорбляют, но не посмела. Впрочем, патриарх и сам все это знал, но почему-то обратился к Констанции громко и отчетливо, как к глухой:
–Дитя мое, у нас радостные новости! После тяжкого, полного опасностей пути в замок только что прибыл шевалье де Пуатье, сын герцога Гильома Аквитанского. – Значит действительно, красивый всадник никакой не купец, а переодетый рыцарь! – Он прибыл к нам по приглашению короля Фулька, чтобы сочетаться браком с ее светлостью, – патриарх указал на Алису, – и помочь нам укреплять и отстаивать Антиохию.
Констанция стиснула руки за спиной. Отстаивать и от нее, от Констанции. Мать отобрала княжество, и если король Фульк, до сих пор не признававший правления Алисы, вдруг вызвал ей на подмогу жениха из Европы, то надеяться больше не на что. Навсегда потеряна Антиохия для истинной хозяйки!
–Мы позаботились и о вас, дорогая дочь, – подхватила Алиса, и в ее резком голосе послышалось торжество, – наше посольство отбыло в Византию с предложением выдать вас замуж за сына греческого императора – за Мануила Комнина.
Византия?! Лучше, конечно, чем оказаться навеки замурованной в мусульманском гареме, но все же ужасно – Византия так далека, и пусть греки считают себя наследниками Римской империи, на самом-то деле они просто никуда не годные схизматики. К тому же византийский император всегда был неприятелем князей Антиохийских, он уверял, что крестоносцы еще сорок лет назад обещали вернуть ему город, как только отвоюют его у сельджуков, и не уставал угрожать княжеству. Констанция упорно изучала плитки пола. Пусть будет Мануил. У его отца, василевса Иоанна, большая и сильная армия, и, если Констанция попросит, император, конечно же, отберет княжество у Алисы.
–Ваш гость в саду, дочь моя, – умильно напомнил даме Алисе патриарх.
–Констанция, придется представить вас шевалье. Да не стойте вы так! Выпрямитесь! Полюбуйтесь на это убожество, ваше высокопреосвященство!
Вид дочери всегда раздражал мать, за это каждый раз влетало и девочке, и ее воспитательницам. Но сейчас даме Алисе было некогда злиться вдоволь, она поспешила навстречу гостю. Констанции полагалось тащиться вослед, и она нарочно начала загребать ногами, поднимая на садовой дорожке облака пыли. Долго стараться не пришлось: Алиса обернулась и изо всей силы хлопнула дочь по щеке:
–Ну что за наказание! Иди как человек, дрянь!
Она брезгливо отряхнула бархатную далматику, а Констанция невольно схватилась за щеку, которую словно огнем ожгло, такая хлесткая рука у матери. Грануш сзади только охнула, но хуже всего, что за секунду до оплеухи из-за кустов жасмина вышел тот самый незнакомец, который подмигнул Констанции со двора. Он, конечно, успел заметить постигшее девочку наказание, даже сурово нахмурил брови, видно, он тоже был ею недоволен, но тотчас же лицо рыцаря приняло любезное выражение, и гость галантно склонился перед драчливой дамой Алисой. Констанции стало стыдно и обидно. Можно делать вид, что ничего не произошло, но щека продолжала гореть, и на ней наверняка пылало позорное красное пятно. Констанция уставилась вверх и заморгала, чтобы остановить слезы. Каждый может увидеть, как ее ударили, но она никому не позволит заметить, как ей страшно, больно и обидно.
Жених оказался высоченным, стройным и довольно пригожим. Все равно Констанции он был противен. Впрочем, ее мнением никто не интересовался.
–Ваше сиятельство Раймонд де Пуатье! – радостно воскликнула Алиса, забыв о дочери. – Приветствуем вас в Антиохии! Какое счастье, что вам удалось прибыть к нам, избежав всех опасностей!
Голос у Алисы тек медом, как будто это не она только что ударила дочь. Но Констанцию никто не смог бы заставить улыбнуться. Пока дама Алиса пребывала в Латтакии, все обращались с ее светлостью княгиней Констанцией очень почтительно, а едва мать вернулась, и маленькая и беззащитная Констанция немедленно всем разонравилась.
Манерно изогнувшись, дама Алиса присела на каменную балюстраду старого фонтана, любезным жестом пригласила рыцаря приблизиться. Констанция не смела уйти, поэтому встала поодаль, чтобы оставаться незамеченной, но Раймонд де Пуатье обернулся и почтительно поклонился ей:
–Мадам, я догадываюсь, что эта прекрасная молодая особа – ваша дочь, княгиня Констанция?
Алиса страдальчески возвела глаза к небу:
–Не столько прекрасная молодая особа, сколько вредная дурочка, способная вывести из себя святого!
Стало стыдно, что мать так представила ее своему жениху. Констанция была уверена, что она не вредная и не дурочка. Возможно, рыцарь догадался об этом, потому что, несмотря на слова Алисы, снова обратился к девочке учтиво и серьезно:
–Дорогая принцесса, я прибыл в Левант из далекой северной страны Англии. – Констанция сухо кивнула, она знала такую страну, каноник Мартин и мать настоятельница Анна обучали ее многим наукам, и она была прилежной ученицей. – По пути сюда мы с моим спутником, отважным госпитальером Агерраном Гербарре, преодолели бесчисленные препятствия и преграды ради того, чтобы послужить святому делу христиан в земле Воплощения. Возьмете ли вы меня в свои рыцари и защитники?
Алиса непривычно жеманно захихикала:
–К сожалению, мессир, она не в состоянии понять вашу учтивую речь.
Если бы рыцарь в самом деле собирался стать защитником Констанции, ему стоило бы начать с того, чтобы запретить матери драться и говорить обидные, лживые слова, но сказать это вслух принцесса не посмела. Поэтому она молчала и только глядела на гостя глазами цвета голубиного оперения. Зато не затихал неестественно высокий, пронзительный голос Алисы:
–Ах, мессир, слава о вашей отваге и верности дошла из Европы до наших диких краев. Ваше прибытие – истинное чудо и счастье для нас!
Алиса небрежно отодвинула дочь в сторону и пересела поближе к гостю, который упорно продолжал стоять. Констанция отошла в тень. Было бы легче, если бы все совершенно забыли о ней и красивый шевалье обращал бы внимание только на лебезящую перед ним невесту.
–Я потрясен защитными укреплениями Антиохии, – пробормотал гость и, явно смущенный, отступил на шаг от Алисы. Констанции стало противно, что властная и гордая мать заискивает перед этим мужчиной, но та не замечала сдержанности Пуатье.
–Увы, мессир, мы в них постоянно нуждаемся! Вы скоро убедитесь, что у слабого в Леванте нет друзей ни среди армян, ни среди греков, ни среди латинян. От Иоанна Комнина и до Имадеддина Занги – кругом одни недруги и сплошное предательство!
Рыцарь почему-то смешался и уставился себе под ноги. За спиной Алисы, в кустах, уже давно маячила Грануш, она упорно подавала Констанции странные знаки, точно призывая девочку принять участие в беседе. Понукаемая настойчивыми жестами мамушки, Констанция выдавила из себя:
–Поэтому хорошо, если к нам прибывают люди благородные…
–Помалкивайте, дочь моя, вы-то что в этом понимаете?! – быстро перебила ее Алиса, как будто Констанция сморозила ужасную глупость.
А приезжий покраснел и пылко воскликнул:
–Теперь все будет иначе. Я клянусь действовать по чести, восстановить рыцарские добродетели и защищать справедливость! Я жизнь отдам, чтобы оградить Антиохию от любых поползновений!
Голос Раймонда де Патье звучал искренне, но хоть рыцарь и был прекрасен, как герои баллад, он врал. Разве жених не знал, что настоящая правительница княжества – Констанция? Почему же, вместо того чтобы напрямик заявить это Алисе, он принялся рассказывать, как буря отнесла его корабль к самым берегам враждебной Сицилии, и ему с Агерраном пришлось прикинуться паломниками? Констанция вовсе не интересовалась его приключениями, а вот гость ею почему-то очень интересовался, она постоянно ловила на себе его взгляд. Алиса нахмурила насурьмленные бровки, любезность съехала с ее личика, как незавязанный чулок, и она вновь выглядела, как всегда, – так, как будто у нее только что украли кошель:
–На Антиохию много желающих, Рожер Сицилийский – один из них, но никто из них не способен заботиться о княжестве и управлять им так разумно, как я. Меня поддерживают все бароны севера и все жители княжества! Мое правление служит всеобщему благу!
Констанция думала иначе, но ничего не сказала, только бросила осторожный взгляд на гостя. Понял ли он, что и ему мать никогда не позволит сесть на красивый трон на помосте? Гость стиснул зубы, но тоже промолчал. Оказывается, даже такой огромный и сильный рыцарь опасается дамы Алисы.
Солнце заглядывало сквозь виноградные лозы, шелестели ветвями кусты рододендронов, шпалеры бугенвиллий обрамляли аллеи, цвели и благоухали пышные розы, летали пчелы, порхали бабочки и колибри, щебетали птицы, распускал пышный хвост вредный павлин, сверкали в фонтане расплавленным золотом юркие рыбки. Одна Констанция никого не радовала.
Алиса положила хлесткую ладонь на рукав гостя, доверительно приблизилась к нему еще ближе и прошептала, брызгая слюной:
–Ах, мессир, до сих пор король Фульк противился моему регентству. Патриарх потряс меня, сообщив, что Фульк лично призвал вас в Утремер и предложил нам соединить наши судьбы! Наконец-то отрадный жест со стороны Иерусалима! Видит Бог, эти годы были нелегкими для меня.
Прерывисто вздохнула, прикрыла глаза ладонью и качнулась в сторону рыцаря, словно ожидая, что тот поймает или обнимет ее, но Пуатье только насупился и снова зачем-то оглянулся на Констанцию. Девочка пожала плечами и отвернулась. Да, рыцарь казался учтивым, у него был смелый взгляд и гордая манера держаться, а все-таки он явился сюда для плохого дела – забрать Антиохию у законной владелицы. Нет, она не станет смотреть на него!
–О, Раймонд, – мать уже называла гостя по имени, – если бы вы знали, как тяжко приходится женщине в Заморье! Поверьте, было множество желающих сочетаться со мной браком, но я поклялась, что не отдам княжество и собственную судьбу в недостойные руки!
Алиса обожала рассказывать, как к ней безуспешно сватались разные замечательные рыцари. Констанция подозревала, что некоторые из них даже не ведали об этом своем деянии и о полученном ими отказе. Зато она знала, что мать сначала точно так же была очень любезна с шевалье де Грассе, а потом внезапно возненавидела его, отослала злосчастного кавалера служить в гарнизоне отдаленной Апамеи и запретила упоминать его имя. Однако Констанция не станет предупреждать Пуатье о неверности и коварстве матери. Спроси ее рыцарь с самого начала, она бы отсоветовала ему жениться на вечно сердитой Алисе, а теперь пусть разбирается с ней, как знает.
Видимо, он уже и сам был не рад, потому что только хмуро пробормотал:
–Мой долг – следовать советам короля Иерусалима.
Не такой уж он отважный и могучий, каким кажется. Но Алисе слова шевалье явно пришлись по душе, она вскинула ласковый взгляд на суженого и нежно улыбнулась ему. Было заметно, что она старалась не слишком широко раскрывать рот. В двадцать шесть лет – мать зачем-то сбавляла себе три года, как будто три года могли спасти от такой старости! – у нее уже не хватало нескольких зубов. До чего же оба были противны ей – и жених, и невеста!
Когда гость опять взглянул на нее, Констанция не выдержала: вскинула голову, презрительно отвернулась от него и сразу спохватилась, что Алиса заметит ее нелюбезность к важному гостю. Однако матери было не до нее, она не сводила умильного взора с жениха и ласково грозила ему пальчиком:
–Советам короля следовать приятнее, если они совпадают с велениями сердца…
Чем суровей вел себя с Алисой Раймонд, тем настойчивей та заглядывала в его глаза, тем чаще дотрагивалась до его руки, тем просительней звучал ее голосок. А Констанцию учили, что женщина должна быть скромной и недоступной! Наверное, молодой рыцарь тоже ожидал большей сдержанности от своей невесты, потому что явно смешался, но быстро нашелся:
–Теперь, когда я вижу вас воочию, приказания короля Фулька полностью совпадают с моими пожеланиями, ваша светлость.
Дама Алиса снова льстиво, противно растянула губы, а гость подмигнул Констанции:
–Милая Констанция, позвольте мне начать мою службу Антиохии с того, чтобы поймать вам рыбку!
Констанция только пожала плечами, она твердо решила не поддаваться на почтительность шевалье. Раймонд засучил рукава и принялся с воодушевлением ловить в бирюзовой воде фонтана золотые мелькающие тельца. Рыбки были проворнее, но он не сдавался, хотя замочил до плеч рукава шемизы и забрызгал нарядный малиновый котт. Дама Алиса следила за его попытками и неестественно, тоненько хихикала, и даже Констанция невольно улыбнулась. Шевалье тут же решительно перемахнул через каменную ограду прямо в фонтан и принялся гоняться по водоему за прыснувшими врассыпную карпами, поднимая столько брызг, что в воздухе повисла радуга. Констанция не собиралась помогать ему, но одна рыбка подплыла прямо к ней, она невольно попыталась схватить ее и замочила рукава. Испуганно оглянулась на мать. Против обыкновения, Алиса не сердилась, а тоже смеялась, стряхивая капли и жеманно закидывая голову. Наконец Раймонд торжествующе ухватил добычу и победно замахал ею, но золотое тельце выскользнуло и плюхнулось обратно в воду. Констанция не удержалась и расхохоталась. Алиса обняла дочь и поцеловала в щеку. Мать сделала это, только чтобы понравиться жениху, поэтому Констанции был неприятен ее поцелуй. Девочка отошла в сторону и незаметно вытерла щеку о плечо.
Во время ужина Раймонд поднимал кубок за кубком во здравие княгини Антиохийской, но при этом упорно смотрел на Алису. Констанция твердо решила не обращать внимания на недостойного рыцаря, выпила чашу теплого, душистого вина с гвоздикой и корицей и задремала, подложив под голову руки. Уже сквозь сон донесся привычно раздраженный голос матери:
–Ну что за безобразие! Зачем было сажать ребенка с нами! Анри, отнесите ее в кровать! Грануш, уложи ее! Я с тобой завтра разберусь. На этот раз ты себе слишком много позволила…
Сильные руки воина подхватили Констанцию, продолжая дремать, она положила голову на плечо своего телохранителя, как всегда пахнущее кожей и конюшней. Сейчас ее положат в кровать, и можно будет уплыть в сладкий сон, если, конечно, татик пожалеет и не заставит молиться. Но вместо мерного подъема по ступеням она ощутила порыв свежего ветра и терпкий запах полыни. Констанция вздрогнула, подняла голову: дрожащий свет факелов метался по камням внутреннего двора, Анри отвязывал коня, а через двор, колыхаясь грудью, животом и боками, к ним спешила Грануш.
–Анри, куда ты тащишь меня?
Мамушка усердно моргала и отчаянно прикладывала палец ко рту. Констанции стало страшно. Куда ее уносят из замка? Она закричала, уперлась в грудь Анри и попыталась освободиться, но Анри, родной Анри, который всегда позволял ей кормить своего пегого Корунда и рубить крапиву своим гигантским мечом, зажал ей рот большой ладонью, пахнущей железом и навозом:
–Тихо, тихо, ваша милость, ни слова, я везу вас к патриарху!
Татик согласно замахала головой, щеками и руками. Неужели ее Грануш заодно с патриархом?! Но Радульф де Домфорт ведь поддерживает даму Алису! Тысячу раз сама няня твердила: «Пупуш, будь осторожна! Анушикс, не отходи от стражи! Никогда не выходи из замка!» Что делать?! Констанция забилась, стала отдирать вонючую лапу Анри, но конюший быстро замотал ее в колючий плащ. Ее охватил настоящий ужас, она закричала, но вопл тонули в толстой шерсти. Анри вскочил на коня, перекинул сопротивляющуюся Констанцию через луку седла и, удерживая пленницу железной рукой, пустил Корунда в галоп. Раздался скрип распахиваемых ворот, стук копыт по дереву опущенного моста. Корунд куда-то мчался бешеным аллюром. Под непроницаемым плащом было душно, и как ни билась Констанция, соскользнуть с коня ей не удавалось. Вдруг ее убьют? Или продадут в плен? Нет, нельзя падать духом! Она будет как святые Урсула и Катерина! Боже, Иисус Христос, Пречистая Дева, помогите и спасите княгиню Антиохийскую! Не дайте погибнуть и пропасть безвинной княжеской душе!
Анри хрипло прокричал:
–Ваша светлость, доверьтесь мне! Мы спасем вас!
Спасут? От кого? Перехватило дыхание, сердце отчаянно колотилось. Когда она уже почти задохнулась от ужаса и от набившегося в рот затхлого сукна, Господь услышал моления своей овечки: скакун наконец остановился, Анри соскочил с седла, поставил Констанцию на землю и скинул тяжелую ткань. Она оказалась перед порталом собора Святого Петра.
–Ваша светлость, – Анри учтиво склонился, заглядывая девочке в глаза, – не бойтесь, ради бога, все будет хорошо. Я не предатель, мы привезли вас сюда по приказанию патриарха!
Констанция изо всех сил старалась не выдать свой страх. Анри схватил ее за руку и потащил к входу в храм. Дрожа от прохлады и волнения, девочка вынужденно побежала за ним. Туфли потерялись, босые ноги ощутили холод каменных плит, по колоннам и стенам вокруг метались зловещие тени. Из глубины нефа навстречу им спешил толстый Радульф в сверкающей золотом митре, на ризе драгоценными камнями переливался паллиум. Патриарх тоже повел себя странно – протянул к Констанции жирные руки, унизанные перстнями, и непривычно ласково забормотал:
–Дорогая княгиня! Какое счастье, что вам удалось вырваться из замка! Я освободил вас, дабы исполнить волю Иерусалимского короля!
Позади с грохотом настежь распахнулись двери храма, и в собор ввалился отряд вооруженных ратников во главе с огромным рыцарем. Тяжелая поступь воинов гулко отдавалась по всему пространству базилики, черные тени дьявольски плясали по приделам, свечи и факелы мигали от порывов ветра, словно в святилище ворвалась нечистая сила. Констанция так испугалась, что не выдержала и бросилась за необъятную спину патриарха:
–Не смейте, не смейте, не трогайте меня!
Радульф, пыхтя, пытался изогнуться и поймать ее, но девочка с бешенством отчаяния выдиралась из потных рук прелата, царапалась, даже укусила его за отвратительный палец. Патриарх взвыл от боли, но все же удержал Констанцию, бьющуюся как конь, на которого ставят клеймо, и крикнул приближавшемуся великану:
–Раймонд де Пуатье! Убедитесь, я сдержал свои обещания! Помните и вы свою вассальную клятву! Вот она, Констанция Антиохийская, – ваша невеста!
Невеста? Констанция – невеста?! В огромной фигуре главаря страшной банды она признала аквитанского рыцаря. Но ведь его невеста – дама Алиса!
Пока патриарх душил Констанцию левой рукой, правую он протянул тыльной стороной Раймонду. Рыцарь опустился на одно колено и приложился к перстню архиепископа. Все еще коленопреклоненный Пуатье поднял голову, ласково улыбнулся маленькой пленнице и подал ей свою ручищу. Патриарх ослабил цепкий захват. Констанция дрожала, но не стала молить о пощаде. Что бы с ней ни сделали, она – истинная княгиня Антиохийская, дочь героя, и не проявит недостойного страха и слабости. Она будет вести себя доблестно и мужественно, как святая Урсула! Констанция отважно уставилась на рыцаря: сквозь слезы он виделся в радужном сиянии. Учтиво склонив голову, шевалье смотрел на нее так, как будто это она большая и сильная, а он собирается просить ее о чем-то. Констанция знала, конечно, что не одна физическая мощь решает, кто из людей главнее: слабая дама Алиса повелевала всеми антиохийскими ополчениями, – но перед ней, Констанцией, до сих пор еще никто никогда не стоял на коленях, никто не глядел на нее умоляюще. Разве что Грануш, когда уговаривала доесть отвратительную тыквенную кашу. Голос рыцаря тоже звучал ласково:
–Констанция, девочка моя, простите, что мы напугали вас, но ваша мать никогда не вернула бы престол добровольно! С первого вашего слова я убедился, что вы умная, добрая и хорошая принцесса! Мне и вашим верным слугам пришлось освободить вас тайно.
Он выглядел совсем как святой Георгий, в свете факелов сверкали под густыми бровями глаза, длинные светлые волосы спускались на широченные плечи, но только этим утром шевалье был женихом матери и обещал защищать Алису! Констанция молчала, она уже запуталась, кто ей друг, а кто – враг.
–Король Фульк прислал меня в Антиохию с наказом жениться на вас, милая княгиня, а вовсе не на вашей матери, но мы были вынуждены действовать хитростью, иначе дама Алиса помешала бы нам. Я ваш жених с согласия короля и патриарха, поверьте мне.
Значит, дама Алиса пыталась забрать у нее жениха так же, как раньше забрала и все остальное? И все же рыцарь обманывал мать, это нехорошо. Что же ей делать? Констанция оглянулась на Радульфа, тот еще задыхался, но уже снова принял важный вид и, кивая растрепанной в схватке бородищей, подтвердил:
–Да, дочь моя, именно таков был мой и королевский план. Благодаря нам все замыслы вашей матери расстроились, и впредь всё пойдет в соответствии с божественной и человеческой справедливостью.
Сердце Констанции по-прежнему колотилось, но больше не от страха. Раймонд протянул ей теплую, сухую и приятно шершавую огромную ладонь. И этот чудесный, взрослый воин предпочел ее красиво одетой, взрослой Алисе! Наверное, еще днем, увидев, что мать дерется, он понял, что Алиса – негодная женщина! От смущения Констанция по-прежнему не знала, что сказать. Молчание так часто спасало от материнского гнева и наказаний, что и сейчас она только слушала, как стоящий перед ней на одном колене рыцарь уговаривал ее:
–Дорогая моя Констанция, готовы ли вы взять меня в мужья и защитники? Ради вас я оставил Европу и пересек полмира. От вашего решения зависит моя судьба.
Впервые за всю долгую девятилетнюю жизнь Констанции взрослый, сильный рыцарь умолял ее выйти за него замуж. Еще вчера ей указывали, что делать и когда идти спать, ее притащили сюда босую силком и обманом, а теперь ей приходилось решать судьбу всего княжества и этого могучего пуатевинца? Ах, страшно представить, что сделает с ней дама Алиса, когда проведает о случившемся! А все же отрадно было узнать, что красивый шевалье, оказывается, приплыл в Антиохию ради нее. Дама Алиса по справедливости наказана за свою драчливость и за то, что отобрала трон!
Патриарх попытался вмешаться, он привык приказывать неразумной отроковице, но Раймонд предостерегающе поднял руку и сказал сердечно и уже совсем серьезно, как взрослой:
–Это не шутка, Констанция, это между нами на всю жизнь. Вы никогда в этом не раскаетесь, прекрасная принцесса. Я буду терпеливо ждать, пока вы повзрослеете, я буду верным и любящим мужем, справедливым сувереном для Антиохии, стойким защитником княжества и достойным слугой милостивого нашего Господа Иисуса Христа.
Он осенил себя широким крестом. Все столпились вокруг и молча смотрели на нее. Как замечательно и удивительно, что Раймонд де Пуатье сразу понял, что настоящая княгиня совсем не Алиса, а она, Констанция, и что она вовсе не дурочка. Обмануть такую коварную и злую женщину, как Алиса, – не грех. Если такой доблестный и благородный рыцарь был вынужден сговориваться с патриархом, значит, только так он мог восстановить справедливость, только хитрость могла помочь восторжествовать ему, как Иакову над Лаваном. Виновата оказалась сама Алиса. А послушной и доброй Констанции Пуатье будет верным защитником. Ей не придется выходить замуж за греческого императора и уплывать в чужой, далекий Константинополь. Она станет замужней дамой, наконец-то станет взрослой. Мать больше никогда не сможет наказывать ее.
И Констанция решилась. Пусть Алиса гневается, княгиня отдаст свою руку аквитанцу, чтобы навсегда избавиться от страха и обид. Медленно, с достоинством, она кивнула, но рыцарь разрушил всю тожественность обручения: захохотал, хлопнул себя кулаком правой руки в ладонь левой, подхватил свою маленькую невесту, поднял и закружил прямо посреди церкви.
–Какая ты хорошая и славная девочка, Констанция!
Ей было неловко в его объятиях, но Пуатье смеялся так заразительно, что ей самой стало легко и весело. Теперь сердце билось от одной радости, и задыхалась она лишь потому, что Раймонд слишком раскружил ее. Наконец кто-то, и не просто кто-то, а самый дивный рыцарь на свете, увидел, какая она на самом деле! И она ему так понравилась, что он решил жениться на ней. Теперь всё всегда будет хорошо. Отныне она навеки в безопасности!
Патриарх прервал дурачества:
–Ваше сиятельство, поторопим венчание!
Жених заметил, что Констанция босая, подхватил ее на руки и понес к алтарю. Когда рыцарь бережно опустил юную княгиню на каменный пол, ее нога оказалась на его гигантском сапоге. Какой крохотной и узкой выглядела ее ступня на его ботфорте! Констанция не решалась отпустить его ладонь, и он не забирал ее. Приятно было осознавать, что теперь эта огромная рука будет поддерживать ее везде и всегда. Раймонд Пуатье стал ей близким и дорогим.
Храм заполнили ополченцы из гарнизона Антиохии, перешедшие на сторону легитимной власти. Среди толпы она заметила верного Анри и узнала Агеррана – рыцаря, приехавшего в Антиохию вместе с Раймондом. Тот уже был не в потертом шерстяном сюрко торговца, а в длинной черной мантии госпитальера с нашитым на нее белым крестом. Не хватало только мамушки. Неужто старую няньку забыли в замке, и она не сможет присутствовать на венчании своей звездочки, своей голубки?! Нет, конечно. Скорее солнце не взойдет, чем задыхающаяся Грануш не проберется к аналою и не будет все время церемонии растроганно вздыхать, вытирать глаза, сморкаться и делать настойчивые знаки пупушу поправить волосы и одернуть платье. Вот теперь Констанция была полностью уверена, что поступила правильно. Если татик одобрила, можно не сомневаться, что все происходящее свершилось с Божьего соизволения и на благо анушикс.
Брак Констанции Антиохийской и Раймонда де Пуатье был заключен патриархом в главном храме Антиохии, основанном святым Петром, в котором проповедовали Петр и Павел, где было написано Евангелие от Матфея.
Когда новобрачные вышли из собора, торжественно били колокола, над башнями цитадели занималась заря, собравшиеся на площади ратники антиохийского гарнизона восторженно приветствовали своих законных повелителей. А самое главное – Констанции не пришлось столкнуться с разгневанной матерью. Этой же ночью по приказу короля Фулька верные патриарху солдаты выпроводили Алису из города. У той не осталось ни власти, ни сторонников, ни завидных владений, и, как полагается дочери короля и вдове героя, ей было определено достойно, тихо и незаметно жить в удаленной от Антиохии Латтакии. Болтали, что, покидая город, обманутая мать прокляла Констанцию, посулив ей свою судьбу, но даже если такие противные Господу слова и были сказаны, татик Грануш наверняка снимет наговор.
После венчания последние сторонники мятежной Алисы сложили оружие.
Северо-восточный сосед – Жослен II де Куртене, граф Эдесский, до сих пор поддерживал Алису. Их роднило армянское происхождение: мать Жослена принадлежала к семье киликийских царей Рубенидов, а матерью Алисы была Морфия из рода Мелитенов. А к тому же Алиса умела быть уступчивой и щедрой к тем, кто был готов поддерживать ее шаткие права. Но выступать против несомненного властителя, вполне способного защитить свой трон, было бы бессмысленно и вредно, а граф Эдесский придерживался железного правила – никогда не действовать самому себе во вред.
Сосед Антиохии с юга – Понс, граф Триполийский, сын легендарного предводителя Великого крестового похода, наоборот, являлся великим умельцем рубить под собой любой сук. Понс успел переругаться с Иерусалимским королевством и не пришел на помощь графству Эдесскому при нападении сельджуков. Рознь дошла до того, что войску Утремера пришлось выйти против него – франкского барона! – на бой, и граф Триполийский был разбит. С тех пор сирийские правители защищались каждый сам по себе и единодушны остались лишь в противостоянии верховной власти Иерусалимского королевства. Но даже вздорный Понс признал новоиспеченного владельца княжества.






