Железные франки Шенбрунн-Амор Иария
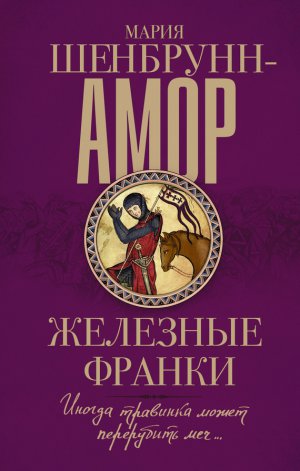
Княгиня преподнесла возлюбленному супругу легкий и гибкий меч непревзойденной дамасской ковки с инкрустированной рубинами и гранатами рукоятью. Ножны меча были сделаны из прочной, вываренной в воске кожи, с выдавленными на ней геральдическими лилиями. Князь покрыл плечи жены переливающейся малиновой мантией, подбитой царским мехом горностая. Богатые дары были отосланы в Иерусалим и получены из столицы.
Все ели и пили, пели и танцевали, от всей души веселились и разошлись уже под самое утро, когда за столом не осталось никого достаточно трезвого, чтобы внятно произнести здравицу за Спасителя рода человеческого. Пиршественными остатками до отвала насытились егеря, охранники, челядь и собаки. Хлеб вынесли нищим.
Обитатели замка крепко спали счастливым пьяным сном, когда в Антиохию на загнанном коне примчался эдесский барон Симон де Мельфа. Симон хромал, по грязному, исхудавшему лицу и седой бороде текли пот и слезы. Рыцарь скакал всю ночь и привез жуткие вести. Имадеддин, уже месяц осаждавший Эдессу, в эту ночь город взял. Все горожане – мужчины и женщины, дети и старики, даже монахи – доблестно защищали укрепления, но сельджуки умудрились подкопаться под крепостную башню и обрушить ее. За рухнувшей кладкой обнаружилась новая, спешно возведенная горожанами, и тюрки сначала разразились воплями разочарования, но тут же увидели, что новая преграда еще не достроена, и ринулись в пролом, как вода в щель корабельной обшивки. Эдессцы мужественно сопротивлялись, однако тюрки порубили их великое множество и ворвались в город по груде тел.
Раймонд слушал Симона сидя, уставившись в землю, опершись локтями на расставленные колени, сцепив на затылке побелевшие в костяшках пальцы. Констанция не решалась дотронуться до сгорбившихся под льняной рубахой широченных плеч. В памяти, подобно гадюке под камнем, шевельнулось воспоминание о том, как она утаила от Пуатье помощь Жослена в изгнании василевса из Антиохии. Она непременно исповедуется и смиренно примет любую епитимью. В тот раз Раймонд поссорился с Жосленом, но та ссора оказалась далеко не последней. Жослен постоянно громогласно обвинял Раймонда, что тот совершает ошибку, нападая на армян и противясь Византии. Сам Куртене без стеснения искал себе опору отовсюду, помимо Антиохии, а рисковать княжеством ради неверного, непокорного вассала противоречило всем представлениям Пуатье о справедливости и правильном устройстве мира.
–Армяне мужественно защищали стены, но разве могут армяшки заменить настоящих рыцарей! Когда рухнула стена, толпа бросилась в цитадель спасаться, но ворота цитадели оказались запертыми по приказу патриарха, и многие тысячи были затоптаны в давке. Кровавый исполнил свою угрозу – не пощадил ни слабого, ни праведного… Взял цитадель и казнил всех франков… Патриарха тоже, и прочих духовных лиц. Из всех христиан в живых оставил только армян, греков и сирийцев-якобитов.
Симон задыхался, закрывал глаза, мотал головой, рвал рукой ворот, не в силах избавиться от страшных картин резни.
Раймонд медленно опустил руки, поднял искаженное лицо:
–Проклятый Жослен! Сначала этот трус помчался защищать артукидскую собаку, а потом отсиживался в Турбесселе?! – Пуатье вскочил, грохнув табуретом, заметался по зале, как лев в клетке. – На что он рассчитывал?! Вот пусть теперь его Кара-Арслан и выручает! Преступник! Изменник!
Князь бил и крушил все вокруг в бессильной злобе. Цепь рвется в самом слабом звене, но несгибаемым железным звеньям от этого не легче. Как устоять? Что делать?
Никогда еще Утремер не терпел столь ужасной потери. Впервые с отвоевания Заморья в руки проклятого племени попал оплот, принадлежавший христианству еще в апостольские времена, город, в котором захоронен святой Фома.
Во главе Эдессы Занги поставил якобитского патриарха Василия. Жослен, правда, укрепил оставшийся в его руках Турбессель и все еще надеялся освободить свою столицу. С упорством одержимого, он по-прежнему рассчитывал при этом на своих никчемных армян: Раймонду безумец заявил, что больше не признает его своим сюзереном, рвет с ним все вассальные связи, не ждет от Антиохии никакой подмоги и сам ей никогда больше никакой помощи не окажет.
За Куртене оставалось только молиться, а о потерянном франками графстве – рыдать, как о разрушенном храме Иерусалимском.
Самое поразительное, что весной верное Куртене армянское население действительно восстало, хоть они и были людьми торговыми и к военному делу пригодными не больше, чем подушка для драки. Но истинным чудом им удалось одолеть оставленный в Эдессе тюркский гарнизон.
Когда ягнята прогоняют волка, не время медлить пастушьему псу: Раймонд, не помня обид, собрал ополчение и двинулся по направлению к Эдессе. Однако еще в пути на него напали сельджуки, зарубили большинство его пехотинцев и нанесли такие потери, что с полдороги князь был вынужден стремглав отступить в Антиохию. Сам же Имадеддин, не мешкая, примчался в Эдессу, вырезал, распял или изгнал отважных мятежников, а город заселил невесть откуда приведенными нечестивыми евреями. Проклятое это племя еще во время первого великого похода поддерживало мусульман, и недаром всех их, обнаруженных в освобожденном Иерусалиме, крестоносцы в своей ярости предали мечу и огню. С тех пор, следует заметить, христопродавцы проживали во франкских землях без каких-либо обид и гонений, но неблагодарные нехристи всегда готовы принять сторону того, из кого рассчитывали извлечь наибольшую выгоду.
Трудно было представить более позорную участь для самого древнего христианского города на земле, места, по которому ступали апостолы, вообразить худший удел для графства, которым некогда правили Танкред и Бодуэн II!
Гнев и возмущение охватили весь праведный мир. Что делать с этим проклятьем франкской малочисленности и несчётного множества врагов? Достойных рыцарей мало, а сарацинам несть числа: помимо тюркских и курдских потомственных воинов, их ряды постоянно пополнялись неизвестно откуда возникающими племенами туркменов, бедуинов и мамлюками. Этих воинов-рабов у магометан стало так много, что им вся цена на базаре была в треть коня за голову, тридцать динаров. В то время как каждый погибший христианин – камень, выбитый из защитной кладки, для сарацин их убитые – ямка в песке, ее тотчас засыпали новые песчинки.
Из-за беспечности и недальновидности Куртене восточный бок Антиохии оказался беззащитен, и клыки сельджуков заклацали у самой шеи княжества. Высматривать поддержку с юга было бессмысленно – там находились только вздорный граф Триполийский да хлипкий иерусалимский дуумвират. Междоусобица, растлитель мусульманского мира, ныне разлагала здоровое тело Утремера.
Итамар с остальными ныряльщиками вернулись на катамаран. Шкипер встретил их у трапа, собрал ласты, помог освободиться от аквалангов. Итамар расстегнул молнию, стянул гидрокостюм. Ника продолжала загорать, лежа на животе, положив щеку на скрещенные руки, любуясь его загорелым, гладким торсом. Такая рельефная, мускулистая грудная клетка и такой тонкий стан бывают только у гончих собак и у очень молодых мужчин. Он наверняка достался ей по ошибке, как когда-то ему – какао вместо кофе.
Итамар подошел к ней, отряхнулся. Ника сняла забрызганные солнечные очки, слизнула с губ соленые капли.
–Как было?
–Отлично! Там была вот такущая гигантская серая мурена! И полным-полно всяких ядовитых скорпен! Никуш, потрясно, просто потрясно! Только согреюсь, и вместе обратно!
–Ух ты! – она мягко засмеялась. – Мурены и ядовитые гады! Почти уговорил!
Он плюхнулся на полотенце рядом с ней, его лицо оказалось так близко, что Нике приходилось переводить взгляд с одного его зрачка на другой, и в каждом светило солнце и плескалось море. Принялся восторженно рассказывать об увиденных рыбах и подводных чудесах, прижался к ней мокрым, холодным, лягушачьим боком.
–Грейся об меня. Ты там совсем закоченел.
Кожа Итамара на ощупь была мраморной, на вид – карамельной, какой бывает только загорелая кожа блондинов, пахла ванилью, и на вкус походила на любимое мороженоеНики – карамель с солью. Его ледяные руки тут же очутились на ее раскаленной спине, на груди, на бедрах, она взвизгнула, отпихнула его. Он виновато оглянулся, не унывая, продолжил болтать:
–Тут еще что! А вот чуть дальше, в Дахабе, в Нувейбе, в Шарм-эль-Шейхе, там знаешь какие рифы! Мне хотелось бы везде понырять с тобой.
–Мои родители провели свой медовый месяц в Синае. – Тут же смутилась и затараторила дальше, чтобы он не принял ее рассказ за матримониальный намек: – Тогда Синай был нашим, и там было совершенно безопасно. Почти весь пляж был диким. Мам-пап ночевали на берегу в палатке, а питались бедуинскими питами из ооновской муки напополам с песком. А теперь в Синае джихадисты из этого Исламского государства, с них станется и ныряльщикам головы отрубать.
–Фанатики Средневековья.
–Заветы пророка отменить невозможно, особенно когда у правоверных в результате всех переворотов и войн ничего, кроме них, не осталось. Истинному суннитскому халифату заповедано жить по законам шариата: христиан можно терпеть только униженных и покоренных, земли ислама следует освобождать, головы и руки отрубать, а шиитов и прочих «апостатов», благоговейно возблагодарив Аллаха, – уничтожать.
–Шииты тоже хороши – иранцы в войне с Ираком своим же иранским детям надевали на шеи пластмассовые «ключи в рай» и гнали их по минным полям. А как только в Ираке за американцами прикрылась дверь, там появились шиитские отряды смерти.
–А что ты хочешь от шиитов? Они тоже крепки в своей вере. Все униженные народы верят в апокалипсис, единственное, что сулит торжество. У евреев тоже после разрушения храма все надежды только на него оставались. Это победоносный Запад малодушно предпочел апокалипсису терпимость. А сам при этом внес лепту в ужасы Ближнего Востока: мало того, что крестоносцы-американцы поощряли талибанов и разворошили осиное гнездо Ирака, так еще эти западные туристы-гяуры успели изгадить гостиницами и курортами лучшую часть Дар аль-Ислама – заповедник Синая!
–Это все не смешно. Наш апокалипсис случился. И Синай много больше, чем «заповедник». Ты даже не представляешь, что такое этот полуостров с геополитической точки зрения, – Итамар объяснял с забавной важностью, ему явно было приятно понимать в чем-то больше Ники. – Если бы не пространство Синая в Шестидневную и в войне Судного дня, неизвестно, что с нами сталось бы. – Перевернулся на спину, уставился с тоской в кобальтовое небо, пожаловался: – Раньше все было проще. Шарон в моем возрасте уже своей знаменитой дивизией командовал.
Она приподнялась на локтях, посмотрела на него сверху вниз. Эти непомерные амбиции одновременно умиляли и смешили. Какой же он еще мальчишка, если расстраивается, что в двадцать восемь лет все еще не начальник генштаба?!
–А Александр Македонский в твоем возрасте уже полмира завоевал. И Наполеон к твоим годам уже наверняка каким-нибудь там первым консулом стал!
Сразу пожалела, что не удержала женский скепсис, эту насмешку изверившегося опыта над максимализмом юности. Он нахмурился:
–Конечно, у тебя все герои в двенадцатом веке закончились!
Ну вот! Уж лучше бы она ему демонстрировала каталог свадебных платьев!
–Вовсе нет. У нас друг семьи, израильский штурман, в сирийском плену несколько лет пробыл.
–И как ему?
–Не понравилось. Ему слух побоями повредили. Но он всегда был уверен, что его освободят. Сирийцы угрожали: живым ты отсюда не выйдешь, а он отвечал: это не от вас зависит. Наверное, иначе это не вытерпеть.
–Лучше сразу погибнуть.
–Рыцари тоже так считали. Но судьбу не выбираешь. Жослену де Куртене Нуреддин выколет глаза и заточит на десять лет, до самой смерти. А потом его место займет Рейнальд Шатильонский. Этот вообще рекорд поставит: шестнадцать лет в цепях просидит.
Итамар поморщился:
–Может, хорошо, что никто не знает своего будущего.
Он замолчал, и Ника попыталась пошутить:
–Кстати, уж если ты ищешь «жизнь с кого бы», так Юлий Цезарь тоже у пиратов в плену был, и ему тоже долго не удавалось стать великим. А потом ка-а-а-к усмирил всю Галлию!
Потянулась потрепать Итамара по волосам, но он поймал ее руку в воздухе и отвел, не позволил перевести насмешку в шутку. Надулся, сел к ней спиной. От вида темной впадинки на шее у коротко стриженного затылка в горле вспух ком. Вскочил, не оборачиваясь на обидчицу, подошел к борту яхты и, спружинив, красивой ласточкой унесся за борт.
Ника уткнулась лицом в сгиб локтя. Может, это не он так отчаянно, смешно, нелепо молод, а она безнадежно стара для него.
Раймонд любовался первыми шагами своего первенца, когда Констанция сказала:
–Вовремя наш Бо научился ходить, потому что очень скоро я не смогу больше поднять его на руки.
Раймонд кинул на нее вопрошающий взгляд, прочитал ответ на счастливом, смущенном лице жены, подхватил и, по своему обыкновению, собрался кружить, но остановился в испуге, осторожно опустил, оглядел ее стан:
–Хорошая моя! Когда же?
После вычисления точной даты она осмелилась предложить:
–Супруг мой, мудро было бы заставить Мануила прийти нам на помощь, хватит Византии издалека любоваться, как мы изнемогаем.
–Спасаться от Имадеддина под крылом Византии – это как головную боль белладонной лечить.
–У нас не голова болит, у нас Имадеддин уже руку отрубил и на голову нацелился. В малых дозах и яд может быть лекарством.
Князь колебался, и она добавила:
–На одно колено встать – нет позора. Условия договора будут не в пример выгодней, если ты добровольно прибудешь в Константинополь, а не станешь дожидаться, пока Мануил сам сюда нагрянет воспользоваться нашей крайностью.
Мужья слушаются разумных, любящих и плодовитых жен. Едва возобновилась весенняя навигация, Раймонд отправился в Константинополь замиряться с Византией, просить ромеев о действенной помощи.
Унижения начались, едва князь сошел с борта триремы в бухте Золотого Рога. Мануил на его послания не отвечал и к себе не допускал. Похоже, напрасно Пуатье так смело сунул собственную голову в логово автократора, но терять было нечего: не имея лучшего занятия, Раймонд шатался со своими спутниками по городу, сопровождаемый лазутчиками и доносчиками василевса.
Имперский город потрясал невообразимыми размерами, богатством, а пуще всего – невиданным умением греческого зодчества. Акведуки, городские стены, гавань и дворцы выглядели возведенными не мелким местным народцем, не вздорными греками, которые сутяжничали в Иерусалиме с франками за святые места, а невиданными, таинственно сгинувшими гигантами. От паломников и торговцев франки уже были наслышаны о величии собора Святой Софии, поэтому, когда князь со свитой впервые вошли внутрь и узрели знаменитый купол, они даже слегка разочаровались: свод хоть и был изрядным, но во Франции Пуатье случалось видать не меньше. Однако, сделав пару шагов вперед, Раймонд обнаружил, что сей купол был лишь боковым полукуполом. Вслед за ним появился следующий, гораздо больший. Но Томас, бывавший в Иерусалиме, пренебрежительно заметил:
–Да и этот не величавее того, что над храмом Воскресения Христова.
Но когда франки прошли еще немного внутрь собора, перед ними открылся центральный купол, оказавшийся необозримым, как вся небесная сфера, и словно паривший в воздухе. По его безмерному пространству разносилось дивное пение ангелов.
–Тьфу, князь, – Юмбер де Брассон перекрестился, стряхивая наваждение. – Какие же это ангелы? То кастраты отвратные!
–Схизматики и крамольники, но почему-то и терновый венец, и плащаница, и накидка Богоматери у них, и так много богатств и умений попало в их недостойные руки!
–Ну, Животворящий Крест мы у них все-таки отобрали, – порадовался Бертран.
Но все остальное забрать не представлялось возможным. Богатства Византии ошеломляли даже привычных к восточной роскоши и к изобилию собственного базара антиохийцев. Прогуливаясь от Большого дворца до форума Константина, рыцарь и его ватага двигались сквозь нескончаемый золотой рынок. Столы менял, лавки, переходы, подоконники были сплошь завалены несчитаныи золотыми слитками, беспечно разбросанными монетами и грудами украшений. Неудивительно, что при виде такого дьявольского искуса бедняга Годефруа вдруг дико захохотал, бросился к ближайшему прилавку и попытался быстро сгрести в дорожный мешок груду безантов, драхм и динаров. По греческой вине несчастный двинулся рассудком, и справиться с ним удалось только при помощи невесть откуда мгновенно появившегося отряда скутатов.
–Удружил наш поганец Годефруа, – у князя пропала охота таскаться по городу и дивиться, как деревенскому простаку, впервые попавшему во дворец. – Говорят, где-то на севере Европы есть народы, которые живут охотой в лесах, одеваются в шкуры, едят сырое мясо и молятся дубам. Вот примерно такими мы видимся ромеям.
–Ну, мы-то как раз молимся кому и как надо, – гордо отметил Томас Грамон важнейшее преимущество франков.
Но взгляд Раймонда упал на крепостные стены Константинополя, способные устоять перед любым землетрясением, и невольно подумалось, что это преимущество, пожалуй, единственное, и мало в нем толку, если вознесенные кому и как надо молитвы никто не слышит.
С каждым днем томительного, бессильного ожидания императорского приглашения Пуатье невольно терял последнюю уверенность. Мануила, невзрачного и темноликого, как и отец, греки называли «о Мегас» – Великим, а лебезили и преклонялись перед своим автократором так, словно он был не смертным, грешным человеком, а богом языческим. И вся безукоризненная учтивость этих высокомерных ромеев не скрывала, что последний архонт Мануила брезговал им, праведным христианином, князем Антиохийским и сыном герцога Аквитанского!
Когда василевс наконец-то прислал условия для замирения, Раймонд уже прочувствовал на собственной шкуре, как именно удалось Алексею Комнину полвека назад вынудить суровых крестоносцев на их пути в Святую землю принести ему вассальные присяги.
Пуатье, конечно, еще в Антиохии понимал, что без оммажа не обойдется, но помимо признания себя сувереном Мануил потребовал, чтобы князь попросил прощения у покойного Иоанна на его могиле, а также поклялся восстановить на антиохийском патриаршем престоле греческого ставленника. Каждое требование драгоман предварял таким бесконечным перечислением всех императорских титулов и атрибутов, что изнемогший Раймонд взмолился избавить его от лишних славословий, ибо Господь Бог, создавая день, не позаботился сделать его столь долгим, чтобы в него могли вместиться все перлы греческого красноречия.
–Перед мертвым покаяться нет позора, – соображали вечером княжьи советчики за полупустым бочонком анисовой, медово-тимьянной коварной водки. – А с греческим патриархом дело можно долго тянуть, к тому же от такой клятвы папа римский непременно разрешит.
Понтифик грозил отлучением каждому, кто признает греческих патриархов, но отсюда, из Византии, Рим казался несравнимо дальше, чем из Антиохии.
–А куда деваться-то? – понурил шальную голову Юмбер, обреченно допивая пятый кубок. – Мы в этом Константинополе беззащитны, как монашка в военной ставке.
Каждую ночь оруженосец проводил в самых злачных местах греческой столицы, но какой спрос с повесы, беззащитного перед соблазнами чужого города, как монашка перед ратниками?
Скрипя зубами, Раймонд выполнил все условия Мануила. На князя тут же посыпались блага, почести и развлечения. Его поселили во дворце на берегу Босфора, в бесконечных анфиладах из белого и чистого, как хрусталь, мрамора. Стены покоев были сплошь увешены гобеленами, искусными, как картины, и все залы обставлены инкрустированной перламутром мебелью, причем не одними скамьями, кроватями, столами и сундуками, но и какими-то совершенно излишними поставцами, мягкими, застеленными шкурами ягуаров и зебр диванами, столиками, шкапами, буфетами, горками, комодами и полками, заваленными, в свою очередь, такими же красивыми, бесценными и избыточными безделушками. С Годефруа приходилось глаз не спускать. Все это великолепие освещалось лампами, усыпанными топазами, аметистами и изумрудами, удивительно преломлявшими и отражавшими свет. Портики с колоннадами из яшмы и порфира выводили на гигантские террасы, откуда открывались дивные виды моря и залива Золотой Рог. Дворец окружал парк с диковинными деревьями, на их ветвях пели неживые птицы, изготовленные руками умелых мастеров.
Антиохийцев завалили приглашениями: каждый день императорский двор развлекался непременными скачками на ипподроме, гонками колесниц, охотой на специально разведенных в императорских угодьях невиданных зверей, состязаниями в сложных играх, декламированием поэзии, выступлениями жонглеров, гимнастов и танцовщиц. Сам Мануил старательно тщился уподобиться латинским рыцарям – даже лично участвовал в турнирах, как будто размахивание затупленным мечом может сделать истинным героем кесаря-еретика, не поддерживающего святое дело франков! Войны и трудности антиохийцев от Константинополя были дальше, чем заботы нищего от забав императора. Пока франки в Леванте изнемогали, изнеженные ромеи играли в шахматы, дегустировали вина или верхом на лошадях гоняли мяч ракетками. На окраинах византийских земель даже греков тревожили враги, но до константинопольского сердца империи не доносилось эхо пограничных боев. Ромеев полностью устраивало, чтобы паписты с сарацинами до бесконечности истощали друг друга в сирийской глуши.
День шел за днем, Раймонд покорно делал ставки на заездах, хлопал на представлениях, объедался на пирах, парился в термах, пьянствовал в сомнительном обществе тщательно одетых, надушенных и завитых мужчин и раздетых женщин, все это время терпеливо ожидая подписания союзного договора. Но от Мануила поступали только любезные и неопределенные посулы.
С каждым днем тело Пуатье теряло силу, ум – разумение, характер – твердость, а княжеское достоинство – честь. Среди этих женственных греков сам превращаешься в бабу. Грызла тревога о происходящем в Леванте. Письма Констанции доходили с запозданием. В них княгиня сообщала, что благополучно разрешилась от бремени здоровой девочкой, которую окрестили Марией, и, вместо того чтобы в подробностях описывать происходящее в княжестве и Сирии, интересовалась почему-то внешним обликом Мануила, его невестой Бертой Зальцбах и дотошно выспрашивала, как князь проводит свой досуг. Впрочем, Раймонд не винил супругу в своем напрасном унижении, потому что тот, кто слушается негодного совета, виноват не меньше, чем тот, кто подобные советы раздает.
Так тянулось, пока Мэтью не обронил, довольно покряхтывая под пальцами евнуха-массажиста:
–Не так уж плохо почетным пленникам в Ромейской империи!
Это замечание отрезвило Пуатье. В императорском дворце франки сталкивались с анатолийскими, балканскими и киликийскими заложниками, бродила при дворе жалкой тенью и немецкая принцесса Берта, прибывшая в Константинополь в качестве невесты Мануила еще при Иоанне, перекрещенная по греческому обычаю в Ирину, и с тех пор смиренно выжидающая каких-либо дальнейших изменений в своей судьбе. Василевс, однако, венчаться не спешил, словно надеялся, что промедление омолодит тридцатипятилетнюю суженую.
Нет, таскаясь вслед за Ириной в свите придворных сатрапов-холуев, Раймонд никогда не добьется от ромеев действенной помощи. Князь Антиохийский спешно собрался и отплыл восвояси.
Как всегда, греки сумели отвергнуть предложение самой искренней дружбы: щедро накормили князя Антиохии несбыточными посулами в далеком будущем и тяжкими оскорблениями в настоящем. Наступит ли когда-нибудь день, когда византийцы будут так же нуждаться в латинянах, как ныне латиняне нуждались в них?
В позорном хождении на поклон Константинополю единственным толком оказалось то, что сельджуки все же заметили сближение франков и греков, и Занги предпочел остеречься от дальнейших нападений, пока не выяснит меру готовности ромеев защищать Антиохию. Кровавый оставил княжество в покое и занялся завоеванием мусульманских земель.
Получив передышку, Раймонд заключил союз с таинственным племенем исмаэлитов-ассасинов, чье страшное искусство состояло в умении убивать врагов тысячью и одним коварным способом. В отличие от остальных сирийских супостатов, ассасиы придерживались шиитской веры, которая велела им уничтожать суннитских султанов и визирей. Благодаря своей безумной отваге они умудрялись держать всех суннитских эмиров в постоянном страхе внезапного покушения. Их крепости Аламут-Орлиное гнездо и Масиаф соседствовали с укреплениями Антиохии и тамплиеров. Некоторые из этих неприступных бастионов в Кадмских горах ассасины выкупили у соседей, большую часть – отобрали у окрестных эмиратов, а крепость Харибу вовсе у франков захватили. Но Антиохия уже не помышляла заводить новые раздоры по этому поводу. Тут, в Сирии, враг врага хоть и не всегда друг, но зачастую – союзник.
Долгий, жаркий сентябрьский день Констанция провела с детьми, придворными дамами и служанками в душной, полутемной зале дворца, за толстыми каменными стенами и прикрытыми ставнями.
Двухлетний Боэмунд прилип к Изабо. В прошлом году злополучная мадам Бретолио родила странную, хворую девочку с огромной головой и хилым тельцем, но и второе ее дитя не задержалось в грешном мире. Страшные потери и мрачный муж вытоптали в бывшей хохотушке всю девичью легкость и радость, бедняжка превратилась в несчастную, пришибленную женщину. Трудно было поверить, что когда-то бьющее через край веселье украшало девицу дю Пасси не меньше ангельского голоса. Сама сдержанная Констанция всегда владела собой и не умела, да и не хотела резвиться беспечно и безудержно, может, именно поэтому ей было жалко исчезнувшей бесшабашности подруги.
Только с детьми Изабо возрождалась: ребячилась, щекотала Бо, смешила мальчика, прятала его, искала, догоняла, без устали качала Марию, пела ей песенки, словом, потешала их так, как редко удавалось занятой княгине. Констанция была нежной и заботливой матерью. Она помнила свой страх и ненависть к Алисе и никогда не поднимала руки на детей. Даже когда гневалась, княгиня сдерживалась и не позволяла ярости помутить разум. Она всей душой любила своих малюток, но ничего не поделаешь – пока они были здоровы, все ее мысли, желания и тревоги невольно сосредоточивались на Раймонде и на опасностях, грозящих супругу и княжеству. Детям доставалось только ровное, доброжелательное терпение. Неудивительно, что Бо предпочитал шалить с красивой и взбалмошной мадам Бретолио. Когда к Изабо возвращалось ее жизнелюбие, ей ничего не стоило покорить даже двухлетнего мужчину.
Констанция молилась, чтобы Господь поскорее благословил страдалицу собственным отпрыском. Тогда подруга будет заниматься им, а не молоть чепуху:
–Грануш, мне кажется, или наш Бо и в самом деле заикается?
Сомнение в совершенстве ее любимца сразу превратило Грануш в рассерженного ежа:
–Еще чего! Мальчики просто позже начинают говорить. Мужчинам и не требуется болтать, как некоторым дурочкам.
Констанция промолчала. Что поделаешь? Кузен Амори – младший брат короля Бодуэна – тоже заикается. Впрочем, Изабо на одной мысли задержалась не дольше, чем воробей на ветке:
–Зато какой он красавец, наш Бо! Ресницы как у девушки и кожа – не верится, что когда-нибудь эти щеки станут колючими!
Да будь ее сын в возрасте, когда у мужчин колючие щеки, Констанция не подпустила бы к нему Изабо на выстрел стрелы. Княгиня вынула из сундука искусно сделанную марионетку в виде рыцаря в полном вооружении, за которую итальянскому купцу уплатили стоимость хорошего меча, и протянула сыну. Хватит малышу от скуки завороженно липнуть к мадам Бретолио.
Та сразу переметнулась на годовалую Марию:
–Вот кто прелестное дитя, истинная Богородица во младенчестве!
Мамушка незаметно скрестила пальцы и зашептала наговор, должный оградить невинные чада от опасных похвал. Дама Филомена обрезала шелковую нить ножичком и заявила:
–Наша Мария – вылитая покойная Алиса в детстве!
–Алиса? – Констанция вгляделась в круглое личико с огромными голубыми очами, в льняные, легкие, как цыплячий пух, кудряшки. – Да что вы, мадам Мазуар! Алиса не на Богородицу, а на голодную лисицу смахивала.
–Что вы, ваша светлость, ваша мать прелестной девочкой была, – дама Филомена вздохнула, – мы ведь маленькими неразлучными были…
Констанция по-прежнему не находила в себе сил называть усопшую матерью, и похвалы дамы Филомены ей были как песок в хлебе:
–Прости Господи покойнице все ее прегрешения, но Алиса при жизни была злобной, мрачной тихоней, себе на уме, а моя Мария – ангел. Никто из нас ничем не схож с Алисой!
Даму Филомену, однако, и на Страшном суде не переспорят:
–В детстве Алиса, правда, была тихой и своевольной, но не злобной и не мрачной. Умненькая была, упрямая. И была уверена, что ей выпадет необыкновенный, особый удел. Потому не могла смириться, что в двадцать лет для нее все закончилось.
–Все дети мечтают. Я тоже мечтала о разных подвигах. Вот они, мои два подвига!
–Нашу красавицу Марию надо за василевса просватать! – воскликнула Изабо с таким воодушевлением, словно сама обрела в браке великое счастье.
–Василевс вроде на принцессе Ирине собирается жениться или нашу Марию ждать намеревается? – невинно поинтересовалась дама Филомена, распутывая нити.
–Собирается, да что-то не спешит! А если и женится, так появится для нашей Марии жених-наследник.
Констанцию слова Изабо поразили. Как в ворохе кухонных отбросов порой валяется добрый хлеб, так среди глупой болтовни подруги попалась здравая мысль, и Констанция ухватилась за нее с проворством голодной побирушки, заметившей пропущенный кухаркой кусок. Как же она сама об этом не подумала! Княгиня взяла Марию на руки. Неужели эта малютка в один прекрасный день может стать императрицей Византии? Но зарастут же нежные щеки Бо колючей щетиной, почему бы и его сестре не повязаться императорским лорумом? Вспомнила, как сама страшилась быть отосланной в далекий, неведомый Константинополь. Если Мария уедет, она больше никогда не увидит свою голубку, не сможет поцеловать, не вдохнет волшебный запах детской головушки… Впрочем, какая глупость! Даже если такой брак осуществится, его придется ожидать еще долгие годы! И все же поскорее бы Мануил женился на этой своей Берте-Ирине и произвел на свет жениха для Марии или хотя бы невесту для Бо! Византийское родство решило бы все затруднения Антиохии.
Тем временем Изабо пристала к даме Филомене:
–Мадам Мазуар, я слышала, ваш брат, граф Триполийский уговаривал вас к своему двору перебраться?
Грануш насторожилась: они с дамой Филоменой ладили, как два петуха в одном курятнике. Делая вид, что не прислушивается, Констанция передала Марию на руки кормилице. Пусть, пусть несносная дама отправится к дорогому братцу и впредь радует невыносимыми откровениями только собственных родичей! Они еще не ведают, как много удивительного им предстоит услышать от правдолюбицы!
Но дама Филомена невозмутимо встряхнула расшитую ткань:
–Нет, мадам Бретолио, если меня отсюда не прогонят, сама я никуда не собираюсь. Тут могилы моих сыновей, и мне здесь хорошо. Я благодарна княгине Антиохийской за ее покровительство.
Грануш почему-то не огорчилась, напротив, торжествующе приосанилась, поймала мчащегося с дикими воплями Бо и крепко расцеловала своего ангелочка. Пораженная Констанция откинулась на спинку кресла и неожиданно для самой призналась:
–Давно хотела сказать вам, мадам Мазуар, ваши покрова самые дивные. Никогда мне у вас так не научиться.
–Как у меня, все равно никогда не получится, ваша светлость, тут глаз особый нужен и рука бестрепетная, – со всегдашней резкостью отрезала дама Филомена, однако тут же смилостивилась, добавила: – Но у вашей светлости тоже иногда неплохо получается.
Констанция отвернулась, скрывая улыбку.
День взаперти в обществе болтливых женщин и детей утомил. Паж сообщил, что Раймонд с друзьями вышел на открытую террасу замка, и как только охровое солнце стало клониться к закату, а с моря повеял свежий бриз, Констанция поспешила присоединиться к супругу.
Слуги разносили душистый, сладкий, пьянящий гипокрас, инжир, смокву и миндаль, лохматая рыжая Вита носилась наперегонки с Боэмундом, смахивая хвостом посуду со столов, трувер перебирал рыдающие струны арфы, оруженосцы и паи, подражая новой европейской манере, сочиняли дамам любезности, дамы хихикали, не в состоянии придумать достаточно куртуазных ответов и нарочито смущались. Только кислый вид мадам Мазуар напоминал, что всё вокруг – и счастливые, беззаботные люди, и прелесть теплого летнего вечера, – всё тлен и прах, радоваться совершенно нечему.
Констанция размышляла над игральным полем тавлея, прислушиваясь к словам Раймонда:
–Графу Триполийскому некем укомплектовать гарнизон Крак де Шевалье. Ассасины спят и видят заполучить эту крепость. Говорят, сам Старец Горы обратился к Сен-Жилю и сулил в обмен на Крак де Шевалье горы золота.
–Неужели граф отдаст? Сегодня ассасины – союзники, а завтра враги.
–Сен-Жиль наотрез отказал. Он передаст крепость госпитальерам.
–Ассасины не прощают отказов.
–Его семейка умеет изводить врагов не хуже ассасинов. А я вынужден передать ассасинам защиту всего Амануса. Уж лучше они, чем Кровавый, а своих воинов нам взять неоткуда. Только к рыцарям-монахам продолжают прибывать свежие рекруты.
Констанция наконец придумала удачный ход и сдвинула фигуру. Раймонд оглядел игру и костяным ратником победоносно скинул с доски короля Констанции:
–Мадам, ваш король убит!
–Убит! Убит! Осанна! Аллилуйя! – эхом отозвался с лестницы ликующий крик, и на террасу взбежал запыленный, задыхающийся, взволнованный гонец.
Имад ад-Дин Занги, Столп веры, называемый своими подданными также Зайнат аль-Ислам – Красой ислама, аль-Малик аль-Мансур – Царем-Победителем и Назир Амир аль-Му’Минен – Опорой владыки правоверных, закончил вечерний намаз. Краса ислама – плосколицый, с утиным носом и жидкой бороденкой – с кряхтеньем опустился широким задом на подушки, скрестил короткие кривые ноги. Любимый раб Яранкаш проворно налил господину душистого вина из серебряного кувшина. Атабек много пил, и позорную для мусульманина слабость приходилось скрывать от окружающих, но в последнее время без будоражащего напитка Царь-победитель не мог ни действовать, ни думать, ни спать. Допил, вытер губы, закусил пучком мяты, взмахом руки приказал Яранкашу впустить терпеливо ожидающих советников, которым запрещено подходить к походному шатру ближе чем на полет стрелы.
Приближенные вползли на четвереньках. Присесть атабек не предложил: пусть так и слушают скрюченными, уткнувшись головами в пол, как в мечети. Не ему эти почести, а делу его – священному джихаду. Без абсолютного повиновения, без твердой руки эти жадные, слабые и трусливые глупцы тотчас начнут враждовать друг с другом и под него, под Столп веры, подкапываться.
Уже вторую неделю его многотысячный аскар осаждал принадлежащую Дамаску крепость Калаат Джабар, ибо только после того, как он, Царь-победитель, объединит под своей властью всю Сирию и Междуречье, станет возможным разгромить отвратительных кафиров. Все беды правоверных – от разброда и отсутствия единого повелителя. Не развались полвека назад султанат Мелик-шаха, никогда не удалось бы ордам западных гяуров захватить земли Дар аль-Ислама.
Греки, армяне, копты, сирийские христиане и прочие покорные местные подданные были терпимы. Не таковы франки. Эти оказались истинной занозой, впившейся в тело уммы правоверных. Вокруг такого глубоко проникшего терния, который уже полвека не удается вырвать, нарывало унижение слуг Аллаха и копился гной ненависти, который не рассосется веками! Из-за них и яд предательства уже растекся по жилам: если бы не позорный союз Дамаска с франкскими многобожниками, он, Зайнат аль-Ислам, давно стал бы непререкаемым властителем всей Сирии!
Визири долго приветствовали своего повелителя, хвалили и источали льстивые речи. Наконец, после всех необходимых учтивостей, эмир Масуд аль-Маштуб спросил, как поступить со сдавшимися в плен перебежчиками из осажденной крепости.
Брезгливо оттопырив губу, Занги повелел:
–Отрубить им всем головы.
Эмир замялся:
–О высокочтимый аль-Малик аль-Мансур, Аллах да продлит дни султана, все будет по воле твоей, но если мы казним тех, кто добровольно сдался нам, оставшиеся в Калаат Джабале прознают про это и упрямство их лишь укрепится!
Занги уставился на спорщика колючим взглядом. Как един Аллах и как не может быть двух голов в одной чалме, так не могут двое быть правыми в едином споре. Дерзкий эмир почуял недоброе, смешался, сник. Насладившись трепетом непрошеного советчика, Имад ад-Дин спросил:
–Разве не следует запугать врага?
Эмир вдавился лбом в ковер:
–Запугать, разумеется, необходимо, о высокородный аль-Малик аль-Мансур.
Занги криво ухмыльнулся, развел руками, простодушно признался:
–Ну, а лучше пугать, чем убивать, я не умею.
Следовало запугивать и постоянно поддерживать страх не только во врагах, но и в собственных приближенных. Только тот, кто боится тебя больше, чем врага, умрет за тебя. А от этого лицемерного визиря придется избавить Дар аль-Ислам. Султану не нужен несогласный с ним ишак. Если он трусит защищать свое мнение, то зачем это мнение нужно? А если не трусит, то такой опасен. Торчащий сук не оцарапает, если его вовремя срубить.
Милосердный Аллах, ради победы твоего дела твоему рабу приходилось брать на себя немало грехов! Зато, бисмиллах, потомки Опоры правоверных когда-нибудь смогут позволить себе властвовать великодушно и милосердно. Самому же моджахеду приходится утешаться аятом Корана: «А тех, которые усердствовали за Нас, – Мы поведем их по Нашим путям».
Занги усердствовал в джихаде уже чуть не двадцать лет, с тех пор как начал покорять земли соседних эмиров. Война с христианскими свиньями – это единственный способ вести за собой исламский мир, и истинно сказано, что если правитель не ведет джихада, то лучше ему быть мертвым, чем живым, так как он развращает мир.
Заболела голова, охватила сильная жажда, из вспухшего живота поднялась тошнота. Атабек кинул косой взгляд на заветный кувшин, сглотнул, взмахом руки выгнал прочь советчиков, негодных, как сломанные ветви. Ничтожные, не смея подняться, выползли из шатра задом наперед.
Ночью внезапно проснулся от шороха у изголовья. Не шевелясь, чуть приоткрыл глаза – не ассасин ли? Фидаины Старца способны проникнуть в любое место, даже в шатер самого атабека. Совсем рядом возилась чья-то темная тень. Холодный пот потек по спине, рука тихо поползла к ятагану за пазухой. Но тут же Занги распознал наглого раба Яранкаша. Согнувшийся в три погибели, мерзавец отливал себе вина из стоявшего рядом с ложем кувшина. Атабек выпростал руку, ухватил преступника за шкирку:
–Воруешь, гнусное отродье? Вон отсюда! Утром я с тобой разберусь!
Пихнул со всей силы. Ничтожный евнух отполз, поскуливая. Имад ад-Дин раздраженно повернулся на другой бок и попытался вернуться ко сну. Раба утром казнит. Не из-за кражи вина, а из-за того, что своим проступком презренный нагнал страха на самого Защитника всех созданий Аллаха.
Яранкаш снова и снова наугад вонзал нож в тело. Наконец Кровавый перестал сучить ногами и хрипеть.
–Живуч, как ящерица, – с отвращением прошептал раб, вытер нож, засунул его за широкий пояс, схватил трясущимися руками кувшин, захлебывающимися глотками допил оставшееся вино, бросил сосуд и выскользнул наружу, в теплую сирийскую ночь. Эмир Дамаска наверняка озолотит того, кто избавил его от Занги.
Атабек Абу-Музаффар Атабек аль-Малик аль-Мансур Имад ад-Дин Занги – тот, кого халиф называл собственным сыном, за кого молились правоверные во время большой пятничной молитвы незамедлительно вслед за халифом и султаном, величая его эмиром, военачальником, великим и справедливым, помощником Аллаха, триумфатором, удивительным, защитником границ, Опорой веры, Красой уммы, Честью царей, Поддержкой султанов, Уничтожителем неверных, мятежников и безбожников, предводителем правоверных армий, победоносным царем, Шахом шахов, Солнцем достойных, эмиром обоих Ираков и Сирии, завоевателем Хорасана, – был брошен в мелкую могилу без савана, словно падаль.
Гонец вновь и вновь пересказывал радостную весть:
–В крови погиб душегубец Сангвин, носивший на себе имя крови! Его убил сбственный раб, той же ночью бежавший в Дамаск. Войска атабека враз рассеялись, осада Калаат Джабара прекратилась. Говорят, приближенные, не мешкая, разграбили все имущество Имадеддина и разбежались кто куда.
Раймонд ликовал:
–Привязанные собаки отменно сторожат двор, но порвалась веревка, и битые псы умчались со двора. Теперь рухнут все завоевательные планы Кровавого. Мусульманская Сирия осталась без хозяина, опять эмиры примутся враждовать друг с другом! Когда-то еще халиф назначит нового атабека, и тому придется заново приводить к покорности каждого правителя!
Весело носилась шальная Вита, люди перебивали друг друга в благодарностях Господу:
–Смерть унесла проклятого Имадеддина прямиком в чрево ада! Всемогущий – единственная наша верная опора в годину бедствий! Мы спасены! Аллилуйя! Аллилуйя!
Констанция радовалась избавлению франков безмерно. Нет, не бессмысленны усилия латинян! Пашущий бык всегда видит перед глазами слежавшуюся, сухую, заросшую сорняками землю, а оставленную им позади плодородную, рыхлую борозду не увидит никогда. Полвека они владели Палестиной, защищали святые места, растили потомство, служили Создателю, отмаливали грехи и удерживали проклятое племя от наступления на христианский мир. Им приходилось постоянно обороняться, но ведь и поле приходится возделывать каждую весну!
Солнце опустилось за горную гряду, сгустились сумерки, повис над равниной полумесяц. Пажи внесли светильники, язычки пламени метались, чадили и гасли на теплом ветру. Из долины доносились блеянье пасущихся среди камней и зарослей можжевельника коз, треньканье их бубенчиков, резкие выкрики пастуха, удары бича, лай собак. С минарета арабской деревни разлетелся гнусавый и тоскливый вопль «Алла-а-ху акба-ар», а на колокольне кафедрального собора забили колокола, призывая живых и оплакивая мертвых.
Ожидаемого разброда и междоусобицы среди сельджуков не случилось. Помнящие об угрозе франков, сыновья Занги, не мешкая, взяли власть в свои руки, мирно поделив наследство. Старшему, Саифу, отошел неспокойный, требующий постоянной железной руки Мосул, а младший, Нуреддин, получил Халеб-Алеппо. Таким образом получилось, что нового атабека Алеппо уже не отвлекали хлопотные владения вне Сирии и все его алчные помыслы обратились на Антиохию. Сын оказался опаснее отца.
Нет, видно не подлой рукой подлого раба, а силами воинства Христова будут окончательно побеждены сельджуки.
Ободренный смертью Занги, Жослен вновь попытался вернуть себе Эдессу. Как и прежде, план графа по освобождению города выглядел настолько безнадежным, что никто не согласился помогать ему. Лишь с малой горсткой верных соратников осенней ночью прибыл Куртене к бывшей своей столице, и последние оставшиеся в городе армяне, по-прежнему слепо полагавшиеся на своего побежденного господина, в котором видели армянского принца, а не франкского графа, распахнули ему ворота. Жослен триумфально вошел в город, поубивал и пленил тех из врагов, кого смог, но основной тюркский гарнизон успел запереться в цитадели, а у Куртене не имелось ни осадных машин, ни армии.
При вести о возвращении Эдессы все Латинское королевство охватила огромная радость, однако на город без промедления двинулся Нуреддин, и положение Жослена, оказавшегося между приближающимися сельджуками и сельджуками внутри цитадели, стало пропащим. Граф отчаянно молил Антиохию и Иерусалим о подкреплении, но Раймонд не мог спасать надменного умника, затеявшего эту изначально обреченную авантюру, поскольку сам как раз воспользовался междувластием, напав со всеми своими силами на Алеппо.
Этот проклятый, этот заколдованный Алеппо! Сколько походов совершили франки против этой твердыни с самого начала их пребывания на латинском Востоке, но все попытки овладеть ею оказались бесплодными, как покаяние грешника. Хуже того: именно осада латинян тридцать лет назад заставила отчаявшихся жителей города, пожравших всех собак, добровольно отдаться под власть Занги. С этого и началось опасное усиление покойного Кровавого, бывшего до того всего лишь эмиром отдаленного Мосула. С тех пор с каждой попыткой захвата Алеппо сопротивлялся все ожесточеннее и самоувереннее. Франки учили сарацин не сдаваться.
Когда десятитысячное полчище Нуреддина, Савара и кочевых туркменов приблизилось к Эдессе, этот Куртене, этот презирающий всех остальных умник, безоговорочно осуждавший чужие просчеты и безжалостно высмеивавший наивную глупость окружающих, сам совершил необъяснимую ошибку – вместо того, чтобы оставить население на милость тюрок, граф попытался спасти своих армян. Так сострадание и благодарность способны отуманить самый трезвый ум. Отступая из покинутого города, Жослен призвал всех христиан покинуть Эдессу вместе с ним, видимо, рассчитывая увести их подальше от вражеской армии и помочь им рассеяться среди поселян. Разумеется, у него не было достаточно сил для обеспечения безопасности этого исхода чуть ли не библейских размеров. Когда новый атабек прослышал, что сорок тысяч мужчин, женщин, стариков и детей покинули Аль-Руху вслед за своим прежним франкским повелителем, он возмутился неблагодарностью сирийцев и решил преподнести им страшный урок. Нуреддин со своими воинами легко догнал пеших беглецов, и, конечно, рыцари Жослена были бессильны спасти обреченных. Из всего множества несчастных лишь тысяче всадников удалось скрыться от тюркской резни, среди многих франков погиб и бывший соратник Пуатье, отважный рыцарь Бодуэн, сеньор Мараша и Кайсуна. Сам Куртене был ранен в шею и лишь благодаря резвому коню сумел домчаться до крепости Самосата на противоположном берегу Евфрата.
А беззащитных армян тюрки раздели донага и заставили бежать впереди коней и каждого, кто падал, рубили своими саблями. Так все, кого Жослен поманил надеждой на спасение, были умерщвлены, от немощных стариков до слабых младенцев. Город вновь попал в руки сельджуков, и обнаруженные в нем были либо убиты, либо проданы в рабство. Христианской Эдессы более не существовало. Заваленные трупами руины стали прибежищем шакалов и вампиров.
Новоявленного самозваного Моисея все обоснованно осудили. Лишь Грануш, всегда порицавшая Жослена за его самонадеянность и змеиную изворотливость, до сих пор презиравшая этого негодного рыцаря, ушла в свою каморку, долго оставалась там одна и с этого дня никогда не забывала во всех своих молитвах напоминать Господу печься о невезучем и несуразном Жослене де Куртене. С тех пор при ней об этом ходячем несчастье – графе Эдесском, безвылазно засевшем в Турбесселе, – стало невозможно вымолвить ни одного плохого слова.
Пример Эдессы окончательно доказал, что армяне и прочие восточные христиане – трухлявая опора. Куртене потерял почти все свои владения и превратился в гонимого и преследуемого беглеца, ибо сильные пренебрегли им, а слабые не смогли защитить. Что же нужно, Господи, что же нужно, чтобы удержать то, что дороже всего каждому истинному христианину – Святую землю?
За последние годы один за другим погибли те, от кого, казалось, в Заморье зависело, совьет ли птица гнездо: византийский император, иерусалимский король и Занги, которого мусульмане принялись величать Шахидом-мучеником. Враги и герои сходили в могилу, но в их еще теплые седла тотчас вскакивали наследники, и беды Антиохии лишь сгущались. Успехи разжигали дьявольский аппетит поклонников Аллаха, и каждое поражение христиан прибавляло язычникам наглости.
Раймонд проснулся как от удара. Во сне белый ворон, странно свернув шею, пристально уставился прямо в его глаза неприятным, человечьим, обвиняющим взглядом.
Но то был только сон. Светильник освещал привычный сумрак опочивальни, рдели очами дракона догорающие угли в огромном камине, шелестел на сквозняке полог, скреблась в углу мышь, сопели в колыбельках Бо и Мария, нежила теплым пухом нагретая постель.
Что ты смотришь так, Куртене? Помнишь, в шатре под Шейзаром мы вдвоем играли в кости? Ты бросил свои. Ты все поставил на армян и на ромеев и считал нас, остальных франков, безумцами, надменно не желающими считаться с действительностью. Ты отрицал возможность чуда, ты не верил ни в себя, ни в собратьев-фраков.
В рассветной тьме пронзительно закричал петух. В тусклом свете белело милое, круглое лицо Констанции, полускрытое в ореоле спутанных волос. Раймонд обнял теплую жену, вдохнул жасминный запах ее волос, натянул на ее плечи меховое одеяло. Констанция повернулась, прижалась к мужу в блаженном покое сна.
Видит Бог, никто не предвидел и не желал падения Эдессы. Ведь с минуты на минуту должно было подоспеть иерусалимское войско! Кто же мог знать заранее! Да если бы можно было предвидеть будущее! Теперь-то всем ясно, что от Константинополя пришлось бы ждать подмоги до второго пришествия. Настало время Антиохии сделать в этой игре собственный, единственный оставшийся ход: воззвать к своей старой родине, к братству славного западного рыцарства. Пусть Франция, Италия, Германия услышат своих истекающих кровью сыновей.
Куртене, отвернись, ради бога, не смотри так зловеще белесыми своими очами, во всем виноват ты сам, ты один.
Просить поддержки в борьбе с приспешниками Магомета князь Антиохийский отправил к Святому престолу в Рим друга и верного вассала Хьюго, епископа Джебалии. Одновременно к папе Евгению III воззвал Иерусалим. Пуатье слал своим могущественным родичам во Францию и Аквитанию письма, полные душераздирающих подробностей и страстных просьб помочь Утремеру. Богатейшие дары подкрепляли убедительность его доводов. Даже армяне отрядили в Рим делегацию, вопиющую об отчаянном положении сирийских христиан. В ответ понтифик издал буллу, призывающую к новому походу и обещавшую каждому взявшему крест полное прощение всех его грехов.
Но зима сменилась весной, весна – летом, а на помощь франкам по-прежнему прибывали лишь одиночки – безумцы или алчные искатели удачи. Через год стало ясно, что новый Крестовый поход так и остался одним из тех благих намерений, которые Господь, конечно, учитывает, да Сатана не боится.
–Препона, ваша светлость, в том, – патриарх Эмери протянул костлявые руки к огню огромного очага, в котором пылал целый дубовый ствол, – что в Европе крепнет убеждение, что, поскольку Господь обретает повсюду, у латинского Востока нет особой важности. Даже Бернард Клервоский утверждает, что Гроб Господень в сердце каждого истинно верующего, и важнее спасать собственную душу, нежели франкские владения.
–Не годится рыцарям спасать себя одними молитвами, – возразил Раймонд.
–Европа полна собственных язычников и еретиков, и многие уверены, что сражаться с маврами в Иберии не менее похвально, чем с сельджуками в Месопотамии. Но пусть нам послужит утешением то, что на Страшном суде нас будут судить не за поражения наши, а за грехи и преступления, – мрачно утешил Эмери, натянув поплотнее на уши подбитую мехом чесучовую скуфью.
По счастью, король Франции Людовик VII так отяготил свою совесть убийствами и сожжением собственных непокорных подданных, что весной 1146 года этот христианнейший государь принес наконец-то торжественный обет совершить во главе своей армии паломничество в Иерусалим. Но за минувший с тех пор год воинственного ража Европы хватило лишь на сжигание германцами евреев в долине Рейна. Благочестивый Бернард Клервоский, духовный пастырь Европы, почитающийся по всей Европе наподобие пророка и апостола, сурово осудил погромы этих убогих, предназначенных служить назиданием до своего непременного, грядущего обращения в истинную веру. Однако рвение подвижников медлило хлынуть в пересохшее русло Крестового похода.
Лишь следующей весной Европа встрепенулась: папа Евгений III выпустил новую призывающую к походу буллу и лично прибыл во Францию вдохновить французское рыцарство. Бернард Клервоский тоже возвысил свой голос по просьбе папы. Несмотря на немощь и возраст, святой цистерцианский аббат пересекал страны и страстно проповедовал вооруженное паломничество в Святую землю. Путь клирика отмечали чудеса и благие предзнаменования. Благодаря ему многие, в том числе и император Священной Римской империи Конрад III, поклялись присоединиться к походу, который уже назвали Вторым Крестовым.
Лишь патриарха Антиохии по-прежнему не покидали малодушные опасения:
–Греки понимают, что, получив помощь из Европы, мы перестанем нуждаться в их протекторате. А Людовика, только недавно замышлявшего вместе с Сицилией завладеть землями ромеев, в Константинополе будет ждать вероломный друг и коварный союзник!
Но к Раймонду вернулась былая уверенность:
–Ни к чему ослаблять дух паладинов мрачными предупреждениями. Положимся на наше единство, христианское рвение и родственные чувства.
Жена Людовика VII, Алиенор Аквитанская, приходилась Раймонду племянницей.
–Говорят, король безумно привязан к королеве, – сообщила Изабо, которая, похоже, была осведомлена о том, что творится в сердцах и постелях всех властителей земли. – Как бы это не удержало его в Париже.
Констанции долг жены воина был ясен:
–Хорошая жена благословит мужа на правое дело и не будет ему препятствовать.
–Вот и увидим, хорошая ли жена Алиенор, – пожал плечами Раймонд.
Если бы они ведали, что пройдет еще восемь месяцев до того дня, когда жалкие остатки огромной французской армии доберутся до берегов Леванта – больные и изнуренные, сами крайне нуждающиеся во всевозможной помощи, – додержались бы они? Ждала бы Констанция крестоносцев так нетерпеливо, если бы знала, как изменит их прибытие ее судьбу?
Время ожидания прошло для франков в отчаянном противостоянии Алеппо. Занги был угрозой, а Нуреддин обернулся бедой. В отличие от отца, сын не был просто жестоким солдафоном. Опытный и отважный военачальник, Нуреддин оказался к тому же умелым правителем, а вдобавок ревностным в своей басурманской ереси, что весьма уважалось его единоверцами. Атабека Алеппо от покорения Сирии не отвлекали никакие иные владения, и скоро в нечестивые руки тюрка попала Артезия – антиохийский оплот на северо-востоке от Оронтеса. Милость Господня, однако, не покинула франков полностью – Нуреддин, по слухам, страдал приступами безумия и судорог, и следовало уповать, что дни его окажутся считаными. К тому же союз с Дамаском по-прежнему обеспечивал Антиохии безопасный тыл.






