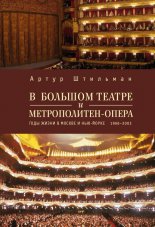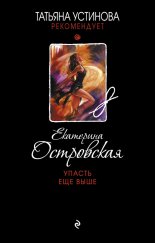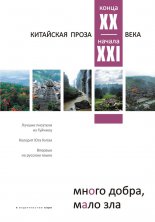Кассия Сенина Татьяна

– Да, мой хороший.
Иногда Михаил замечал, что мать после таких разговоров становится грустной, однажды спросил, почему, и она ответила, что ей «тоже не хватает папы»…
Мальчику не хватало не только отца, но и друзей. Его двоюродные братья, сыновья дядей и теток по материнской линии, были гораздо старше него, и играть с ними он не мог. Сестры больше общались между собой, играли в куклы, шушукались, а Михаил с презрением относился к их «секретикам». К тому же Фекла была в два раза его старше, Анна и Анастасия тянулись за ней, только Пульхерия охотнее играла с братом, чем со старшими сестрами – отчасти потому, что те считали ее еще маленькой, хотя Анна была всего на год ее старше, дразнили «белобрысой» и превозносились тем, что они все были коронованы августами, а она нет… Михаил ее не дразнил, хотя любил перед ней порисоваться и тоже не упускал случая заметить, что венчан на царство, в отличие от нее, – но от него терпеть такие замечания было не так обидно, как от сестер, ведь он действительно когда-нибудь должен был стать полновластным императором.
Кувикуларии-воспитатели, подобранные Феоктистом для маленького императора, не очень-то нравились Михаилу: они казались ему слишком скучными, чопорными и часто одергивали его, когда он пускался в разные шалости. Однажды он пожаловался на это Варде, и дядя, с согласия августы, приставил к мальчику еще одного воспитателя – более простого и веселого нравом. Правда, это вызвало недовольство Феоктиста, считавшего Клеопу «распущенным», но Михаил был в восторге, и логофет не решился в этом вопросе перечить императрице и ее брату. Однако он заметил, что мальчику пора начинать учиться – Михаилу шел тогда шестой год, – и тут же предложил дать ему в учителя солунца Константина – по мнению Феоктиста, юношу рассудительного и благоразумного, способного переломить «дурное влияние» Клеопы на маленького императора.
Константин к тому времени уже второй год учился в столице: Лев, вернувшись на родину, не забыл об одаренном мальчике, замолвил за него слово перед августой и логофетом, и Феоктист вызвал юношу в Царствующий Город. Константин воспринял это как настоящее чудо. После отъезда Льва из Фессалоник он пребывал в унынии, поскольку спрашивать теперь было некого, а вопросов при изучении святителя Григория накапливалось всё больше… Константин со слезами молился Богу, чтобы Он даровал ему возможность учиться дальше, и посланца от логофета принял словно ангела. Прибыв в Константинополь, он с жадностью набросился на учебу и книги и стал ходить в училище, где преподавал Лев. Посещал он и ученый кружок, организованный протоасикритом: Фотий последовал совету Григория Асвесты и действительно стал устраивать у себя дома чтение и обсуждение разных книг, читал лекции по грамматике и стилистике, а также по философии, обсуждались там и богословские вопросы, особенно интересовавшие юного солунца. Константин делал поразительные успехи и спустя два года уже вполне мог обучать детей, но когда ему доверили маленького императора, он оробел и поначалу отказывался, однако Феодора, поговорив с юношей, не просто попросила, а приказала ему взяться за обучение своего сына – настолько Константин понравился ей.
Юноша был серьезен, рассудителен и тих, но умел и шутить, а его уроки захватывали и очень нравились Михаилу, и мальчик быстро полюбил своего учителя. За год Михаил прекрасно научился читать, и они с Константином разучивали гомеровские поэмы нараспев, с соблюдением размера. После каждого урока маленький император шел к Пульхерии и декламировал перед ней очередную порцию гексаметров, а девочка слушала его с искренним восторгом и аплодировала, иногда к ней присоединялись и старшие сестры. Брат поражал их своими актерскими способностями, читая стихи с потрясающим выражением и на разные голоса, в зависимости от говоривших героев, а порой, когда не видели строгие кувикуларии, очень смешно и похоже передразнивал дядек, теток и придворных. Михаил был горд тем, что становится «всё умнее и умнее», и порой читал стихи перед портретом отца, втайне надеясь, что «папа с неба услышит, как я хорошо читаю, и порадуется».
Да, в последний год с небольшим, благодаря учебе у Константина, мальчик чувствовал себя счастливее, чем когда бы то ни было. Но внезапно его счастье омрачилось – это произошло Великим постом, на праздник Торжества православия. Михаил слушал грозное пение «анафема, анафема, анафема» и «да будут прокляты» после возглашения имен еретиков и вдруг понял, что проклинаемые «Феодот, Антоний и Иоанн» это патриархи, бывшие в Церкви до Мефодия. Открытие потрясло его: «Значит, всё это время меня обманывали?!» После вопроса об Иоанне, заданного несколько лет назад на праздничном обеде, Михаил удовлетворился объяснением матери и логофета дрома: Феодора пояснила, что Иоанн покинул Город, потому что разошелся во мнениях с некоторыми людьми, в том числе с нынешним патриархом, а Феоктист сказал, что предшественник Мефодия не захотел больше управлять Церковью и удалился на покой, поскольку устал от всей этой суеты и давно мечтал остаться наедине со своими книгами и друзьями, поэтому даже обрадовался случившейся размолвке, чтобы достигнуть желаемого.
– Значит, друзья навещают его? – спросил маленький император.
– Да, конечно, – ответила Феодора.
– А мы когда пойдем к нему в гости?
Тогда он не понял, что мать растерялась, и поэтому на помощь ей опять пришел Феоктист:
– Мы, к сожалению, не можем ходить к Иоанну в гости, потому что он живет почти отшельником и принимает не всех, а только самых близких друзей и родственников. Так уж он сам решил, государь, и тут ничего не поделать. Но ты не огорчайся, ведь Иоанн о нас помнит и всегда молится о тебе и о всех нас!
«Он наврал!» – теперь Михаил понял это совершенно ясно. Иоанн удалился на покой не потому, что «устал от суеты», а потому, что его выгнали… И они ни разу не были у него в гостях не потому, что он принимал не всех, а потому, что его прокляли и ходить к нему в гости было «неприлично» и «недостойно императора», как внушали ему воспитатели, поучая, как себя вести…
Михаил не понимал, так ли уж плохо не чтить икон, но ему казалось, что всё-таки это не может быть настолько плохо, чтобы за это проклинать. «Может быть, эти патриархи сделали еще что-нибудь плохое… Но что?! Мне ничего не сказали… Почему мне ничего не сказали?! Почему Феоктист врал? Они что, думают, что я маленький и ничего не пойму?!..»
Хотелось то ли плакать, то ли драться.
Михаил, однако, проявил терпение, и за трапезой по окончании службы вел себя, как ни в чем не бывало, а зайдя к матери – она уже несколько дней лежала простуженная и не была на литургии, – ничего не спросил у нее. Только когда они с Вардой отправились на послеобеденную прогулку в парк, мальчик сказал:
– Дядя, сегодня на службе пели «анафему» Иоанну… Это ведь владыке Иоанну, который до Мефодия был?
Варда растерялся и не нашелся, что ответить, кроме правды:
– Да.
– За что же его прокляли? Что он такое сделал?
– Он… не поклонялся иконам.
– И всё?! Разве это так плохо, что за это нужно проклинать?
«О, Боже! – подумал Варда. – Цена, уплаченная нами за торжество иконопочитания, продолжает расти! О чем еще он будет спрашивать?.. И что ему отвечать?!»
– Иоанн неправильно учил о Боге, когда объяснял, почему Христа нельзя рисовать на иконах, – ответил он, – и ввел в заблуждение много людей.
Мальчик нахмурился.
– А Бог всех любит, – вдруг сказал он. – В Евангелии говорится, что Он светит на праведных и неправедных! Значит, Он всех любит?
– Да, всех.
– Значит, если даже Иоанн что-то неправильно делал, Бог его всё равно любит?
– В общем, да…
– Как же можно проклинать того, кого Бог любит?!
Этот вопрос привел Варду в полнейшую растерянность. Маленький император смотрел требовательно и строго, он ждал ответа, а его дядя не знал, что отвечать. «Интересно, что ответил бы на это Мефодий?» – подумал Варда.
– Понимаешь, Михаил, – наконец, проговорил он, – некоторых людей проклинают для того, чтобы другие не последовали за их неправильными учениями.
– А откуда мы знаем, что эти учения неправильные? Раньше, когда Иоанн был с нами, ты и тогда думал, что он учит неправильному? И Феоктист? И дед Мануил? А почему тогда Иоанну ничего не сказали?
Вопросы били по самым больным местам, и Варда даже вспотел, пока слушал племянника.
– Понимаешь, – сказал он, – раньше мы думали, как Иоанн, а потом…
– Передумали?
– Потом мы поняли, что думали неправильно. А Иоанн остался с прежними мыслями и потому уехал отсюда жить в своем доме на Босфоре. Переубедить его мы не смогли.
– А почему вы поняли, что думали неправильно? Кто это сказал? – упрямо продолжал спрашивать мальчик.
– Так решили на соборе в Церкви, там собралось много сведущих людей, епископов и священников, и монахов, они молились Богу и просили вразумления… И решили, что иконам нужно поклоняться, потому что это угодно Богу.
– Значит, Бог вразумил этот собор? А Иоанна Он почему не вразумил?
«Хотел бы я сам это знать!» – подумал Варда и ответил:
– Может быть, потому, что он не просил вразумления.
Михаил помолчал и угрюмо спросил:
– А почему Феоктист мне наврал? Он сказал, что Иоанн не принимает гостей и потому мы к нему не пойдем… Сказал, что Иоанн сам уехал из Города… Но ведь его выгнали, да?
– Не то, чтобы прямо выгнали… Просто ему поставили такие условия, которых он не принял, и тогда он вынужден был уехать. А Феоктист… Видишь ли, Михаил, ты ведь был еще маленький тогда, ты бы не понял того, что понимаешь теперь.
– Он мне наврал! – упрямо повторил император. – Мама не врала, а он наврал! – Михаил стиснул кулаки.
Варда присел на корточки и посмотрел в глаза племяннику.
– Михаил, послушай меня. Не говори сейчас с мамой об этом! Она огорчится, она и тогда огорчалась из-за того, что Иоанну пришлось уехать… И я огорчался, и Феоктист тоже, поверь! Просто у нас не было другого выхода… к сожалению. Нужно было восстановить в Церкви почитание икон, а Иоанн не хотел этого… Там и еще были разные обстоятельства, вот подрастешь, и я расскажу тебе, а сейчас ты не поймешь всего… Потерпи еще немного, хорошо? А с мамой не говори об этом, не огорчай ее, ладно?
– Ладно, – мальчик всё еще смотрел немного обиженно. – А Иоанну хорошо живется… там, где он живет?
– О, вполне! – Варда улыбнулся. – Думаю, не хуже, чем нам.
– А то, что его тут проклинают… Это ничего? Он не обижается?
– Нет! – патрикий совсем повеселел, вспомнив рассказ брата о посещении Граматика, когда тот еще жил в Клейдийской обители. – Ты вот у дяди Петроны спроси об этом, он навещал Иоанна однажды… по одному делу. Знаешь, был такой философ в древности, Сократ, и однажды его спросили об одном человеке, который его сильно ругал: «Разве этот человек тебя не задевает?» И Сократ ответил: «Конечно, нет. Ведь то, что он говорит, меня не касается».
Маленький император взглянул на дядю и вдруг звонко рассмеялся: он понял.
…В праздник Рождества Богородицы на литургию в Кассиину обитель пришла знатная женщина с маленькой дочкой. У женщины был вид обычной замужней матроны, но печальная тень на ее лице выдавала тайную скорбь. Девочка – лет семи, зеленоглазая, с рыжими вьющимися волосами – в будущем, как было ясно с первого взгляда, обещала необыкновенную красоту. Мать и дочь причастились Святых Таин, а по окончании службы женщина – звали ее Александра – подошла к игуменье и спросила, нельзя ли с ней немного побеседовать. Кассия пригласила ее разделить с сестрами трапезу, а потом повела к себе в келью. Девочка с любопытством разглядывала всё вокруг, даже под стол в трапезной заглянула, но в целом вела себя тихо, не задавала никаких вопросов ни матери, ни сестрам и рассматривала монахинь как будто даже с некоторой опаской. Сестра Ирина, прислуживавшая за трапезой, поставила перед ней небольшую тарелку с вареными овощами и рыбой и, обменявшись взглядом с игуменьей, сказала:
– Кушай, дочка. Как тебя звать?
– Евдокия.
– Отведай, Евдокия, монашеской пищи, – улыбнулась Ирина. – Наверное, еще ни разу не пробовала?
Девочка не ответила. К концу трапезы в ее тарелочке мало что убавилось. Александра заворчала на нее и стала извиняться перед игуменьей, но Кассия с улыбкой сказала, что это пустяки и Евдокия, быть может, просто не очень голодна.
В келье у игуменьи Александра внезапно расплакалась и рассказала, что почти семь лет назад император приказал постричь ее мужа в монахи:
– Какая-то прорицательница, агарянка из пленных – будь она неладна! – сказала, будто «Ингер будет царствовать». Об этой болтовне сразу донесли во дворец, агарянку допросили, и она снова то же сказала – что Мартинакии, мол, воцарятся… А Ингер Мартинакий это мой муж! Он тогда при дворе служил, и успешно очень… А наследник тогда только родился, и государь, конечно, беспокоился о будущем… Он ведь уж тогда болен был, видно, думал, как без него будут государыня с сыном… В общем, мужа моего под стражу и… – Александра всхлипнула, – увели в Сергие-Вахов и постригли! И сразу на Принкипо! Домой только попрощаться привели… А меня с детьми выселили в Хрисополь! С тремя детьми я осталась, двое своих и пасынок… Господи!.. Правда, государь нас не обидел – повелел выплачивать пособие… Но что деньги, когда дети без отца? И вот, уже семь лет почти, семь лет! Муж-то смирился давно, подвижничает там, на острове… Мы с детьми к нему ездим иногда… Он нам письма пишет, да всё теперь о божественном… А я… всё плачу да ропщу, плачу да ропщу! Ведь как мальчиков без отца-то выращивать? И вот доченька еще, – она прижала к себе Евдокию, которая слушала материнские причитания, надув губы и исподлобья разглядывая игуменскую келью. – Не могу, ропщу! За что?!..
– Да, это тяжело, – сказала Кассия. – Но раз Господь попустил такое, то надо верить, что Он Сам вас и защитит. Иногда со всеми случаются такие испытания, которые кажутся невыносимыми… Невыносимее всего даже не само искушение, а то, что оно не отпускает и неизвестно, пройдет ли оно когда-нибудь, будет ли лучше…
– Да-да, матушка! – закивала Александра. – Это вот самое невыносимое и есть, что живешь и думаешь: вот так оно всё и будет, мужа-то не вернешь, отца детям не найдешь, будто вдовой стала, и ничего не изменишь… А ну, как и со мной что случится – и что тогда с детьми будет? Я, когда об этом думаю, просто вся дрожать начинаю!
– Мы малодушны, да, но Господь это знает и снисходит к нашей немощи. Бывает, Он испытывает нас, чтобы мы что-то поняли в жизни, а когда мы поймем, что нужно, жизнь меняется… Может быть, внешне и до самой смерти ничего не изменится, но внутренние изменения обязательно будут! Твой супруг для мира умер, и твое положение действительно как у вдовы, но ведь в Писании много раз говорится, что Бог – заступник вдов и сирот и в обиду их не даст. Нужно молиться и надеяться на помощь Божию, а роптать поменьше, – игуменья улыбнулась, – если уж совсем не роптать не получается. Вы ведь не нуждаетесь, госпожа?
– Не нуждаемся, но… – тут Александра немного смутилась и быстро продолжала: – Конечно, живем не то, чтобы роскошно, но всё нужное у нас есть… Да вот, нам государыня позволила теперь и в Город снова перебраться!
– Вот и хорошо, значит, Господь о вас печется.
– Да, матушка, но я всё время боюсь, что одна не смогу воспитать детей, как должно… Константин-т, пасынок мой, слава Богу, послушный растет, разумный, никогда слова поперек не скажет, ни одного занятия в школе не пропустит, в церковь на все службы со мной ходит… А вот мой-то, Мартин, уж такой непоседа, иной раз не справиться… И ведь он маленький еще, девять годочков только, а что же дальше-то? Боязно мне… – Александра всхлипнула.
Тут Евдокия внезапно скорчила кислую рожицу и сказала:
– Да Конста всё притворяется! Мартин церковь больше любит, чем он!
– Евдокия! – воскликнула пораженная мать. – Ты что такое говоришь?! Мартина молиться не заставить, в храме вертится всё время… В последний раз так крутился, что и мне молиться не дал нисколько! – Александра обращалась к дочери, но Кассия понимала, что на самом деле она говорила это для нее. – То ли дело Конста… Как ты про него могла так – «притворяется»?!
Евдокия хотела что-то сказать, но, поймав на себе внимательный взгляд игуменьи, чуть нахмурилась и пробурчала:
– Никак! Я, мама, тоже притворяюсь.
– Вот еще, что это за выдумки! – Александра ласково потрепала дочь по голове и улыбнулась Кассии. – Я Мартина-то поначалу баловала слишком, знаю, мой грех… Первенец ведь! А теперь вот, начинаю пожинать терния, как говорится… Думаю часто: хорошо, Константин послушный такой, а то его шалости я не смогла бы так терпеть…
– Может быть, он это понимает, потому и слушается, – сказала Кассия.
Снова взглянув на девочку, она поняла по ее лицу, что угадала. Поняла она и другое: Евдокия сказала правду о «притворстве» Константина. «Хотя дети еще малы, а, пожалуй, тут уже дело далеко зашло, – подумала Кассия. – Но кто знает, вышло бы всё лучше, если б с ними был отец? Кого из сыновей он любил бы больше?.. Спрашивать при девочке о таком не годится… Да и что, в самом деле, я могу посоветовать? Скорее, что-нибудь полезное тут могли бы сказать Евфрасия с Акилой…»
Александра между тем задумалась, и на ее лице снова появилось плаксивое выражение.
– Вот я и боюсь, матушка, – почти жалобно проговорила она, – страх как боюсь, что одному любви не додам, другому строгости… Плохо воспитаю их, а потом с меня спросится!
– Конечно, опасаться этого надо, но в меру, – с улыбкой ответила игуменья. – Излишняя боязнь тоже вредна. И чаще всего она бывает от того, что мы слишком надеемся на свои силы. Но ведь мы сами по себе, без помощи от Бога, вообще ничего не можем делать, как надо – ни семейные, ни монахи, хоть бы у нас было море помощников. А если мы будем терпеть находящие скорби, молиться и стараться соблюдать заповеди, то Бог восполнит недостающее и вразумит, зачем с нами случилось то или другое.
Они неспешно беседовали, и Александра постепенно успокоилась, даже заметно просветлела лицом. Но Кассию не покидало ощущение, что, хотя она говорит разумные и правильные вещи, это совсем не те слова, в которых на самом деле нуждалась эта женщина, – и в то же время игуменья сознавала, что она не может сказать ей ничего, кроме общих ободряющих слов, потому что не знает, как на самом деле обстоят дела в ее семье. Это можно было бы узнать, поговорив со всеми детьми, посмотрев, как они живут, поняв, что делается у них внутри… Но этого, как было очевидно даже из краткого разговора с их матерью, не знала и сама Александра. Значит, если бы даже Кассия могла сказать ей то, что нужно, женщина вряд ли восприняла бы ее слова. А если б и восприняла? Неизвестно, принесло бы это большую пользу.
«Когда-то отец Феодор тоже говорил мне разные правильные вещи, а я соглашалась и старалась жить соответственно… И он был прав, и я… Но сколько всего еще должно было произойти, чтобы я по-настоящему что-то поняла! – подумала Кассия. – Не занимаюсь ли я сейчас пустословием? Вот и Евдокия уже заскучала…»
Девочка к концу беседы действительно заметно соскучилась. Игуменья смотрела на нее и думала, что только один раз в жизни прежде видела волосы такого прекрасного и вызывающего оттенка – огненно-рыжие, они словно окружали голову Евдокии сиянием: такого же цвета была шевелюра Анастасия Мартинакия, давшего ей пятнадцать ударов бичом и совет «поменьше подражать амазонкам»… «Да ведь и они Мартинакии! – внезапно сообразила Кассия. – Уж не родственники ли?.. Занятно!»
– Спаси тебя Господь, мать! – сказала, наконец, Александра, вставая и кланяясь игуменье в пояс. – Правду мне сказали о тебе, когда советовали пойти сюда, что ты умеешь ободрить и утешить… Храни тебя Бог, тебя и сестер, и обитель твою!
– Во славу Божию! – ответила Кассия.
– Даст Бог, матушка, как-нибудь еще зайду сюда… Хорошо у вас тут! – Александра повернулась к дочери. – Попрощайся с матушкой, Евдокия.
Девочка несколько мгновений молча глядела на игуменью, а потом сказала:
– А ты красивая!
– Евдокия! – с укором воскликнула Александра.
Кассия улыбнулась.
– Ты тоже будешь красивой, Евдокия, – сказала она. – Но не в этом главное.
– А в чем? – спросила девочка, бессознательно театральным жестом отводя со лба рыжую прядь.
– Это ты сама должна понять.
Евдокия долгим и серьезным взглядом посмотрела на Кассию и сказала:
– Хорошо, я попробую. А мы еще встретимся?
– Не знаю, – с улыбкой ответила игуменья. – Может, и встретимся.
Мать и дочь ушли, Кассия закрыла за ними дверь кельи и постояла немного в задумчивости. Неясное предчувствие говорило ей, что она еще услышит о рыжеволосой девочке с зелеными глазами. На память ей снова пришел Анастасий Мартинакий. «Что бы он сказал обо мне сейчас?» – вдруг подумала Кассия. Ей вспомнилось, как в юности она воображала себя амазонкой, сидя верхом на лошади и оглядывая окрестные поля с вершины холма, возле которого познакомилась с Акилой. Даже когда она уже избрала свой путь, ее представления о монашестве во многом были продолжением тех же детских мечтаний: манящее сияние подвигов, борьбы и славы… Много лет должно было пройти, прежде чем она поняла, что воображавшийся ей тогда «великий и светлый путь», исполненный непрестанной помощи Божией и чуть ли не каждодневных знамений и чудес – такой же миф, как легенды об амазонках. На деле дорога оказалась далеко не такой прямой, легкой и сияющей, но полной претыканий, блужданий в тумане, иногда шла и по краю пропасти, а помощь Божия наиболее явственным и чудесным образом приходила там, где иссякала всякая сила, всякая надежда на избавление – тогда, когда Кассия чувствовала себя не «амазонкой», а маленькой беспомощной девочкой, потерявшейся в лесу… И на пути к божественному свету, который дано было ей познать, она пережила столько всего, что свои детские представления о монашестве могла вспоминать теперь только с улыбкой – однако без грусти или досады: та восторженность была состоянием духовного младенчества и для «младенца разумом» была вполне естественна, даже нужна… Значило ли это, что Кассия давно перестала быть «амазонкой»? Пожалуй, да, но только в некотором смысле. В других отношениях она была ею всю жизнь – в противном случае она не смогла бы ни устоять перед Феофилом на смотринах, ни создать свою обитель, ни принять духовный совет от последнего ересиарха, ни продолжать дружбу со Львом после его ухода к иконоборцам, ни молиться за императора в то время, когда большинство ее единоверцев ждали его смерти…
«Всё-таки я так и осталась “амазонкой”!» – подумала Кассия и улыбнулась: она была уверена, что Мартинакий был бы этим доволен.
21. «Престол славы»
Никто не терпит того, чтобы быть побежденным в споре, пусть даже он знает, что истинно то, что он слышит.
(Амвросиаст)
После позорно провалившейся попытки обвинить патриарха в блуде противники Мефодия прикусили языки, тем более что отшельник Иоанникий всячески поддерживал святейшего и не только ободрил, когда тот посетил его на Антидиевой горе, но и всем, приходившим к нему, говорил, что противящиеся патриарху идут против Церкви и отлучают сами себя от божественной благодати. Теперь уже мало кто решался открыто критиковать какие-либо действия Мефодия и защищать студитов, по-прежнему живших в своих монастырях под гнетом анафемы. Некоторые из порицавших патриарха клириков и монахов покаялись и просили у него прощения. Выселять непокорных иноков из Студия и Саккудиона Мефодий не стал, сочтя, что так они, осужденные и отгороженные от всех, будут лишены возможности смущать остальных. К тому же логофет дрома дал понять, что разогнать Студийскую обитель патриарху не позволят в любом случае.
– Владыка, – сказал Феоктист, – ты, кажется, забыл, как окончили жизнь те императоры, которые устраивали гонения на Саккудион и Студий, – Константин, Никифор, а потом и Лев. Я не особенно суеверен, но всё же иные уроки, подаваемые нам божественным промыслом, слишком очевидны, чтобы забывать о них. Государь Феофил поручил мне заботиться о том, чтобы царствование его супруги и сына было спокойным и долгим, и я постараюсь приложить все усилия для этого. Я знаю, кое-кто из твоих единомышленников готов даже разогнать обе эти обители, но не думай, что мы это допустим! С тех пор как ты занял кафедру, святейший, ты делал в Церкви всё, что хотел. Тебе уступлено много – может быть, слишком много. И я бы советовал тебе не ждать чего-то большего!
– О, я вовсе не собираюсь закрывать эти монастыри, господин, и ничего у вас более не прошу, – ответил патриарх. – Сделанного вполне достаточно.
Вокруг Мефодия образовалось что-то вроде кружка «книжников». Монахи Свято-Феодоровского монастыря, где скончался святитель Никифор, передали его личную библиотеку в дар патриарху. Там были святоотеческие книги, философские трактаты и хроники, сочинения самого патриарха-исповедника и еще несколько произведений, написанных в недавнее время, в том числе «Хронография», составленная игуменом Великого Поля, и житие игумена Мидикийского Никиты, написанное его учеником Феостириктом, – и теперь Мефодий вознамерился пополнить это собрание новыми сочинениями, прежде всего житиями исповедников времен иконоборческой ереси и похвальными словами в честь их подвигов.
Когда из Самарры в Константинополь дошла весть о кончине сорока двух аморийских пленников, патриарх сразу же объявил, что они умерли как мученики и достойны церковного почитания. Константин Вавуцик в ночь перед их мученичеством продиктовал нотарию Константину письмо, где вкратце описал их жизнь в плену, а в конце говорил: «Написал же я это для того, чтобы все наши родные и братия знали и не сомневались, что мы умерли христианами и за Христа. Да будет с нами святая Его воля!» Агаряне согласились переправить это послание на родину страдальцев. Константинопольцы были потрясены происшедшим, особенно много слез пролилось во дворце. Впрочем, все утешали Софию, говоря, что ее супруг стал святым мучеником и, конечно, не оставит ни ее, ни детей без помощи.
Патриарх написал стихиру в честь новых святых и поручил диакону Игнатию написать им канон. Игнатий после торжества православия оставил преподавание в школе при храме Сорока мучеников и удалился в Пикридиев монастырь. Но спустя полгода патриарх вызвал его в столицу: поскольку Игнатий раскаялся в своем общении с иконоборцами еще в царствование императора Михаила и с тех пор не служил, а жил как простой монах, Мефодий счел возможным даровать ему прощение, как некогда было прощено падение Мидикийского игумена. Игнатий был принят в сане диакона, который имел до начала иконоборчества, а еще спустя год патриарх сделал его скевофилаксом Великой церкви.
«Прекрасно, как река из Эдема, устремившиеся, град Божий вашими кровями веселите, мученики, нечестия скверну благочестно очистивши», – писал диакон. – «Исмаил пребезумный, мнивший убедить богомудрых отречься от Христа, посрамился, ибо те, умирая, благочестно взывали: “Благословен Ты, отцов наших Боже!”».
В своем слове в честь Аморийских мучеников Мефодий сказал, что они, если и согрешили против истинной веры, все свои заблуждения очистили последующими мучениями, и с этим никто спорить не дерзнул. Вскоре получил широкую известность рассказ о чуде с телами страдальцев: на другой день после казни халиф повелел бросить их в Евфрат, а еще через день их всех нашли рядом на противоположном берегу, причем, как говорили, голова каждого из сорока двух мучеников лежала рядом с его телом.
Игнатий взялся и за составление житий патриархов Тарасия и Никифора, а один из насельников Хорского монастыря, по имени Георгий, попросил у патриарха благословения написать хронику «от Адамовых времен до падения последней и злейшей ереси иконосжигателей». Мефодий благословил монаха и предоставил ему разные источники из патриаршей и своей собственной библиотек, но ознакомившись спустя полгода с первыми плодами его сочинительства, понял, что Бог несомненно обделил новоявленного хрониста писательским талантом: Георгий переписывал источники, зачастую довольно неумело соединяя между собой куски, а когда брался за перо сам, на пергаменте появлялись фразы, достойные разве что школьных упражнений… Мефодий даже подумывал положить конец этой писанине, но потом махнул рукой: «В конце концов, может быть, этот его опус будет понятней для простого народа, чем сочинение отца Феофана», – подумал он, и «грешный Георгий», как назвал себя монах в заглавии своего сочинения, продолжал усердно «трудиться во славу Божию»…
Но Мефодию не суждено было насладиться покоем и книжными занятиями. Новый всплеск недовольства вызвало дело архиепископа Сиракузского. Григорий поступил опрометчиво, рукоположив священника Захарию в епископа Тавроменийского. Захария был послан патриархом с письмом к Римскому папе и задержался там, а на обратном пути, узнав, что на Сицилии наконец-то появился православный предстоятель, заехал на остров познакомиться с Григорием. Асвеста привел его в восторг; архиепископу, в свою очередь, понравился Захария, и Григорий спросил патриарха в письме, может ли он рукоположить иеромонаха на одну из сицилийских кафедр – нехватка духовенства была самой значительной из трудностей, ожидавших Асвесту на острове. Поначалу Григорию приходилось самому объезжать все окрестные города и селения, изгонять иконоборцев, утверждать иконопочитание, рукополагать православных клириков. Помимо того, что это отнимало много времени и сил, такие поездки были весьма опасны, поскольку по острову бродили арабы, то и дело появляясь и возле Сиракуз.
Военные дела на Сицилии вообще в последние годы шли неудачно, и восстановление иконопочитания ни к каким успехам в деле борьбы с варварами здесь не привело. Правда, вслед за неудачным походом Феоктиста и Варды в Каппадокию императрице удалось заключить мир с Васиком, который тоже не был расположен к военным действиям, поскольку халифат после смерти Мутасима раздирали внутренние смуты. Вскоре после гибели в Самарре сорока двух мучеников начались переговоры об обмене пленными. Он состоялся в сентябре на реке Ламис: было решено менять человека на человека, а поскольку пленных арабов оказалось больше, чем ромеев, Васик приказал для обмена выкупить проданных в рабство греков в Багдаде и Ракке и даже вывел из своего дворца греческих пленниц. Перемирие на востоке развязало ромеям руки для действий на западе, но сицилийская война продолжала идти столь же неудачно, как и при Феофиле: арабы захватили Мессину и крепость Модику, а ромейское войско из Харсианской фемы, посланное на остров, потерпело поражение и не смогло совершить ничего сколько-нибудь значительного.
В таких обстоятельствах требовалось больше епископов для окормления православных на Сицилии, поскольку передвижение по острову в связи с военными действиями всё более затруднялось, а христиане унывали, видя победы иноверных. Получив согласие патриарха на рукоположение Захарии, Асвеста поставил его епископом в Тавромению, но неожиданно против нового иерарха восстали сами тавроменийцы: большинство из них хотели видеть своим предстоятелем игумена одного из тамошних монастырей, а Захария, как «чужак», не вызывал у них доверия. Впрочем, часть паствы, из уважения к Сиракузскому архиепископу, приняла Захарию, но его противники не хотели с этим смириться и отправили в Константинополь посланцев с жалобой на Асвесту, что тот не посчитался с их мнением при выборе ставленника и даже не потрудился узнать это мнение; некоторые предполагали, что Захария подкупил архиепископа. Патриарху не хотелось поднимать это дело, тем более что он знал Захарию как человека высокой жизни и деятельного, и он попытался успокоить возмущенных тавроменийских клириков. Ему это почти удалось, но, к несчастью, слух о «преступлении» Григория быстро распространился по столице, а недоброжелатели и завистники Асвесты постарались его раздуть как можно сильнее: говорили, что Сиракузский архиепископ самовольничает, рукополагает архиереев без одобрения своих собратий и паствы, он обманным путем улучил согласие патриарха на рукоположение Захарии, запятнал себя симонией… Мефодий был вынужден устроить соборное разбирательство и вызвал Григория в Константинополь.
На соборе Асвеста без обиняков разъяснил причины своего проступка и повинился в том, что действительно поторопился с рукоположением Захарии: тот казался настолько пригодным для епископского служения и таким приятным в общении, что архиепископу не пришла в голову мысль о возможном недовольстве тавроменийцев. В завершение своей речи Григорий выразил готовность понести епитимию, какую будет угодно назначить собору. Хотя речь его была краткой, к ее концу симпатии большинства собравшихся были на стороне молодого иерарха. Григорий обладал удивительной привлекательностью: уверенность в себе, но без высокомерия, ум и глубокая образованность, ясно отражавшиеся в речах, прекрасные ораторские способности, аскетизм, никому не позволявший упрекнуть Асвесту в чем-нибудь предосудительном и недостойном монаха, сдержанность, сквозь которую, как огонь через матовое стекло, проступали горячность нрава и ревность о вере, внутреннее смирение, сочетавшееся с природным аристократизмом и утонченностью, – всё это вместе с его внешностью создавало вокруг архиепископа словно магнитное поле, и очень многие, сталкиваясь с Григорием, быстро подпадали под обаяние его личности. Зато те, на кого его магнетизм не действовал, напротив, проникались к Асвесте более или менее сильной неприязнью; несколько таких людей было и среди собравшихся разбирать его дело епископов. Они настаивали на том, чтобы в наказание удалить Григория с Сиракузской кафедры и отправить на покой в монастырь, причем вспомнили и то обстоятельство, что он был рукоположен в епископа раньше указанного в канонах возраста – и вот, как и следовало ожидать, «не справился»… Это было уже косвенное обвинение в адрес патриарха, но Мефодий, выступив, положил конец прениям.
– Братия, – сказал он, – мы уже выслушали объяснения владыки Григория; полагаю, они вполне удовлетворительны, и его проступок заслуживает снисхождения. В любом случае предложение удалить его с кафедры мне представляется совершенно неразумным. Вы все хорошо знаете, что мы обязаны владыке восстановлением православия на Сицилии, и уже одно это должно побудить нас простить его и позволить вернуться к своему служению. Когда нечестивый Феодор Крифина противился постановлениям нашего священного собора и продолжал отвергать святые образа, не находилось никого, кто вызвался бы порадеть о сицилийских христианах. Никто из вас не предложил мне выхода из трудного положения, когда я искал, кого бы поставить на Сиракузскую кафедру. Поэтому, чем порицать владыку Григория за его молодость, не лучше ли задуматься о том, что в таких молодых годах он сделал больше иных зрелых мужей? Кроме того, позволю себе напомнить случай из жизни преподобного и богоносного отца нашего Феодора Сикеонского: он был рукоположен в священника в возрасте восемнадцати лет, и рукоположивший его епископ в ответ на порицания говорил, что великий апостол Павел удостоил святого Тимофея епископства, несмотря на его молодость, поскольку надо обращать внимание, прежде всего, не на возраст, а на душевное благородство. Итак, я призываю всех вас, братия, «не судить по наружности, но судить судом праведным», как заповедал нам Господь!
Таким образом, дело Асвесты было закрыто, и Григорий вернулся в Сиракузы. Его огорчало лишь то, что он снова был вынужден расстаться с патриархом, которого полюбил, как второго отца. Впрочем, они с Мефодием постоянно переписывались – архиепископ обращался к нему за советами, как относительно пастырской деятельности, так и по поводу собственной духовной жизни. Но после отъезда Григория толки о нем и о «покрывавшем» его патриархе продолжали ходить по Городу и окрестностям. Особенно возмущались противники «иностранцев», а некоторые порицали Асвесту за то, что он «слишком мудр, только не мудростью божественной». Последних раздражали проповеди молодого архиепископа, слышанные константинопольцами за те полтора месяца, что он провел здесь. Кое-кому казалось, что он нарочито превозносится своей образованностью, слишком уж выставляя ее напоказ: Григорий с легкостью перемежал свою речь как цитатами из Писания и выдержками из творений отцов Церкви, так и аллюзиями на эллинские мифы, и случаями из жизни древних философов – сиракузцы недаром сравнивали архиепископа с Григорием Богословом. Сочувствующие студитам тоже недолюбливали Асвесту: он не присутствовал на соборе, где было решено анафематствовать сочинения преподобного Феодора против патриархов-исповедников, но прислал письмо – пламенную речь в защиту решения Мефодия, и впоследствии патриарх использовал ее для убеждения сомневающихся и даже своих противников. Хотя в Константинополе в последнее время недовольные опасались открыто выражать свое мнение, однако на Принцевых островах монахи вели себя смелее: за годы, когда на Принкипо было погребено тело великого игумена, почти весь архипелаг наполнился его ревностными почитателями, и островные монастыри, как мужские, так и женские, были чрезвычайно поражены и возмущены действиями патриарха после перенесения мощей святого Феодора: никто не хотел понимать, какие соображения двигали Мефодием, почти все воспринимали его прещения против учеников прославленного Студита как оскорбление верующих и даже самого Бога…
Центром этого недовольства – впрочем, не доходившего до разрыва общения с патриархом – был монастырь на острове Теривинф, созданный младшим сыном императора Михаила Рангаве Никитой, получившим в постриге имя Игнатий. Сначала он жил вместе с отцом и братом на острове Плати и к концу царствования императора Льва стяжал известность среди местных монахов своими иноческими подвигами. Михаил, постригшись, безвыездно прожил на Плати тридцать с лишним лет и умер спустя десять месяцев после торжества православия, найдя на маленьком пустынном островке последнее пристанище; только памятная надпись на скромной надгробной плите над могилой монаха Афанасия сообщала, что там лежит бывший император ромеев. Старший сын императора тоже не покидал Плати, но младший стремился к деятельности более обширной: вскоре после воцарения Феофила он основал на острове собственный монастырь, затем второй на Иатре и, наконец, третий на Теривинфе, где и стал игуменом. Игнатий и его монахи всегда чтили иконы и не поминали иконоборческих патриархов, но в открытую борьбу с ересью не вступали, довольствуясь проповедью среди местных жителей и тех, кто сам приходил к ним за советом, поэтому Игнатий избежал преследований и за тридцать лет, протекших от воцарения Льва до торжества православия, почти не покидал монастырских стен. Отчасти его спасло от гонений то, что все монастыри, где он подвизался, находились на малых островах архипелага и их нечасто посещали. Игнатий попал в монашеское окружение четырнадцатилетним ребенком, не получив достаточного образования, а дальнейшее его обучение состояло в чтении псалмов, Священного Писания и аскетических сочинений. Это, однако, нисколько не смущало его, ведь мирская образованность не входила в число добродетелей, прославлявшихся в прочитанных им духовных книгах, а слухи об «эллинствующих» начальниках ереси Антонии и особенно Иоанне не способствовали появлению симпатии к знаниям такого рода. После торжества православия Игнатий стал нередко бывать в Константинополе, и патриарх, видя его простоту и прямолинейность, общался с ним тоже просто и прямо, поэтому игумен симпатизировал Мефодию – по крайней мере, до начала раскола со студитами. Но проповеди Асвесты, которые игумену довелось услышать еще до рукоположения италийца в епископы, когда Григорий был священником и числился в патриаршем клире, вызвали у Игнатия острое раздражение. Было ли это следствием загнанной много лет назад глубоко внутрь горечи от сознания, что устроенный Львом Армянином переворот положил конец только начинавшейся жизни юного Никиты, который мог бы при других обстоятельствах пройти свой путь совсем иначе? Или, быть может, следствием понимания того, что Игнатий никогда не сможет говорить так, как Асвеста, потому что поворот судьбы лишил его возможности получить образование, тогда как Григорий являл собой разительный пример умения совмещать благочестие с той внешней мудростью, чьи дары обошли Теревинфского игумена стороной?.. Как бы то ни было, Игнатий невзлюбил Сиракузского архиепископа и считал его просто «баловнем судьбы», плывшим на волне патриаршего благоволения. Впрочем, теперь и сам патриарх вызывал у игумена больше раздражения, чем почтения. Правда, Игнатий молился, чтобы Бог вразумил Мефодия и чтобы уничтожились несправедливые прещения, постигшие студийскую братию, но ему поневоле думалось, что всё случившееся может исправить только одно – смерть патриарха…
Между тем патриарх, как бы спокойно и жестко он ни проводил внешне в церковную жизнь свою линию, внутренне не всегда ощущал ту уверенность, что в годы страданий за веру давала ему силы переносить все лишения. Всё чаще он чувствовал в душе усталость и его посещали сомнения, не перегнул ли он палку: ведь, несмотря на прещения, студиты так и не сдались, а многие православные скрытно или явно поддерживали их или сочувствовали им. Патриарху было известно, что игумены Навкратий и Афанасий, оба бывшие уже в очень преклонных летах, изъявили готовность умереть под анафемой и не боялись этого, а некоторые из студийских братий уже покинули земную жизнь, так и не сделав шага к «примирению с Церковью». Конечно, всё это можно было объяснить «злостным упрямством схизматиков», но…
Шел четвертый год патриаршества Мефодия, и «престол славы», о котором когда-то пророчил ему Сардский архиепископ, всё чаще давил на патриарха тяжелым бременем. Да, победа в войне с ересью оказалась большим испытанием, чем сама война, – но когда Мефодий говорил об этом Никейскому митрополиту, он еще сам не осознал сполна правоты своих слов…
Тем временем прежние соратники по борьбе один за другим покидали поприще жизни. Симеон умер на Лесбосе вскоре после того, как прибыл туда из столицы. Феофан Начертанный скончался спустя два с половиной года после торжества православия и был похоронен, с позволения патриарха, в Хорской обители рядом с покоившимся там святителем Германом – «исповедник рядом с исповедником», как сказал Мефодий, лично совершив погребение митрополита. Синкелл Михаил не намного пережил своего ученика. Проведя, по своему обычаю, весь Рождественский пост в безмолвии и молитве, накануне праздника старец получил откровение о своей скорой кончине и сообщил об этом патриарху. Мефодий просил Михаила пребыть с ним до смерти, и синкелл, не желая проявлять непослушания, действительно провел у патриарха пять дней, побывав также во дворце и благословив августу, маленького императора и его сестер.
– Благоденствуйте, владыки земные, – сказал им синкелл, – и не забывайте Владыку небесного, Господа Иисуса Христа, оберегайте Церковь Его от всякой ереси и не отвергайте Его икон. И вот, говорю вам, веруя во Христа моего и Бога, что со всеми святыми вы удостоитесь царствия небесного, вместе со святыми Константином, Феодосием и Елизвоем, христианнейшими, православными и божественными владыками, потому что вы вернули невесте Божией, апостольской Церкви, ее иконную красоту!
Синкелл, однако, не остался с патриархом до конца, но всё-таки попросил отпустить его умереть в своем монастыре и, проведя еще пять дней в молитвах, простился со всей хорской братией и скончался с молитвой: «В руки Твои предаю дух мой». Патриарх сам отпел его, и исповедника погребли в монастыре рядом с его учеником-песнописцем. «Удалось ли нам воспитать новое поколение, которое сможет защитить и закрепить то, что мы выиграли в борьбе? – думалось Мефодию. – Справится ли оно, когда мы все уйдем?..» В таких, как Сиракузский архиепископ, патриарх мог быть уверен – но много ли их было?..
Хотя Мефодий никому не жаловался на печаль и раздумья, донимавшие его в последнее время, поддержка вскоре пришла к нему от старого друга и наставника: в конце октября патриарх неожиданно получил письмо от отшельника Иоанникия. «Я, владыка, – писал старец, – никогда не дерзал просить тебя придти ко мне, недостойнейшему, но это было твоим благим делом, когда Всесвятой Дух побуждал тебя посетить нас и увещевать к добродетели поощрительными речами. Ныне же, одолеваемый великой нуждой, подвигаемый от Бога, я сам возжелал написать святому моему владыке придти к нам, грубейшим, чтобы принять твои молитвы и отойти в мире». Сначала это письмо опечалило патриарха: еще один сподвижник готовился перейти в мир иной, причем человек, лучше других знавший все трудности и скорби Мефодия и способный его утешить. Но когда патриарх прибыл на назначенную встречу в Агаврскую обитель, он нашел там собранными множество клириков, монахов и даже некоторых епископов. Оказалось, что Иоанникий пригласил их, и теперь все, переглядываясь, гадали, какие чрезвычайные обстоятельства могли подвигнуть отшельника на подобные действия. Старец спустился к ним, и всем сразу стало понятно, что он вот-вот покинет земную жизнь – в его облике было что-то нездешнее: слишком сухой, слишком седой, с кожей, похожей на папирус; слишком костлявы были пальцы, сжимавшие палку, на которую он опирался, но не тяжело, потому что в нем словно уже не было веса… Поприветствовав всех и приняв благословение от патриарха, Иоанникий еще раз обвел взглядом пришедших и сказал:
– Я собрал всех вас, отцы и братия, потому что готовлюсь уже покинуть этот мир и, зная о нападках и хулах еретиков и схизматиков на нашего святейшего патриарха, скорблю сердцем и печалюсь о том, что нечестивые и самолюбивые люди сеют плевелы в Церкви, соблазняют верующих во Христа и причиняют скорби нашему влыдыке. И хотя, по слову Господа, суд их будет столь страшным, что лучше б им было утонуть с жерновом на шее, ни они сами не страшатся возвещенных прещений, ни те, кто склонен сочувствовать им в их дерзких деяниях. И потому сегодня, перед лицом владыки Мефодия я, недостойный, дерзаю обратить к вам мое смиренное слово. Послушайте, все вы, пришедшие в эту пустыню, и возвестите услышанное в городах и селениях! Отцы наши учили не иметь никакого общения ни с еретиками, ни с раскольниками, и я, недостойный, ничтожный и неученый, ныне говорю вам: удаляйтесь и от нечестивых еретиков, и от гнуснейших студитов, от сущих с ними Катасаввского игумена и изгнанных от предстоятельства в Никомидии и Кизике, изрекших много пустой болтовни против нашего патриарха и не имеющих страха Божия, потому что они дерзнули пойти против Божией Церкви. Они, злосчастные, не вострепетали, восстав против святых отцов и патриархов, учинив соблазн в Церкви, сыны лукавого и плевелы. И если кто не принимает Мефодия патриарха, как великого Василия, богоглаголивого Григория и божественного Златоуста, анафема да будет! И если кто разрывает общение с ним, тот будет отторгнут от Божией славы в день суда! Ибо наш богоносный патриарх Мефодий должен считаться началом, корнем и основанием православной веры, потому что он изгнал из Церкви все направления заблуждений и богомерзкую иконоборную ересь. Потому-то даже до нынешнего дня поносят его те, кто покровительствует еретикам и разделяет Тело Христово. И те, которые говорят, что не согласны с еретиками, но учиняют расколы, тоже бесстыдно противятся православным, сами желая господствовать над наследием Божиим. Вы же, чада, отделенные от иконоборцев, и от раскольников удаляйтесь, ибо они бесчеловечно рассекают на многие части Христово тело – святую Его Церковь! Кто сообщается с еретиками и раскольниками, тот не имеет общения со Христом! Кто злословит владыку Мефодия, будет отсечен от Церкви! Кто не считает его в ряду патриархов со святыми Германом, Тарасием и Никифором, тот отпадет от их заступничества! – и, обратившись к патриарху, старец возгласил: – Кто восстает против тебя, святейший, то восстает против Бога и против своего спасения. Ты же, владыка, переноси обиды великодушно. Моя жизнь в этом бренном теле окончена, а скоро и ты последуешь за мной. Помни же, что «претерпевший до конца спасен будет»!
Мефодий был потрясен и растроган. Все пришедшие к Иоанникию наперебой устремились взять благословение у патриарха и выразить ему свою поддержку, почтение и любовь. Потом, когда все разошлись, старец еще долго наедине беседовал с Мефодием, всячески ободряя его и увещевая не впадать в малодушие от поношений и озлоблений.
– Не унывай, владыка! – говорил он. – Враг, видя, что ты уже близок к концу поприща, пытается смутить тебя: наводит скорби через людей, гнетет и сам унынием и печалью. Но «не неразумеем козней его»! Всегда я, грешный, молился о тебе, чтоб Господь укрепил тебя, а теперь отхожу и прошу тебя, святейший: молись обо мне, недостойном, чтобы неосужденно предстать пред Богом! – и, видя, что в глазах патриарха заблестели слезы, продолжал: – Не скорби о моем исходе, владыка, ибо я уповаю, что милостивый Господь сподобит нас с тобой свидания в небесном царствии!
Иоанникий умер спустя три дня после этой встречи, 4 ноября, и был погребен в Антидиевом монастыре. Когда патриарх узнал об этом из письма от тамошнего игумена Иосифа, он перекрестился и прошептал:
– Поминай меня, грешного, отче, пред Богом, чтобы мне сподобиться встречи с тобой и со всеми исповедниками во царствии Его!
…На Введение во храм Пресвятой Богородицы Кассия с Анной побывали в гостях в Клувийской обители, где в этот день был престольный праздник: их пригласила игуменья Евфросина, с которой Кассия изредка переписывалась еще со времени кончины стратига Феодота, свекра Евфрасии. Евфросине шел уже седьмой десяток лет, в последний год она сильно страдала от болезни желудка и, готовясь переселиться в мир иной, хотела проститься с Кассией. После литургии и трапезы обе игуменьи удалились в кельи Евфросины, а Анна пошла взглянуть на монастырскую библиотеку и вообще осмотреть обитель, где была впервые.
– Оглядываясь на свою жизнь, – сказала Евфросина Кассии, – я могу только благодарить Бога за всё: Он сподобил меня послужить Ему в ангельском образе, сохранить православную веру в годы гонений, знать таких великих подвижников как святые Феодор и Иоанникий, дожить и до торжества православия… Только одно меня печалит теперь, при исходе – что ученики великого Феодора оказались так неразумны, восстали против святых патриархов и отпали от Церкви. Всё-таки насколько враг хитер: запинает даже великих исповедников и подвижников, даже в глубокой старости… Могла ли я думать, что отец Навкратий попадет под анафему!
– Думаю, этого и никто не мог предполагать, – вздохнула Кассия. – Но я вовсе не считаю отца Навкратия неразумным. Надеюсь, что Господь еще поможет ему и его братии и восстановит справедливость!
Евфросина удивленно посмотрела на свою гостью.
– Ты считаешь, мать, что студиты поступили правильно, воспротивившись указам святейшего?
– Конечно. Патриарх потребовал от них невозможного! Если б он еще просто приказал уничтожить писания святого Феодора против двух святителей, это можно было бы исполнить, но ведь он сделал это потому, что отец Феодор якобы ошибался, когда отделялся от патриархов из-за дела эконома Иосифа, а патриархи были правы. Этого не только студийская братия, но и многие другие никогда не признают, и я тоже. Но я надеюсь, что Бог вразумит владыку Мефодия… или прекратит эту смуту каким-нибудь другим путем, – совсем тихо докончила Кассия.
– Вот не ожидала от тебя таких речей, мать, – проговорила Евфросина. – А ты знаешь, что великий Иоанникий перед смертью публично предал анафеме студитов за противление святейшему?
Кассия чуть заметно нахмурилась.
– Отец Иоанникий слишком много на себя взял, – сказала она. – Кто вообще дал ему право анафематствовать кого бы то ни было, да еще от лица Божия? – Кассия помолчала и, не выдержав, добавила: – Я уж не говорю о том, что он почти всю жизнь просидел на горе, в мире и покое, а теперь дерзнул проклясть подвижников, претерпевших бичевания, тюрьмы и ссылки за образ Христов!
– То есть… – ошарашено проговорила Евфросина. – Ты что, матушка, не признаёшь его святости и того, что в нем говорил Дух Божий?!
– Я не знаю, какой дух в нем говорил, – в голосе Кассии появилась жесткость, – и даже не хочу этого знать. Святейший сказал, будто преподобный Феодор отрекся от своих взглядов на дело эконома Иосифа, когда примирился со святителем Никифором, но это неправда! Хорошо еще, если владыка Мефодий, говоря так, просто ошибается и не знает истины, в противном случае вышло бы, что он сознательно оболгал святого… Разве ты, мать, сама не знаешь, что отец Феодор от своих взглядов никогда не отрекался?
Евфросина чуть помолчала.
– Знаю, – ответила она тихо. – Может, владыка Мефодий и ошибся в этом случае… Но ведь сейчас дело не в святом Феодоре, а в его преемниках! Что стоило отцам Навкратию и Афанасию сжечь эти несчастные трактаты? В конце концов святейший не заставлял их исповедовать во всеуслышание, что преподобный Феодор ошибался в вопросе о прелюбодейном браке… Почему бы им не явить снисхождение в этом споре, чтобы лишний раз не разделять Церковь? Но они не захотели… И вот, опять смута! Всё же мне кажется, тут дело не столько в почтении к памяти отца Феодора, сколько в самолюбии… Потому, думаю, отец Иоанникий и объявил их действия пагубной схизмой. Ты говоришь, что не знаешь, какой в нем дух глаголет, но разве в этом можно сомневаться? Отец Иоанникий был чудотворцем и прозорливцем, и на его могиле уже совершаются чудеса!
– И что это доказывает? – возразила Кассия с горячностью. – Сам Господь предрек: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не Твоим ли именем мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, творящие беззаконие». Ты, матушка, помнишь, как Златоуст толкует это место?
– Нет.
– Он говорит, что это сказано о тех, которые при жизни мнят себя друзьями Божиими, но на суде узнают, что Господь «даровал им благодать не как друзьям». И что ничего нет удивительного, если Бог дает дары благодати людям, верившим в Него, но не имевшим жизни, согласной с верой – ведь «Он действует и в тех, кто не имел ни той, ни другой»: например, Бог ради спасения других людей открыл будущее Валааму и фараону, хотя у них не было ни истинной веры, ни добродетелей. Вот цена чудес и прозорливости самих по себе! Кстати, небезызвестный тебе господин Лев, бывший иконоборческий архиепископ Солунский, тоже прославился среди своей паствы несколькими чудотворениями, и я доподлинно знаю, что рассказы об этом верны.
Ефвросина некоторое время молча смотрела на Кассию и, наконец, сказала печально и немного усмешливо:
– Умна ты слишком, мать. Тебя послушать, так господин Иоанникий и вовсе не свят! Только, знаешь, здесь я с тобой никогда не соглашусь – так же как и сотни людей, приходивших к нему и получавших исцеление души и тела. Даже сам владыка Мефодий посещал его!.. Я чтила отца Феодора и получила от него много полезных советов, но и от отца Иоанникия я получила верное предсказание и несколько наставлений, которые мне очень пригодились. Я считаю, что они оба святы! А что до отца Навкратия… Он, конечно, великий исповедник, но разве он не мог ошибиться, как человек?
– Разумеется, мог. Но точно так же мог ошибиться и отец Иоанникий, когда проклинал студитов. Я не знаю, свят он или не свят, и не буду говорить об этом. Речь сейчас о том, что он анафематствовал отцов Навкратия, Николая и других братий. Так вот, я считаю, что это совсем не святое деяние, и никто не убедит меня в обратном, – Кассия чуть помолчала. – Мне, право, совсем не хочется ссориться с тобой, матушка. Будущее покажет, кто был прав, а кто ошибался.
– Да будет воля Божия! – проговорила Евфросина. – Надеюсь, что на небесах… все эти противоречия и непонимание… как-то разрешатся…
– Да, только на это, кажется, нам и осталось теперь надеяться, – вздохнула Кассия.
(Янка Дягилева)
- Нелепая гармония пустого шара
- Заполнит промежутки мертвой водой,
- Через заснеженные комнаты и дым
- Протянет палец и покажет нам на двери,
- Отсюда – домой…
Ободренный Олимпским подвижником, патриарх более не сомневался в избранном пути: смирятся или не смирятся студиты и их сторонники, уступать им он не собирался ни на йоту. Ради еще большего прославления памяти святителя Никифора, Мефодий решил давно задуманное им перенесение мощей патриарха из Свято-Феодоровой обители в столицу совершить как можно более торжественно. В первое воскресенье Великого поста после литургии он обратился к императрице с речью.
– Не подобает державе и государству, – говорил Мефодий, – более того, будет весьма неприлично и неблагоприятно, если мы не потщимся перенести в Город богоносное тело почтенного и знаменитого в патриархах Никифора, который ради всеславной и непорочной веры был изгнан со святительского престола и закончил жизнь в длительной ссылке, чтобы нам не показаться настолько неблагодарными по отношению к нему, что мы и после смерти оставили его без чести, как бы под тем же приговором изгнания. Не потерпим же дальше видеть, как чада благочестия, вскормленные божественными поучениями святого Никифора, оплакивают разлуку с отцом и как прекрасный и царственный Город, превосходнейший в поднебесной, знавший его первоверховным вождем, пребывает лишенным его драгоценных мощей – ибо они, безусловно, станут для него крепким охранением и защитой. Пусть же Церковь вернет своего жениха и, богопослушным мановением пастырелюбивой государыни, достигнет через перенесесение тела посмертного соединения с тем, кто при жизни был отнят у нее тиранической рукой беззаконновавшего императора. Ведь ты видишь, августейшая, как эти люди, благодаря тебе обретшие единодушие и единомыслие, горячо стремятся слышать голос своего духовного пастыря даже после его смерти. Если только они увидят, как к ним возвращаются его останки, они сочтут, что получают обратно его самого, и будут хранить его как поселившееся у них неприкосновенное сокровище и многожеланное богатство.
– Я, священный владыка, – ответила августа, уже знавшая, с какой просьбой обратится к ней патриарх, – совершенно согласна с тобой и думаю, что необходимо как можно скорее почтить святого Никифора перенесением его честных мощей в наш Город, устроив радость всем верным. Через это не только Церковь обрадуется возвращению своего пастыря, а Город обретет защиту и покров, но слава об этом будет идти и в нынешнем, и в будущем поколениях, к величайшему благополучию меня и моих детей. Поспеши же, владыка, исполнить задуманное и не сомневайся, что будешь иметь моего сына и меня содействующими тебе в этом благом деле!
Перенесение мощей патриарха-исповедника Мефодий задумал приурочить к годовщине изгнания святителя из Города – 13 марта. Патриарх вместе со своим клиром и множеством игуменов и монахов столичных обителей отправился в монастырь мученика Феодора, где перед гробом святого вознес во всеуслышание моление:
– О, блаженнейший, ты приобщился святому Иоанну Златоусту в таких же испытаниях, как выказавший ту же ревность и дерзновение, что и он, и претерпевший одинаковые с ним лишение престола и смерть на чужбине! Подай же ныне себя нам, сердечно жаждущим твоего возвращения, переселись отсюда и вернись к себе, чтобы и твое перенесение, как некогда Златоустово, отцелюбивый народ встретил с ликованием. Некогда отчужденный от Бога император противостал тебе и безрассудно изверг тебя из Церкви – и понес достойную кару, злосчастной кончиной извергнутый из власти и из жизни и пожавший плоды своего злонравия. Ныне же императоры, близкие к Богу благочестивыми нравами, отдают тебе Церковь даже умершему и, словно усыновленные тобою через Евангелие, представляют ее тебе вместе со мной «не имеющую пятна или порока», какой ты и оставил ее когда-то. Взгляни и узри собравшихся чад твоих, пришедших сюда, и других, ожидающих вдалеке твоего возвращения к ним, не оставь их мучиться и страдать от твоего отсутствия! Пусть же Город твой владеет твоим всеблагодатным телом прежде любого другого драгоценного приношения, гордясь им и всеблаголепно радуясь, и похваляясь им более, нежели царским величием!
Патриарх совершил всенощное бдение и литургию в монастырском храме, после чего тело святителя Никифора было поднято из могилы. Когда гроб открыли, тело оказалось нетленным и целым, несмотря на прошедшие со дня кончины святого девятнадцать лет. Мощи переложили в драгоценную раку и перенесли на борт дромона, предоставленного императрицей. Когда корабль достиг городской пристани, там мощи встречали император, августа, синклитики и прочие придворные. Тело святого под непрерывные псалмопения было перенесено в храм Святой Софии, где простояло несколько дней, причем патриарх ежедневно совершал там бдения и литургии, а множество народа из Города и окрестностей приходило поклониться мощам. Наконец, в воскресенье мощи были с крестным ходом торжественно перенесены в храм Святых Апостолов и положены в сделанную для святителя Никифора гробницу. На крестный ход сошлось множество людей всякого возраста и положения – мужчин, женщин, детей: они теснились даже в переулках, а некоторые залезали на крыши домов, чтобы увидеть шествие. Патриарх постарался обставить погребение святителя как можно торжественнее, так что пышности процессии удивлялись почти все константинопольцы, привычные ко всякого рода праздничным шествиям. Поговаривали, что Мефодий хотел таким образом затмить бывшее за три года до этого перенесение мощей Студийского игумена, а кое-кто предполагал, что патриарх хотел представить это торжество как покаяние императорской власти перед церковной… Как бы то ни было, празднование удалось на славу, и еще много дней к гробнице святителя прибывали паломники из окрестных городов и селений, а то и из дальних концов Империи.
Кассия добралась до храма Апостолов, чтобы помолиться святому патриарху, спустя несколько дней. В ее душе было больше горечи, чем радости, и она просила святителя как-нибудь умирить Церковь и положить конец длившемуся уже два года разделению. Во дворе храме она неожиданно встретилась со Львом.
– Что, мать, ты не очень-то рада нынешним торжествам? – спросил он у игуменьи, когда они поприветствовали друг друга.
– Да, кроме самого открытия мощей, радостного мало, – тихо ответила она. – «Исчезнет радость от пиршества светлого, ежели зло торжествует!» Неужели это никогда не кончится?..
– Всё, что дано, может быть отнято, в том числе жизнь.
Кассия подняла глаза на Философа:
– Ты думаешь… патриарх скоро умрет?
– Господь так или иначе пытается вразумить человека, – ответил Лев, задумчиво глядя вдаль, – но если он не вразумляется, что еще остается? Только забрать его из жизни, чтобы он не сделал еще больших ошибок. «Он был взят, чтобы злоба не изменила разума его»… Конечно, святейший много сделал для православия, но, увы, похоже, не выдержал бремени победы…
– Возможно, он еще передумал бы, если б не отец Иоанникий! Ты ведь знаешь, что он сказал за три дня до своей смерти?
– Да… Что ж, посмотрим, чем всё это окончится. Разумеется, я не пророк, но у меня есть предчувствие, что это не продлится долго, – Лев помолчал. – И при всем этом, как ни странно, я нисколько не сомневаюсь в святости жизни отца Иоанникия или владыки Мефодия. Их можно понять, так же как и студийскую братию… Думаю, при таких неприятных размолвках мы сталкиваемся с ограниченностью человеческой природы, только и всего. Но ведь на небесах всё то, что от людской немощи, заблуждений и пристрастий, уже перестанет иметь значение, а останется только непреходящее, только то, что действительно от Духа Божия. Мне кажется, нам для утешения этого довольно!
– Наверное, – ответила игуменья. – Только всё равно грустно… Почему-то людям так трудно бывает понять друг друга! С этим нелегко смириться… В юности я даже не предполагала, что может быть такое взаимонепонимание ежду теми, кто подвизается ради одной и той же цели, исповедует одну веру… Казалось, все единоверцы должны друг друга понимать и любить… А теперь, наоборот, после всего пережитого кажется, что взаимопонимание – такая редкость, что на него не стоит даже рассчитывать, а если оно бывает, воспринимать, как чудо. Но это, наверное, неправильно – слишком мрачно выглядит… А ведь сказано: «будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны»… Где это всё у нас?.. Неужели для единодушия непременно нужны гонения?!
– Вряд ли непременно. Периоды «неблаговерия», на которое сетовал святой Григорий, бывают по временам, но они проходят. Думаю, надо смотреть на всё это немного со стороны и спокойно заниматься порученными нам от Бога делами, а там, глядишь, тучи и рассеются! – Лев улыбнулся. – Не грусти, мать! Как говорил Марк Аврелий, «пусть не увлекает тебя ни чужое отчаяние, ни ликование». Если уж мы избрали философскую жизнь, то должны стараться иметь и разум философа – «вне человеческой суеты и обращенный к божественному». Это наш дом, а всё, что вокруг, будь то хорошая погода или ненастье, остается за окном нашей «внутренней клети». За окном «сегодня говорят одно, завтра другое, а философия говорит всегда одно и то же»!
Спустя месяц после перенесения мощей святителя Никифора патриарх заболел: сначала у него опухли ноги, а потом отек стал подниматься выше. Врачи нашли скоротекущую водянку, попытались лечить – давали больному лекарства для сердца и почек, сделали и несколько надрезов на ногах, чтобы выпустить жидкость, но безуспешно: отек продолжал распространяться. Мефодий написал Сиракузскому архиепископу, сообщая о своей болезни и прося Григория приехать, и это письмо было последним, написанным им собственноручно, – вскоре у патриарха отекли руки. Врачи не скрывали, что дни его сочтены, и он продиктовал своему асикриту обращение ко всем епископам патриархата – что-то вроде завещания, где Мефодий объявлял свою последнюю волю относительно еретиков и схизматиков. Иконоборческих клириков он запрещал когда бы то ни было принимать в сане, напоминая о том, что такому снисхождению противились все православные исповедники. Что касается разделения, возникшего из-за непокорства студитов и их сторонников, то патриарх прощал епископов, поддержавших «схизматиков»: в случае покаяния и анафематствования написанного против святителей Тарасия и Никифора, эти архиереи могли быть приняты в своем прежнем сане, однако без права управлять кафедрой. Самим же студитам патриарх запрещал возвращать сан даже в случае их покаяния и подчинения его требованиям: «устроившие раскол» клирики должны были приниматься только в качестве простых монахов.
«Смотрите: вы, состоящие под нашим водительством, не имеете права принимать их помимо указанного строгого испытания, – говорил Мефодий в заключение своего обращения. – Так творя и таким образом соблюдая сказанное, и сами вы прекрасно совершите служение, и Церковь сохраните в благополучии, будучи убеждены, что мы говорим не просто так и не ввиду крайней степени болезни и смертного часа, но движимые божественным Духом и ради сбережения Церкви без соблазна».
Когда Асвеста прибыл в Город, только лицо и плечи патриарха еще не были захвачены неумолимой болезнью, Мефодий дышал и говорил с трудом. Григорий не мог сдержать слез:
– Так поздно я познакомился с тобой, владыка, и вот, ты уже покидаешь нас!
– На всё воля Божия, – тихо ответил патриарх и продолжал, немного помолчав: – Может быть, Господь попустил этой болезни так быстро скосить меня потому, что я перешел меру ревности… был слишком суров с подвластными мне…
– Ты имеешь в виду студитов?
– Да. Еще в молодости… впрочем, не так уж я был молод тогда, но, по крайней мере, в два раза моложе, чем теперь, – Мефодий чуть улыбнулся, – как раз в то время, когда я познакомился с твоей матерью, Григорий… уже тогда мне не нравилось, как вели себя студиты, как они унижали святого Никифора из-за возвращения сана Иосифу… Мне было так горько за святейшего! Хотя он сам, по смирению, всех простил… и даже просил меня больше не вспоминать о той истории… но я не мог не вспоминать! Особенно в Риме. Вот где чтут предстоятеля Церкви, не то, что у нас!.. У нас чуть не каждый встречный считает не просто возможным, но даже едва ли не своим долгом осуждать епископов, выискивать сучки в их глазах… сегодня клясться в верности православию, а завтра из-за сиюминутной выгоды перейти к еретикам и уничижать патриарха, требовать его низложения… Мне думалось, что такому отношению надо положить конец, и, милостью Божией, мне это почти удалось. Но студитов я так и не смог убедить, только несколько человек из них присоединилось к нам… Вероятно, я был слишком резок.
– Но они сами виноваты! – с горячностью возразил архиепископ. – Почему они не хотели отказаться от тех старых писаний? Только потому, что сочли это оскорблением памяти преподобного Феодора? Но они повели себя вовсе не просто как жертвы несправедливости! Мне говорили, владыка, что та история с Хионией… Всё это подстроили студиты, надеясь избавиться от тебя! Ведь это подло!
– Я знаю, что это они, точнее не они сами, а сочувствовавшие им. Я это понял уже тогда, во время разбирательства. Сами студиты, быть может, и не участвовали в том деле… Как бы то ни было, Бог им судья! Я всем прощаю то, что они против меня, грешного, говорили и делали. Но в Церкви жизнь должна идти по правилам, а каноны не позволяют монахам и священникам так дерзко вмешиваться в дела, подлежащие ведению архиереев, как это делали студиты. Поэтому то, что я решил относительно них, должно оставаться в силе, – патриарх закрыл глаза и некоторое время отдыхал, тяжело дыша, а потом взглянул на Асвесту и улыбнулся. – Я хотел видеть тебя перед смертью, Григорий. Вероятно, я совершил какие-то ошибки, может быть, и относительно рукоположений… Но за тебя я всегда благодарю Бога! Ты хорошо начал свой путь и прекрасно продолжил. Шествуй так же и дальше, владыка! Твои родители могли бы тобой гордиться. Впрочем, думаю, они сейчас видят, каким ты стал, и радуются.
В глазах Асвесты снова заблестели слезы.
– Я постараюсь жить так, чтобы и ты мог там радоваться за меня владыка! – проговорил он. – А ты помолись за меня, грешного, когда предстанешь престолу Божию!
– Если Господь дарует мне это, буду молиться… Бог да благословит тебя, да вразумит, да поможет тебе во всем! И не печалься, что мы мало общались с тобой тут. Главное – чтобы мы смогли общаться в вечности! Молись за меня, владыка… «Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь лицу Божию», и уповаю, что, по милосердию Господню, «войду в место скинии дивной, до дома Божия, во гласе радования»… До встречи, Григорий, в дому Божием!
Патриарх умер спустя два дня, 14 июня, и был похоронен в храме Апостолов. На его погребении, помимо епископов, столичного клира и игуменов константинопольских монастырей, присутствовали императрица с сыном и дочерьми, весь Синклит, придворные и множество простого народа.
– Что ты думаешь о новом патриархе, Феоктист? – спросила августа у логофета вечером того же дня. – Я, право, не знаю, кто мог бы теперь занять место Мефодия… Да мне, в общем, всё равно, лишь бы только оставались в силе принятые им решения относительно Феофила.
– Тут и думать нечего, августейшая, – ответил патрикий. – Новый патриарх должен как можно скорее помириться со студитами. Мефодий, правда, завещал не принимать их без покаяния и не возвращать сан, но, думаю, этим его пожеланием можно пренебречь… В конце концов он не Бог, чтобы устанавливать подобные заветы! Так что ставленника надо выбирать из тех, кто сочувствует студитам… Кого-нибудь с Принцевых.
…Избрание нового предстоятеля Константинопольской Церкви состоялось спустя две недели после смерти Мефодия. Епископам, съехавшимся в Город, сразу дали понять, что императрица и регенты желали бы видеть на кафедре человека, который «мирно и ко всеобщей радости» покончит с церковным расколом, и что завещание покойного патриарха лучше вовсе не предавать широкой огласке, – впрочем, значительное число архиереев и сами склонялись к этому. Стронники студитов, особенно монахи с Принцевых островов, сразу после смерти Мефодия развили бурную деятельность, убеждая всех, кого можно, в необходимости избрать патриархом того, кто «положит конец этому безобразию». Однако, чтобы не возникло подозрений, что происходит резкая смена церковного курса, ставленник должен был быть человеком строгих нравов и нерыхлого характера – это тоже понимали все, даже те, кто больше всего возмущался «ревностью не по разуму», проявленной покойным патриархом.
Всё сложилось вроде бы как нельзя удачнее: все трое кандидатов, избранных на соборе и представленных на выбор императрице, оказались из числа принцевских монахов, причем царственного происхождения – это были двое сыновей императора Льва, Василий и Григорий, в последние годы, после смерти матери, жившие в монастыре на Принкипо, и Теревинфский игумен Игнатий. Их православность ни у кого не вызывала сомнений, но Феодора, по совету Феоктиста и Мануила, остановила выбор на Игнатии: хоть он и не претерпел гонений от иконоборцев, однако изначально вместе с отцом и братом пострадал от произвола «зверонравного Льва» и к тому же через создание трех обителей показал себя человеком деятельным, а главное – сразу же согласился представить письменное заверение, где обещал не участвовать ни в каких заговорах и кознях против императора, его матери и сестер. О его подвижнической жизни было известно почти всем, о Василии и Григории, рукоположенных в священный сан после торжества православия, тоже невозможно было сказать ничего укорного, и никто из троих избранников собора по своим личным достоинствам не вызвал недовольства даже у самых ревностных почитателей покойного патриарха. Правда, многих смущало то, что имя Игнатия было заранее названо логофетом дрома как наиболее желательное, но председательствовавший на соборе Никейский митрополит быстро погасил возникшее недовольство. Сиракузский архиепископ поднял было вопрос о завещании Мефодия, выразив недоумение по поводу того, что его не зачитали на соборе, но мало кто из архиереев его поддержал и дело замяли. Асвеста был возмущен, однако пришлось смириться – по хиротонии он был младше других и затевать споры с прочими владыками ему было не совсем по чину, особенно теперь, когда его святейший покровитель покинул этот мир…
В день наречения патриарха императрица обратилась к ставленнику с краткой речью.
– Честнейший отец! – сказала она. – В этот знаменательный для всех нас день, когда, избранием преосвященных епископов и при одобрении наших благочестивых граждан, тебе вручается кормило церковного корабля, я радуюсь вместе со всеми, благодарю Бога, так благоволившего о нашей святой Церкви, и надеюсь, что, приняв в руку пастырский жезл, ты упасешь свою паству на пастбищах тучных, орошенных благодатью Святого Духа и недоступных для волков. Мы все верим, что ты, взойдя на патриарший трон, будешь таким же твердым борцом с ересью и блюстителем святых канонов, как твой славный предшественник. Но мы также уповаем, что ты сумеешь там, где нужно, проявить пастырское снисхождение ради церковного мира, собирая расточенных и устраняя все соблазны и нестроения, чтобы виноградник, который вручает тебе Господь, принес во время благопотребное обильный плод.
Нареченный патриарх в ответном слове заверил всех в своей приверженности к православию и сказал, что приложит все усилия для того, чтобы его паства «избегала стремнин и пропастей всякой пагубной ереси, а наипаче гнусного злочестия иконоборцев». В то же время Игнатий пообещал «утешить снисхождением всех, особенно немощных членов тела Христова», и «не допустить, чтобы хитон Господень раздирался пагубными расколами», а также уверил юного императора и его мать в своей «всегдашней преданности» их державе. Словом, будущий предстоятель Церкви дал понять, что пожелания августы и регентов относительно дальнейшего церковного курса будут исполнены, и при дворе, наконец, вздохнули свободно. Однако радость длилась недолго и омрачилась уже в самый день возведения Игнатия на патриарший престол.
Рукоположение было назначено на воскресенье, 3 июля. Когда нареченный патриарх вместе с маленьким императором, который участвовал в церемонии как взрослый, вошли в алтарь, а епископам, собравшимся для рукоположения, были розданы зажженные свечи, Игнатий, обведя взглядом архиереев, вдруг обратился к Сиракузскому архиепископу и сказал:
– А тебя, владыка, я бы просил не участвовать в хиротонии. Возведенное на тебя обвинение еще недостаточно разобрано и должно быть рассмотрено со всей точностью в ближайшее время.
В алтаре все замерли, многие в первый момент даже подумали, что ослышались, – выпад Игнатия поразил даже тех, кто не питал к Асвесте симпатий: казалось бы, дело о «проступке» архиепископа уже было рассмотрено и закрыто, запечатанное словом покойного патриарха, и никому не приходило в голову, что вопрос может быть поставлен вновь. Сам Григорий несколько мгновений смотрел на будущего патриарха почти с недоумением, а потом его брови сошлись на переносице и в темных глазах засверкало негодование. Асвеста уже подметил неприязнь к нему нареченного патриарха, да и друзья говорили ему об этом, однако Григорий надеялся, что со временем их отношения улучшатся, и поступок Игнатия ошеломил и возмутил его. Асвеста увидел в этом выпаде не просто личную неприязнь, которую еще мог бы перенести со смирением, но явное неуважение к покойному патриарху – ведь по Городу уже ходили разговоры о намерениях нового предстоятеля простить студитов, пренебрегая завещанием Мефодия, об этом говорили и некоторые епископы на соборе, где избирали кандидатов на патриарший престол. Такого оскорбления своему духовному отцу и учителю архиепископ простить не мог. Ему мгновенно вспомнился последний разговор с покойным патриархом, его сожаление о резкости по отношению к студитам и обоснование необходимости оставить в силе прещения против них: доводы Мефодия представлялись для Григория убедительными, особенно потому, что патриарх в то же время смиренно признавал недостатки в своем поведении, тогда как сторонники студитов никак не обосновали свое стремление предать забвению завещание Мефодия, и вот теперь Игнатий дал понять, что сомневается в правоте и других поступков своего предшественника… «Да кто они такие, чтобы судить его?! – промелькнуло в голове у Григория. – Они ничего не претерпели ради веры! Другие восстановили православие, а они только воспользовались чужими трудами… Когда был жив владыка, они не смели и слова сказать, а теперь, значит, осмелели?!» Асвеста бросил свои свечи на пол и воскликнул:
– В нашу Церковь вторгся не пастырь, а волк!
Ни слова более не говоря, Григорий стремительно вышел из алтаря южными дверями и покинул храм. По галереям прошелестело тихое «ах», и после нескольких мгновений растерянной тишины в Великой церкви поднялся глухой шум. В алтаре все тоже пришли в замешательство. Игнатий не ожидал от Асвесты такой резкости в ответ. Хотя его неприязнь к архиепископу и раздражение «самоуправством» Мефодия сыграли определенную роль, он всё же не думал нарочито оскорблять память покойного патриарха, а больше хотел показать всем, в том числе императрице, что действительно намерен быть строгим блюстителем церковных правил и не собирается управлять Церковью только «по указке властей», как о том шептались некоторые после его избрания. Но не успел еще нареченный патриарх сообразить, каким образом погасить начавшийся скандал, как еще двое иерархов открыто поддержали Сиракузского архиепископа: Петр Силейский и Евлампий Апамейский последовали за Григорием, причем Силейский епископ, уходя из алтаря, насмешливо заметил:
– Великолепное начало патриаршего служения!
Вслед за ними покинули Святую Софию и некоторые игумены и священники, в том числе из придворного клира. Хор, к счастью, не подвел и продолжал медленно петь «аллилуйя».
Маленький император наблюдал за происходившим с любопытством и недоумением. От него ускользала суть ссоры нареченного патриарха с Сиракузским архиепископом; Михаил только понял, что Игнатий оскорбил Асвесту, и это пришлось мальчику не по душе – Григорий успел внушить ему симпатию за те несколько раз, когда он видел, как он служит, и слышал его проповеди; покойный патриарх в свое время представил архиепископа императрице и ее детям, и Асвеста очень понравился им всем. Михаилу стало обидно за архиепископа, и он, нахмурившись, смотрел на Игнатия. Заметив это, Ираклийский митрополит поспешил спасти положение, подав возглас, после чего началось пение «Святый Боже», а затем последовала хиротония; все оставшиеся в алтаре епископы и клирики делали вид, будто ничего не произошло.
Императрица, глядевшая на всё это со своего места на западных галереях Великой церкви, прижала руку к груди и подумала: «Господи, что он делает?!.. Вот так “утешил снисхождением”, вот так покончил с “ревностью не по разуму”! Если таково начало, что же будет дальше?! Надо как-то его унять… Тем более, что он уверял нас в своей преданности!»
23. Надежда
…пока не настанет день, когда Господь отдернет пред человеком завесу грядущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах: Ждать и надеяться.
(А. Дюма, «Граф Монте-Кристо»)
Лев снял с крюка дверной молоток на кованой цепочке и постучал в металлический круг справа от двери. Пришлось ждать довольно долго, прежде чем ему отворили.
– Господин Лев! Боже милостивый, какое посещение!
– Отец Кледоний? – удивленно спросил Философ, всматриваясь в открывшего дверь монаха.
– Да-да, он самый! Проходи, господин, проходи!
– Не ожидал тут встретить кого-нибудь из вашей братии, признаться, – Лев улыбнулся. – Но я рад!
– Ох, господин, знал бы ты, как приятно услышать доброе слово! – вздохнул Кледоний, запирая ворота на тяжелый засов. – Коня я потом отведу в стойло, – монах привязал лошадь Математика к столбу у стены. – Вот только проведу тебя к владыке… Нам сюда, – они вместе пошли к особняку через сад по вымощенной камнем неширокой дорожке. – А уж как меня поносили, не сказать! Я ведь, как владыку в монастырь услали, места себе не находил… А узнал, что он сюда переселился, так сразу и пришел – думал, попробую умолить, чтоб разрешил остаться! В ногах готов был валяться… А владыка сразу и принял, вот как! Слава Богу!