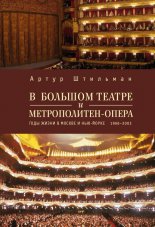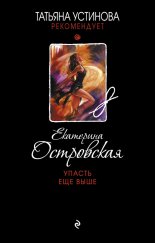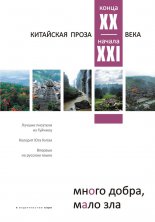Кассия Сенина Татьяна

Он выступил немного вперед, тяжело опираясь на посох, – уже совсем ветхий старец, согбенный и совершенной седой. «Сколько же ему сейчас лет? – подумала Феодора. – Ведь когда я была у него, он уже был стар… Господи!..» – тут она ясно вспомнила тот весенний день, когда отшельник благословил ее и вручил яблоко, и в ушах ее точно вновь зазвучали его слова: «Ты же, когда придет час, прославишь Его, как Он ныне прославит тебя…» Она невольно прижала руку к груди.
– Вижу, владычица, ты вспомнила сказанное тебе мною, ничтожным, – Исаия чуть улыбнулся. – Я же поистине узнал ныне, что Бог смиряет человеческую гордыню и никому не открывает всех судеб Своих! Ибо когда-то я, грешный, провидел не только твою будущую славу, но и скорби, ожидавшие тебя, но не дал мне Господь предузнать глубину любви твоей! Ибо поистине ты уподобилась апостолу Павлу любовью и состраданием, а через тебя Бог и нас, грешных, хочет научить тому же, – он повернулся к остальным исповедникам, слушавшим его с немалым удивлением, и сказал: – Ныне, братия и отцы, заклинаю вас не коснеть в нечувствии и жестокосердии, но уважить просьбу августейшей государыни, ибо так Господу угодно и православие восстановить, и государя помиловать, и нас научить Своему человеколюбию. Говорю вам: если теперь вы не согласитесь, то не только сами себя лишите пользы душевной, но окажетесь и богоборцами!
В зале воцарилась мертвая тишина: все были поражены и не находили, что сказать. У императрицы на глаза навернулись слезы, и она сделала огромное усилие над собой, чтобы не заплакать тут же при всех. «Господи! – подумала она. – Поистине Ты послал в его лице Своего ангела на помощь мне!» Та же мысль в этот миг пришла в голову и Мефодию: в душе возникло ощущение, словно он долго и мучительно пытался отплыть от берега на судне, но оно не двигалось с места – и вдруг некто обрубил под водой удерживавший его канат, и оно полетело вперед на всех парусах. Игумен благодарно взглянул на Никомидийского отшельника и обратился к августе:
– Государыня, мы все совершенно согласны с богопросвещенным отцом Исаией, и поскольку ты просишь нас с верой и уповаешь на силу церковной молитвы, то вот, как только твоим повелением будет открыта для нас Великая церковь Божия, мы все в определенное время сотворим пост и обратим моления к милостивому Господу. Но и ты сама сделай то же самое со всеми, кто живет с тобой в Священном дворце, от мала до велика, – и веруем, что тогда Бог непременно явит Свою милость и человеколюбие на нас, смиренных, ныне, как и всегда!
После этих слов остальным иконопочитателям не осталось ничего иного, кроме как согласиться с игуменом. Когда исповедники уже покинули дворец, Феофан подошел к Никомидийскому отшельнику и сказал:
– Прости меня, отче, но не мог бы ты объяснить, что означала твоя речь? Признаться, я весьма… удивлен, чтобы не сказать что-то менее приятное. Конечно, я не отрицаю, что августейшая государыня благочестива, но… сравнивать ее с великим апостолом, тогда как она, по сути, предпочла своего почившего мужа, не говорю нам, но самому православию и Церкви!..
– Да, вот и я подумал об этом, – вмешался Лазарь, услыхав слова Начертанного. – Это что же выходит: она готова оставить всю державу в этой гнусной ереси и сама пойти в конечном счете на вечные муки, только бы быть вместе со своим мужем – хотя бы и в аду?!
Исаия внимательно посмотрел в лицо сначала Феофану, а потом Лазарю, вздохнул и тихо ответил:
– Вспомните, отцы, что сказал Господь: муж и жена «уже не двое, но одна плоть». И что говорит апостол: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». А божественный Златоуст, толкуя эти слова Павла, говорит, что апостол не только не погубил своей любви ко Христу, но «еще усилил в себе эту любовь» и домогался этого отлучения ради братий именно потому, что сильно любил Христа. И не роптать тут надо, а смириться под крепкую руку Божию и благодарить Господа, что Он показал нам воочию, что такое истинная любовь!
В середине февраля во дворце, в помещении императорской канцелярии, состоялось, наконец, общее собрание православных, куда прибыли уже все, кто мог прибыть – в том числе епископы Диррахийский Антоний и Кизический Иоанн, которым предстояло руководить делом избрания нового патриарха. Присутствовали также многие синклитики и придворные. Императрица попросила огласить в собрании доводы в пользу почитания икон, чтобы убедить всё еще сомневающихся, – и тут более всего пригодилось большое «Обличение и опровержение» иконоборцев, составленное патриархом Никифором незадолго до смерти. На собор прибыли и многие епископы из числа иконоборцев, во всеуслышание проклиная ересь, – они надеялись таким образом избежать будущих прещений, слух о которых разошелся уже далеко. Наконец, когда было достигнуто общее согласие и ни у кого не осталось сомнений – или, по крайней мере, никто не выражал их вслух, – был поднят вопрос о предстоятеле Церкви. Тут Феоктист, от имени августы присутствовавший на собрании, сказал, что, прежде чем обсуждать возможных ставленников в патриархи, нужно вопросить Иоанна, не желает ли он покаяться и присоединиться к истинной вере. Хотя это было не по нраву исповедникам, Мефодий и епископ Иоанн не дали разгореться спорам, поспешив согласиться с логофетом, после чего тот направил друнгария виглы сообщить патриарху общее решение.
Когда Константин явился в патриархию, Иоанн находился в Фессалийском триклине – сидел в глубоком кресле у окна и перечитывал Евагрия Схоластика. Келейник доложил патриарху о приходе друнгария, и Грамматик, отложив книгу, поднялся навстречу посетителям. Вслед за Константином в помещение вошли четверо экскувитов. Поприветствовав патриарха, друнгарий сказал:
– Трижды августейший император и его августейшая мать послали меня сообщить тебе, владыка, что, уступая просьбам благочестивых людей и преподобнейших отцов-подвижников, они решили восстановить в Церкви почитание святых икон, – Константин откашлялся и продолжал. – Вероятно, такая перемена покажется тебе неожиданной… Но, тем не менее, теперь уже не время размышлять: почтенное собрание отцов хотело бы немедленно услышать твой ответ. Итак, если ты, владыка согласен с ними, то да восстановит Божия Церковь свою прежнюю красоту. Если же ты против этого, то оставь кафедру и Город, удались в свое имение и живи там, а досточтимые отцы готовы обсудить с тобой вопрос о святых иконах и убедить тебя.
Иоанн приподнял бровь и насмешливо посмотрел на друнгария.
– Господин Константин, уверяю тебя, в твоем сообщении для меня нет ровно ничего неожиданного, даже в том, что касается предложения почтенного собрания сменить веру по приказу свыше. Насколько мне известно, эти отцы ради того, чтобы получить начальство в Церкви, довольно быстро оставили в стороне кое-какие убеждения, хотя еще недавно собирались отстаивать их до последнего. Ничего удивительного, если они считают и других подобными себе. Но я должен их разочаровать: передай им, господин, что я намерен держаться и дальше той веры, в какой пребываю сейчас. Что же касается обсуждения вопроса об иконах, то, признаться, это предложение меня немало позабавило. Приславшим тебя отцам, думаю, еще памятны беседы, которые я имел удовольствие вести с ними лет двадцать пять назад. Я тоже хорошо помню те диспуты, и мне представляется, что надежда упомянутых отцов в чем-то меня убедить весьма опрометчива, – патриарх усмехнулся. – Что же до предложения оставить кафедру, то мне пока не предъявили никакой вины, и я не вижу, чего ради должен уходить отсюда. Если же отцы, о которых ты говоришь, вздумают на своем собрании низложить меня, то я, пожалуй, отвечу им то же, что когда-то сказал, как я знаю, почитаемый ими даже во святых Никифор: я пока еще патриарх, и я никаких собраний не созывал, самовольное же сборище клириков без моего ведома, да еще не в церкви, а во дворце, является каноническим нарушением, со всеми вытекающими последствиями. Конечно, если меня вынудят удалиться в мое имение, мне придется уйти, но в таком случае я надеюсь, что эти отцы любезно избавят меня от своего присутствия, ведь таким образом они, прежде всего, избавят самих себя от неприятной необходимости стукнуться лбом о мою закрытую дверь, потому что никаких диспутов с ними я уже давно не веду и не намерен вести их впредь.
По мере того как патриарх говорил, лицо друнгария сначала вытянулось, потом покрылось красными пятнами, а под конец Константин был уже вне себя от гнева: наслушавшись на собрании обличительных речей в адрес иконоборцев и уже проникнутый стремлением «изгнать из Церкви богопротивную ересь», сейчас он, столкнувшись со спокойным и насмешливым высокомерием Иоанна, вышел из себя.
– Да как ты смеешь такое говорить, владыка?! – воскликнул он. – Уж не хочешь ли ты сказать, что…
– Я хочу сказать ровно то, что сказал, господин, – прервал его патриарх. – Того, чего я сказать не хочу, я не говорю. Итак, полагаю, я ответил на предложение, которое ты пришел передать мне, а потому нашу беседу можно завершить, – патриарх слегка наклонил голову и проследовал мимо друнгария к выходу из залы.
Однако экскувиты, увидев, что Константин разгневан, настроились весьма решительно.
– Куда это ты, владыка? – спросил один из них, загораживая патриарху дорогу.
– Туда, куда считаю нужным, – спокойно ответил Иоанн. – Я ведь пока еще не под арестом, не так ли?
– Сиди здесь, проклятый еретик! – крикнул другой экскувит, перс, один из тех, которые не участвовали с Феофобом в злополучном походе, а потому остались живы и теперь служили в дворцовой охране.
Все эти экскувиты были из числа стоявших на карауле, пока шло собрание иконопочитателей. Послушав выступления, они мало что поняли относительно православия, зато усвоили, что Грамматик представляет чуть ли не главное зло: Агаврский игумен, решив подыграть Мефодию, выдвинул предположение, что император «уже бы давно покаялся в своем пагубном заблуждении, если б не Иоанн, который его испортил с детства и развратил его разум», – а значит, во всех бедах, обрушившихся на Церковь, виноват не столько покойный василевс, сколько его «нечестивый учитель», и как только Феофил, вследствие болезни, освободился хоть немного от влияния «колдуна», он пришел к осознанию своих прегрешений против икон… Феоктист слушал эту речь с внутренним содроганием, но почел за лучшее не вмешиваться, только мысленно благодарил Бога, что императрица не слышит подобных разъяснений.
Видя, что Иоанн и бровью не повел в ответ на его выпад, перс решил припугнуть его и, быстро обнажив меч, выставил против патриарха, но в запальчивости не рассчитал и ощутил, как острие коснулось тела Иоанна. Экскувит отступил в испуге, а патриарх, поморщившись, приложил руку к животу, и все увидели, как на хитоне начало расплываться темное пятно. Кледоний, потерянно взиравший на всю эту сцену, на миг застыл в ужасе, а потом бросился к Иоанну:
– Владыка, ты ранен?!
– Пустяки, – ответил патриарх, – вряд ли смертельно.
Однако он чуть побледнел и оперся на руку келейника.
– О, Боже! Владыку убили! – вскричал Кледоний и, поворотясь к растерявшемуся друнгарию и его спутникам, заорал: – Убирайтесь прочь, варвары! Вы не христиане, а язычники, даже хуже!
– Кледоний, перестань, – тихо сказал Иоанн. – Лучше помоги мне лечь и позови врача.
В патриархии поднялся страшный переполох, и прежде чем друнгарий явился во дворец, туда уже долетела весть, будто патриарх «убит язычниками, подосланными императрицей». Феодора едва не лишилась чувств, услышав это. Когда Константин, придя, доложил о происшедшем и о том, что рана, нанесенная Иоанну, никакой опасности для жизни не представляет – об этом сообщил врач, сразу вызванный к пострадавшему, – императрица мрачно посмотрела на друнгария и сказала:
– Константин, тебя только с медведями можно посылать говорить, но уж никак не с философами!
Оставшись одна, она не выдержала и несколько раз стукнула кулаком по столу, пока до боли не отбила себе руку.
– Почему такой ценой?! – прошептала она, взглянув на икону Спасителя, теперь уже открыто висевшую в ее покоях. – Неужели нельзя было иначе?!.. Господи! Прости меня, прости, что я предала его!.. Но это ради Феофила… и ради того, чтобы все узнали правду! Ты Сам видишь, что они не верят… Они ничему не верят, кроме собственной «праведности», «невинные страдальцы»!
Она едва удержалась, чтобы не пойти в патриархию проведать Иоанна: надо было играть свою роль до конца и не давать иконопочитателям лишних поводов для сомнений в ее православии…
«Неужели я теперь всю жизнь буду играть то одну роль, то другую? – думала она. – Господи, как хорошо было с Феофилом, я была собой, я всегда могла быть собой… Как я мало ценила это!.. “Наша жизнь – всего лишь театр”… Господи, я ничего уже не смогу сделать для владыки, Ты Сам утешь его, как знаешь! И вразуми меня, что мне делать, как вести себя дальше!»
…Иоанн стоял у окна и наблюдал за тем, что происходило во дворе патриархии. Он быстро оправился от ранения и теперь находился под домашним арестом, ожидая, когда ему будет определено место для ссылки.
После скандального происшествия в Фессалийском триклине императрица послала Варду самолично узнать у патриарха, что произошло, и постараться как-нибудь уладить дело и успокоить возмущение. Когда брат августы пришел к Иоанну, тот был в постели, уже с наложенной повязкой. Увидев патрикия, Грамматик иронически улыбнулся.
– Здравствуй, господин Варда. Что, пришел посмотреть, как замять дело?
– Святейший, – смущенно проговорил тот, – мы приносим тебе извинения… Августейшая чрезвычайно огорчена…
– О, ей не стоило бы слишком убиваться! Прошу тебя, господин, передай государыне, чтобы она не переживала так за мое смирение. Ей нужно копить силы на будущее, ведь отныне ей придется вместо меня общаться совсем с другими людьми, – патриарх усмехнулся. – Я же, со своей стороны, не могу не благословить Бога за то, что скоро окажусь от них на известном расстоянии.
Варда тяжело вздохнул.
– Владыка, – сказал он, помолчав, – господин логофет всё же хочет, чтобы они соблюли хотя бы видимость суда… чтобы не давать им слишком много воли…
– Срубив голову, плачет по волосам? Право, господин Варда, я не имею ни малейшего желания участвовать в этом представлении, являясь на их соборище! В конце концов ты можешь сказать им, что я покусился на свою жизнь, но попытался выдать это за покушение на меня, вот и всё. Это будет вполне достаточным поводом для моего низложения, которого они так жаждут!
Варда вздрогнул и ошарашено глянул на патриарха:
– Покусился на свою жизнь?!.. То есть…
– Да, разумеется. Пришел господин друнгарий, изложил мне известные требования, я обещал подумать, а когда он удалился, взял ножичек и пустил себе кровь, чтобы попугать моих легковерных служителей и поднять возмущение против иконопоклонников. Естественно, тут же поднялся крик, что меня убили… Разве не правдоподобная выходка для такого злодея, как я?
– О, Господи! – Варда заложил руки за спину, с трудом удерживаясь, чтобы не затрясти кулаками, и заходил по комнате. – Нет, это немыслимо, немыслимо! Что скажет августа?! Она не согласиться подвергнуть тебя такому позору!
– А вот это как раз и будет твоей задачей – уговорить ее, господин Варда. Мне же, признаюсь, никакой способ не кажется слишком неудобным, чтобы избавиться от нужды вступать в какие-либо беседы с упомянутыми достопочтенными отцами. В свое время я наговорился с ними предостаточно, и подобные опыты мне более не интересны. Если ты уверишь государыню, что ради удаления от этих ревнителей я любую тяготу приму как наслаждение, ты не скажешь ничего, кроме правды.
На другой день патриарх был низложен собравшимися иконопочитателями как «покусившийся на самоубийство», причем большинство не согласилось позволить ему просто удалиться в свое имение, но было решено сослать его «на исправление» в монастырь, – однако возникли разногласия, в какой именно, и пока что Иоанн ждал определения своей дальнейшей участи. Соборяне также постановили обыскать его личную библиотеку на предмет наличия в ней писаний, хулящих иконы.
Когда несколько монахов явились с этой целью в патриаршие покои, Грамматик не принял их, только велел Кледонию отдать им ключи от шкафов и проследить, чтобы они не обращались с книгами по-варварски, а сам заперся в своей келье. Монахи перевернули вверх дном содержимое всех шкафов, но, к своему разочарованию, почти ничего не нашли. Низложенный патриарх держал у себя только книги святых отцов и различные научные, исторические и философские сочиненения; из еретических книг были обнаружены только Ориген и «Вопросоответы» императора Константина Исаврийца, а также несколько трактатов против икон, написанных самим Иоанном. Кледоний наблюдал за обыском с крайним негодованием, но старался держать себя в руках и молчал.
– А это что? – спросил один монах, открыв очередную книгу и недоуменно уставившись в нее. – Какие-то буквы странные… Глядите-ка, братия, тут, верно, что-то зашифровано!
Его собрат подошел, взглянул и сказал:
– Да нет, это на латыни, – он повернулся к Кледонию. – Что это?
– Письма Сенеки к Луцилию, – насмешливо ответил тот. – Уверяю вас, про иконы там нет ни слова!
– Опять язычник! – воскликнул обнаруживший книгу монах. – Да тут у него просто целый склад эллинских басен! Вот что он читает вместо Священного Писания!
– Да ладно тебе, – пробурчал третий монах, – тут и отцы, вон, и книги Завета…
– О, а это что такое?..
Кледоний взглянул, и сердце его стукнуло: первый монах добрался до полок, где лежали химические рукописи – трактаты древних ученых и кое-какие из тетрадей, куда Иоанн в течение нескольких лет записывал свои заметки, мысли и результаты химических опытов. Часть из них хранилась у него в имении, а здесь были те, что он пролистывал на досуге в последнее время, размышляя над плодами своих исследований.
– «Книга огней»… «Изготовление смарагда»… «Жидкое золото»… «Гермес – Меркурий – ртуть»… «У Стефана: Осирис – свинец»… «Зосима: север – черный, запад – серебряный, юг – лиловый, восток – золотой»… Что это такое?!.. А-а, поглядите-ка, братия, тут дьявол нарисован! – монах ткнул в рисунок, изображавший дракона, изогнувшегося в кольцо и кусающего свой хвост. – Да это колдовские книги какие-то!.. Господи, помилуй! Смотрите: «И одно дает другому кровь, и одно порождает другое. И природа любит природу, и природа веселит природу, и природа побеждает природу, и природа господствует над природой…» Точно, какие-то заговоры!..
Спустя полтора часа Кледоний пришел к Иоанну в слезах.
– Владыка, они забрали все химические рукописи, всё – и книги, и твои тетради! Решили, что это колдовство… Я им говорю: это химия, – а они заладили свое: «Там, – говорят, – дьявол нарисован!» Это они про символ работы… Взяли их все и еще «Вопросоответы» об иконах, и Оригена, и твои сочинения… Говорят: всё сожгут! Что же это делается, а!
Грамматик чуть побледнел, но усмехнулся и спокойно сказал:
– Помнится, Фукидид заметил: «Не секрет, что большинство из тех людей, кому неожиданно и в короткое время достаются большие богатства, становятся наглыми». Лучшие из отцов учили не отвергать сказанное эллинскими философами, но «всё рассмотреть, чтобы увидеть, не содержит ли это истину», а нынешние отцы предпочитают не рассматривать, а сжигать. Что ж, «беззаконнующие пусть беззаконнуют еще», как говорится… Я же радуюсь, что Бог избавил меня от необходимости сообщаться с подобными людьми.
– Ты-то можешь этому радоваться, владыка, – сокрушенно сказал Кледоний, – а что делать мне?! Меня ведь с тобой не пустят…
– Возвращайся в монастырь, брат. Там в ближайшее время понадобятся здравые умы. А потом будет видно. Да не горюй так! – Иоанн улыбнулся. – Всякое ненастье когда-нибудь сменяется благорастворением воздуха, надо только уметь ждать.
Изъятые у Грамматика рукописи были рассмотрены на собрании православных и действительно приговорены к сожжению как «душевредные, бесовские и отравотворные»: если и не все из присутствовавших поверили в «колдовское» содержание найденных записей, эти тетради в любом случае были хорошим поводом представить низложенного патриарха перед простым народом как «колдуна и бесоначальника». Феоктист уже не пытался ничего спасти и, краем уха слушая выступление соборян, размышлял о том, какой монастырь назначить местом ссылки для Грамматика. Логофет лично сообщил ему о решении собора, и Иоанн лишь попросил, чтобы с места ссылки, если возможно, открывался вид на Босфор.
Теперь во дворе патриархии жгли «колдовские книги», и поглазеть на это собралась немалая толпа монахов и мирян. Кто-то выкрикнул, что «этого колдуна самого бы тут сжечь», но крикуна тут же увели следившие за порядком стратиоты, присланные эпархом.
– Господи, какие варвары! – раздался за спиной Иоанна голос его келейника.
Кледоний с утра складывал в сундуки библиотеку Грамматика – готовил его к отъезду, то и дело вытирая глаза рукавом. Сейчас монах смотрел в окно, и по его щекам текли слезы. Иоанн обернулся и положил руку ему на плечо.
– Брат, надо уметь «и избыточествовать, и лишаться». Вспомни, что говорил святой Иустин: «Мы убеждены, что ни от кого не можем потерпеть вреда, если не обличат нас в худом деле и не докажут, что мы негодные люди: вы можете умерщвлять нас, но вреда сделать не можете». То же самое, в общем, говорил и Сократ. Будем подражать философам не только в дни благоденствия, но и в скорбях, тем более, что нас никто не умерщвляет. А что до этих глупцов, Бог им судья! В конце концов, то, чем мы занимались, мы делали для себя и получили пользу, не так ли? Они же не только не получили от этих записей никакой пользы и даже не в состоянии понять, в чем она заключается, но своими действиями нанесли вред собственной душе. Их остается лишь пожалеть!
Вечером зашел Варда и сообщил Иоанну, что его решено сослать в Клейдийский монастырь на западном берегу Босфора. Патрикий, по поручению императрицы, собирался сам поехать туда и проследить, чтобы ссыльному предоставили условия для достойной жизни. Как только всё будет готово, Варда должен был лично доставить низложенного патриарха по месту назначения.
– А это государыня просила передать тебе, сама изготовила, – сказал он с грустной улыбкой, вручая Иоанну небольшой круглый коврик, затканный красными розами по золотому фону. – На молитвенную память.
– Благодарю! – ответил Грамматик. – Передай августейшей, что я всегда буду молиться за нее и ее детей. Впрочем, – он улыбнулся, – она об этом и так знает. Да пусть не скорбит слишком сильно. Как сказал поэт, «должно быть твердым, чтоб имя твое и потомки хвалили»!
14. Торжество православия
Любовь никого не ненавидит, никого не хулит… никем не гнушается – ни верующим, ни неверующим, ни чужим, ни грешником… подражая Христу, который… научает: «Будьте благи и милосерды, как Отец ваш небесный».
(Св. Аммон Египетский)
Сразу после низложения Иоанна православные занялись избранием кандидатов на патриарший престол. Было названо несколько имен, в том числе иерусалимского синкелла Михаила, но старец отказался, выставив на вид свою немощь, тогда как время требовало патриарха не старого и больного, а еще полного сил и деятельного. Одни выдвинули игумена Катасаввского монастыря, другие – студита Николая, последний предлагал игумена Навкратия, но тот отказался по той же причине, что и Михаил. За Мефодия голосовали епископ Иоанн, игумен Евстратий и многие подвижники, прибывшие с Олимпа и из вифинских монастырей. После того как, наконец, трое ставленников были избраны, им повелели удалиться из Города, каждому в отдельный монастырь, и ожидать окончательного выбора. Когда императрице были названы их имена, она сказала собравшимся:
– Преподобнейшие отцы, я, разумеется, могла бы сейчас назвать вам того, кого мне хотелось бы видеть на патриаршей кафедре. Но я хорошо знаю, что пути Божие нередко далеко отстоят от мыслей человеческих, поэтому мне пришло на сердце желание обратиться к прославленному подвижнику нашего времени, постнику и прозорливцу – я имею в виду всем вам хорошо известного отца Иоанникия – и попросить его помолиться, чтобы Господь указал ему того, кто достойно упасет православное стадо на спасительных пажитях.
К Олимпскому отшельнику были посланы игумен Иларион и монах Лазарь, с ними отправился и один спафарий от императрицы. Иоанникий, выслушав просьбу, поместил их в особую келью и велел молиться, сам же затворился в своей и молился три дня и три ночи, после чего вручил посланным деревянный посох и сказал:
– Ступайте, чада, и отдайте этот посох иеромонаху Мефодию, который сейчас пребывает в Елеовомитском монастыре.
Когда в Константинополе узнали об ответе старца, императрица тотчас послала скорохода, чтобы он объявил избраннику волю Божию и соборную. Игумен немедленно прибыл в Царствующий Город, и все стали готовиться к грядущим торжествам.
4 марта, в Сыропустное воскресенье, Мефодий был рукоположен в епископа и возведен на патриарший трон. Совершив праздничную литургию в Святой Софии, новый патриарх сказал перед паствой пространное слово. Возблагодарив Бога, милостиво дарующего, наконец, Своей Церкви после бурь и мятежей долгожданный мир и восстановление прежнего благолепия, он кратко изложил догматические основания иконопочитания, укорил иконоборцев в тупоумии и безумии, превознес исповедников, почивших в годы гонений на православие, и выразил надежду, что они в этот день невидимо присутствуют в храме и сорадуются живым о торжестве веры. Восхвалив благочестие юного императора, его матери и регентов, Мефодий завершил свое слово так:
– Однако мы, братия, не только должны радоваться о торжестве православия и отвращаться еретического безумия, но и явить милосердие к нашим ближним, по примеру Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, не погнушавшегося ни разбойником, исповедавшим Его в последний час жизни, ни гонителем веры Савлом, которого Он соделал великим проповедником истины. Завтра мы входим в Великий пост, чтобы принести пред Богом сугубое покаяние в своих грехах и испросить прощение и сил подвизаться в добродетелях. Господь же нам говорит: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших», – и еще: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Апостол же вопиет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал бряцающий». Итак, поминая эти великие заповеди и страшные угрозы тем, кто не прощает своих врагов, призываю всех вас в эту первую седмицу святого поста совершить слезное моление к милостивому и всесильному Богу, чтобы Он простил почившему государю Феофилу то, что он при жизни своей соделал против почитания святых икон. Ибо боголюбивая августейшая супруга его и благоговейный господин Феоктист засвидетельствовали, что перед самой кончиной государь, вразумленный неким страшным видением, раскаялся в своем еретическом заблуждении и с верою облобызал святую икону, но, по причине тяжкой болезни и постигшей его смерти, не успел должным образом покаяться перед православным священником. И ныне мы призываем всех вас молить Бога, чтобы Он Сам «восполнил оскудевающее» и, приняв покаяние государя, простил ему все грехи его и вчинил с ликами ангелов и святых Своих. Смотрите, братия, чтобы нам, распалившись ревностью не по разуму, не погубить всех трудов наших, ибо «любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит, никогда не перестает». Будем бдеть над своими душами и не допустим в сердце «горькую зависть и сварливость»! Ибо вот, Бог ныне зрит на сердца наши и смотрит, истинно ли мы являемся подражателями Сына Его, ради спасения грешников восшедшего на крест, истинно ли мы стараемся «быть святыми, как свят» Он, который «не хочет смерти грешника», но ожидает его обращения и, по слову божественного Златоуста, «упокоивает в одиннадцатый час пришедшего, как трудившегося от первого часа», «и дела приемлет, и намерение приветствует». Будем же, сколько есть сил, подражать Ему в милосердии и любви, да сподобимся получить оставление грехов и достойно встретить божественную Пасху, в грядущем же веке истиннее ее причаститься в царствии Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь!
После обеда императрица с небольшой свитой отправилась в Кассиин монастырь. Игуменья с сестрами тоже были в Святой Софии на рукоположении нового патриарха и в грядущую седмицу собирались ежедневно приходить туда и вместе со всеми молиться за почившего императора. Воротясь в обитель, Кассия занялась распределением послушания на неделю, так чтобы каждая сестра в какой-нибудь из дней могла поучаствовать вместе с настоятельницей в молениях в Великой церкви. Евфимия попросила у игуменьи позволения ежедневно ходить в Святую Софию вместе с ней – и, конечно, не получила отказа. Когда доложили о приходе августы, Кассия позвала Евфимию, и они вместе встретили Феодору у врат обители. Подошедшие вслед за ними остальные сестры приветствовали императрицу, и августа с кувикулариями зашли в храм помолиться, а потом Феодора вместе с игуменьей отправилась в ее келью, за ними последовала и Евфимия – всё это не сговариваясь: они словно читали мысли друг друга. Императрица села на стул, а обе монахини – на кровать. Феодора оглядела их и устало улыбнулась:
– Ну вот, как видите, мне всё же удалось заставить ваших единоверцев молиться за врагов, – в ее голосе прозвучала ирония. – Правда, на это пришлось потратить целый год.
– Я хорошо представляю, как это было трудно, государыня, – сказала Кассия. – Мы очень рады, что ты добилась того, чего хотела.
– Только мне пришлось заплатить за это немалую цену: извержение всех иконоборцев, изгнание патриарха… Правда, вас это вряд ли огорчит… Кстати, ты ведь знакома с Иоанном?
– Да. В свое время он очень помог мне, и я никогда этого не забуду.
– Значит, ты не считаешь его «слугой демонов», в отличие от твоих единоверцев?
– Нет, не считаю.
– Что ж, приятно слышать!.. Впрочем, я всё говорю: «твоих единоверцев», а ведь они уже стали и моими… Только знаешь, я до сих пор иногда об этом жалею!
– Меня это не удивляет, государыня… к сожалению. Но всё же главное – сама вера, а не личные качества ее приверженцев.
– Да, конечно… Хотя мне по-прежнему непонятно, на каком основании они рассуждают так прямолинейно! Если даже оставить в стороне Иоанна… Не знаю, слышали ли вы о перенесении сюда из Харсиана мощей Евдокима, стратига Каппадокии, который умер почти три года назад?
– Слышали, августейшая. Говорят, при перенесении совершались чудеса?
– Да, и немало! Я хорошо знала этого Евдокима… Он действительно был праведником. Но он, мать, служил иконоборцу и причащался с иконоборцами! И вот, как это совместить… с убеждением этих исповедников, что все, не чтившие икон, погубили свою душу?! Я иногда думаю об этом и не нахожу ответа… Когда Феофил умирал, мне подумалось, что, возможно, самое главное – не иметь сомнений в своей вере, какова бы она ни была… А когда я сообщила патриарху о том, что Феофил перед смертью принял иконы, Иоанн сказал… Представьте, он как будто даже не огорчился!.. Так вот, он ответил словами апостола: «Блажен, кто не осуждает себя в том, в чем испытывается»!
Кассия задумалась.
– Быть может, здесь он в целом прав, – тихо проговорила она. – Я тоже давно перестала верить так прямолинейно, как некоторые… Жизнь не дает! – она улыбнулась. – Но я всё же не могу согласиться, что нет никакой границы между истиной и ложью! Граница должна быть, но…
– Но она размыта?
– Не то, чтобы размыта… Просто нам часто хочется расставить всё по полкам, знать наверняка, чтобы всё было просто и понятно… Но это глупое стремление. Не только потому, что жизнь сложна и то и дело разрушает наши построения, а прежде всего потому, что мы словно хотим заключить совершенно свободного, беспредельного и всемогущего Бога в какие-то рамки. Но разве это не безумие? Я в последнее время много думаю… о том же, о чем и ты, государыня… Мне кажется, что апостол недаром, превознося любовь как «превосходнейший путь», так резко выразился, что если даже мы расточим всё имение, даже предадим себя на мученичество, но при этом не будем иметь любви, то всё это не имеет никакого значения… А любовь «никогда не перестает», она выше нестяжания, выше мученичества, выше пророчеств… Она – Сам Бог, который выше всех рамок, всех границ, всех предписаний… Это не значит, что предписания не нужны, что границы вредны – нет, они нужны, поскольку люди – существа ограниченные, строптивые, неразумные, а потому нам необходимы всякие рамки и правила, иначе мы легко можем впасть в заблуждение… Но Богу – совершенной святости, любви, милосердию – такие рамки не нужны. Как говорится, «где был ты, когда Я полагал основания земли? скажи, если знаешь», и «будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?» Когда Иов сетовал, что Господь попустил ему страдать безвинно, Бог сказал ему: «Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем небом всё Мое», – но верно и обратное: никто из людей не предварил Бога, чтобы требовать от Него воздаяния грешникам. Он может в любой момент простить, кого пожелает, хотим ли мы того или не хотим… И человек не смеет требовать от Него отчета в том, на каком основании Он сделал это! Бог дает нам правила жизни, но может Сам и превзойти эти правила, по милосердию и любви. Наверное, так. Впрочем, это всего лишь мои догадки…
– Они очень похожи на правду! – воскликнула Феодора. – Мне тоже примерно так же представляется… Только я не умею так хорошо выразить это, как ты, мать, – она улыбнулась. – В общем, я рада, что всё так вышло и теперь эти исповедники помолятся за своего гонителя… Так сказать, явят любовь к врагам!.. Только мне ужасно жаль Иоанна! Он так много сделал для нас с Феофилом! А теперь… знаешь ли ты, что он отправится в ссылку… к тому же с обвинением в покушении на свою жизнь?
– Да, я слышала об этом.
– И поверила?
– Нет. Конечно, я не слишком хорошо его знала, но достаточно, чтобы не верить в эту сказку. Жаль, что так получилось, но… – игуменья чуть помолчала. – Возможно, это будет для него полезно.
– Он тоже так считает, а я… пытаюсь успокоить себя мыслью, что пришлось поступиться им ради Феофила… Хотя знаешь, мать, ведь я устроила всё это вовсе не потому, что думаю, будто он попал на мучения! Я уверена, что Бог простил его! Просто я хочу, чтобы об этом теперь узнали все остальные.
Кассия подняла глаза на августу.
– Я тоже думаю, что Бог простил его. Я молилась за него в ту ночь, когда он умер, и… Не знаю, как сказать… Я почувствовала, что Господь услышал молитвы всех, кто за него молился, и спас его.
– Вот как! – в глазах Феодоры блеснули слезы.
– Да. А потом я получила твое письмо… – голос игуменьи дрогнул, и она вытерла набежавшие слезы. – Но ты права, государыня: остальные тоже должны узнать. Да и мы сами… еще больше уверимся… Я только в последнее время стала ясно ощущать, насколько я маловерна!
– Да, я тоже… – сказала императрица. – А ты что думаешь, Евфимия?
– Я согласна с матушкой, – улыбнулась монахиня. – Я бы тоже хотела… еще увериться… И я очень, очень хочу, чтобы все узнали, что Бог простил государя!
– Они узнают! – Феодора встала. – Вы придете молиться с патриархом?
– Да, августейшая.
– Это хорошо… Я бы хотела, чтобы вы были там, – она чуть помолчала и взглянула на Кассию. – Мне бы хотелось сказать тебе несколько слов наедине, мать.
Евфимия покинула келью, и августа сказала, глядя игуменье в глаза:
– Прости меня… за Евфимию… и вообще. Я всё же причинила тебе много неприятностей.
– О, это ничего! – проговорила Кассия, в легком потрясении от слов императрицы. – Я, в общем… это заслужила… Прости и ты меня, государыня! – она поклонилась Феодоре в пояс.
– Да, – ответила августа. – Я… когда-то очень злилась на тебя, но это давно прошло. Всё-таки в конце концов мы все поняли, что в свое время сделали правильный выбор! – она улыбнулась. – Ведь это самое главное, правда?
– Конечно.
Моления за почившего императора продолжались всю первую седмицу Великого поста: патриарх со всем клиром, монахами и мирянами молился в Святой Софии; Императрица со своими родственниами и придворными по утрам тоже молилась там, а в остальное время – в дворцовом храме Богоматери Фарской. Только теперь иконопочитатели окончательно поняли, насколько почивший император был любим народом: Великая церковь была полна людей всякого пола и возраста, и почти все молились со слезами и поклонами, ожидая Господней милости. Молитвенные бдения продолжались почти круглосуточно, причем все строго постились, как и предписывал устав первой седмицы. Перед началом молений патриарх взял чистый лист пергамента и написал на нем крупно в столбик имена всех императоров-еретиков, какие правили до сих пор, завершив список именем Феофила, свернул лист и, запечатлев его собственной печатью, положил на престол Святой Софии под драгоценный покров-индитию, помолившись мысленно: «Господи, не посрами упования и веры августы! Если Тебе угодно моление наше и Ты прощаешь государя, яви знамение этому, как явил Твое благоволение о покаянии его!» Мефодий сам не знал, какого именно знамения надо ждать, но верил, что явление милости Божией непременно произойдет…
Этот сон привиделся ему под утро пятницы, когда Мефодий отдыхал в патриарших покоях: будто он вошел царскими вратами в алтарь Святой Софии, и увидел стоящего перед престолом ангела в блистающем одеянии. Патриарх поклонился ему в землю, а когда поднялся, увидел у ангела в руках развернутым свиток с именами императоров, который Мефодий положил под индитию. Ангел провел пальцем по какой-то строчке на пергаменте, снова свернул его, водворил на место и, обратившись к патриарху сказал: «Услышано, о епископ, моление ваше, и прощение получил император Феофил; больше о нем не докучайте Божеству!» – и тут Мефодий проснулся. Немедленно встав, он в волнении отправился в Великую церковь, где и теперь молилось множество людей – одни уходили отдохнуть, но на их место тут же приходили другие. Патриарх приказал разбудить остальных исповедников, и когда почти все собрались в храм, Мефодий отвернул покров на алтаре: список лежал на том же месте, запечатанный, как и был, – его никто не трогал. С бьющимся сердцем патриарх сломал печать, развернул пергамент, взглянул и едва не выронил лист: имени Феофила внизу списка не было – лист в этом месте был так чист, словно на нем никогда ничего не писали. Мефодий глубоко вздохнул и невольно прижал руку к груди.
– Что с тобой, святейший? – с беспокойством спросил Кизический епископ.
Патриарх ничего не ответил, покинул алтарь, взошел на амвон, высоко поднял пергамент, показывая всем бывшим в храме и громко произнес:
– Божией силой имя императора Феофила изглажено из списка богопротивных еретиков! Слава Богу, дивному в чудесах и в милосердии Своем! Государь прощен!
На мгновение в храме повисла тишина, потом пронесся всеобщий вздох, а затем началось что-то неописуемое: люди громогласно прославлял Бога, плакали, падали на колени и каялись в маловерии, просили оставления собственных грехов, обещали впредь исправить свою жизнь…
Когда Мефодий вернулся в алтарь, ему сообщили, что его хочет видеть императрица – оказалось, она еще раньше него пришла в храм и всё слышала. Патриарх поднялся на галереи. Феодора встретила его в слезах и рассказала, что этой ночью тоже видела сон: будто бы она стоит на форуме Константина у колонны и видит, как мимо проходит шумная процессия – люди с криками несут розги, бичи из воловьих жил, палки, орудия пыток, а посередине шествия ведут Феофила, одетого в простой хитон, босого, со связанными за спиной руками – как она видела его незадолго до его смерти, только сейчас его уже не били. Императрица в страхе последовала за процессией, и все дошли по Средней улице до Августеона и остановились у Медных врат во дворец. Над вратами висела икона Христа, некогда снятая иконоборцами, а под ней на помосте сидел на троне великий и страшный сияющий Муж, совершенно походивший на это самое изображение Спасителя. Феофила поставили перед Ним связанным, и тогда Феодора бросилась Ему в ноги и умоляла простить императора. Христос взглянул на нее и сказал: «О, женщина, велика вера твоя! Знай же, что ради твоей веры и слез, еще же ради молитв рабов Моих и священников Моих, Я дарую прощение мужу твоему от всех грехов его! – и, обратившись к предстоявшим, Он продолжал: – Развяжите ему руки, оденьте его и отдайте жене его!» Феофила тут же развязали, облекли в златотканые одеяния и пурпурную обувь и подвели к Феодоре. Он взглянул на нее с улыбкой, а она, и радуясь, и всё еще страшась перемены его участи, взяла мужа под руку, скорее повлекла прочь от того места – и тут проснулась…
– Слава милосердию Божию! Это еще одно подтверждение тому, что государь прощен! – сказал патриарх. – Отныне, августейшая, ты можешь совершенно не беспокоиться за его вечную участь. Поистине завидная судьба! Ведь мы мало о ком, кроме явных святых, можем сказать, что Господь точно принял их в Свое царство!
Императрица и улыбалась, и плакала одновременно.
– Благодарю, владыка! – сказала она. – Теперь осталось позаботиться о красоте церковной, чтобы все могли возрадоваться о торжестве веры!
В субботу на галереях Святой Софии состоялся собор, где были произнесены анафемы на иконоборцев – как против патриархов времен первого всплеска ереси, так и против Феодота, Антония и Иоанна, – были еще раз прокляты иконоборческие учения и подтверждены догматы, установленные на втором Никейском соборе, а затем все иконоборческие епископы и прочие клирики были низложены без всякого снисхождения, причем патриарх сказал:
– Если даже у кого-то – быть может, у многих – возникают сомнения относительно того, как поступить с клириками, отпавшими в богопротивную ересь, то в любом случае мнению большинства исповедников должно в этом вопросе отдать предпочтение, а вы, отцы и братия, знаете, каково это мнение. Итак, если те, кто принял Духа и сохранил непорочным свое посвящение, отказываются сохранить сан отпавшим, предвидя, что, если дерзнуть на это, народ частично вернется к старому нечестию и даже зайдет еще дальше, то эти исповедники достойны предпочтения, как свои перед чужими и как неповрежденные члены перед зараженными. Ибо не только православные священники, сохранившие исповедание во дни еретической зимы, но и пребывающие в пустынях и горах отшельники, столпники и подвижники думают так же. К тому же призывают нас и великий Иоанникий, и богопросвещенный Исаия, и славный отец Симеон, и иные досточестно монашествующие. Итак, всякий род и чин православных не допускает, чтобы перед ними отдали предпочтение еретикам и презрели исповеднический подвиг ради сохранения сана тем, кто не позаботился соблюсти его незапятнанным. Посему я, не дерзая отвергнуть мнение столь великих подвижников и угодников Божиих, призываю и всех прочих не противиться провидению, но сотворить волю Господню, чтобы не постыдиться, когда будем взывать к Богу в молитвах!
В первое воскресенье поста, 11 марта, патриарх со всеми православными клириками, монашествующими и множеством мирян собрались в Великую церковь, неся кресты и иконы, а маленький император с матерью, в сопровождении кувикулариев и синклитиков, со свечами в руках, прошли в храм через Красивые двери и, соединившись с патриархом, вошли в церковь. Когда патриарх с императором помолились в алтаре, Мефодий провозгласил во всеуслышание анафемы иконоборцам и «вечную память» почившим исповедникам иконопочитания, после чего крестный ход вновь покинул храм через центральные двери и, пройдя по двору Святой Софии, вышел через западные врата, называвшиеся Ктенарийскими, и направился к Халкопратийскому храму Богоматери. Трехлетний Михаил был очень серьезен, обеими руками держал перед собой свечу и следил, чтоб она стояла ровно. Императрица шла рядом, и слезы то и дело наворачивались у нее на глаза – но теперь это были слезы радости. Остальные участники крестного хода тоже были взволнованы и воодушевлены: после явленных чудес все уповали на лучшее, и казалось, что для Церкви и государства, наконец, пришла пора мира и благоденствия. Только что свершившееся низложение иконоборческих клириков уже не беспокоило так, как прежде: раз Господь благоволил явить Свою милость, показав, что покойный император прощен, то и дальше как думалось всем, Он не оставит Своих людей без помощи…
Помолившись в Халкопратии и воздав благодарение Богородице за Ее заступление, все направились к форуму Константина, где патриарх с императором и августой помолились в часовне у подножия колонны, а затем крестный ход прошел по Средней улице до Милия, откуда повернул к Святой Софии. Там все усердно помолились перед вратами, после чего патриарх совершил великий вход, процессия вошла в храм, и началась литургия. Феофила поминали за ней как православного государя. Император с матерью и сестрами, все придворные и множество монахов и мирян приняли святое причастие. По окончании службы патриарх произнес проповедь: еще раз возблагодарив Бога за совершившееся восстановление иконопочитания, он сообщил, что, согласно решению православного собора, отныне ежегодно память этого торжества православия над ересью будет совершаться в Церкви в первое воскресенье Великого поста. Затем Мефодий подробно рассказал о чудесах, удостоверивших прощение покойного государя, и пустился в пространные рассуждения о том, что милосердие Божие, как бы ни было оно велико, проявляется не без оснований, но в том случае, если человек, даже если в чем-то заблуждался при жизни, тем не менее, старался жить по заповедям и творил добрые дела. Напомнив о том, что почивший император был известен своей заботой о безопасности Города, справедливостью и нелицеприятием, милосердием к бедным и нищим и вообще попечением о подданных, патриарх так заключил свое слово:
– И вот, отцы, братия и сестры, воззрев на всё множество благих дел, совершенных государем, Господь услышал наши смиренные молитвы, простил его беззакония против икон и вчинил его с ангелами и святыми, чего и мы можем удостоиться, если будем не просто уповать на милость Божию, но и привлечем ее к себе добрыми делами и исполнением заповедей, данных нам в Евангелии Господом нашим Иисусом Христом, Ему же да будет слава со безначальным Его Отцом и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь!
После литургии во дворце, в триклине Девятнадцати лож, был дан торжественный обед, где присутствовала вся императорская семья, ближайшие родственники, синклитики и кувикуларии, эпарх, стратиги и начальники дворцовой охраны, а также патриарх с епископами и избранными клириками. Феодора выглядела усталой и предоставила говорить застольные речи логофету дрома и эпарху. Большинство сотрапезников ели молча, словно переваривая происшедшие события. В целом обед шел чинно и спокойно – до того момента, когда маленький император, обведя взглядом присутствовавших, вдруг спросил:
– А где владыка Иоанн?
Раздался звон – это кубок, выпавший из рук доместика схол, ударился о тарелку, заливая вином стол. Императрица побледнела и до боли в пальцах стиснула ножку своего кубка. Варда едва не подавился тушеной фасолью, сестры августы испуганно взглянули на патриарха, Сергий Никетиат чуть нахмурился, а Петрона только хмыкнул и осушил до дна кубок. Феоктист в первый момент растерялся, но тут же пришел в себя и, поймав взгляд императрицы, откашлялся и сказал:
– Он удалился от нас на покой, государь, поскольку решил, что довольно уже пробыл в здешней суете, и пожелал окончить свои дни в философском уединении, за книгами и молитвой.
– Значит, он уехал и больше не вернется? – мальчик посмотрел на логофета обиженно.
– Нет, Михаил, – тихо промолвила августа. – Ты ешь лучше, а об этом мы потом поговорим.
Остаток обеда прошел напряженно, хотя все старались делать вид, что ничего особенного не произошло. Маленький император понял, что, кажется, сказал что-то не то, но не мог понять, что именно, и до конца обеда просидел чуть надувшись. Михаилу нравился прежний патриарх, хотя им пришлось не так уж много общаться: мальчик любил получать от него благословение; ему нравилось, что Иоанн никогда не разговаривал с ним, как с несмысленным ребенком, и не сюсюкал, как тетки; Михаил чувствовал изящество Грамматика, хотя, конечно, не мог пока для себя определить, что это такое, и любил бывать в церкви, когда Иоанн служил. Правда, мальчику понравилось и то, как служил новый патриарх – несомненно, Мефодий умел это делать красиво и с чрезвычайным достоинством, – но сам он, с лысой головой, подвязанным подбородком и странно двигавшейся нижней челюстью, немного пугал Михаила… Сейчас он увидел, что взрослые знали и понимали что-то, чего он не понимал, и это его злило: «Почему они скрывают?!» – думал он, впиваясь зубами в сочную грушу. А императрица поглядывала на него и думала: «Как ему всё это объяснить?.. Про ересь он не поймет сейчас… Не говорить же, что Иоанн оказался злым человеком и обманщиком! О, Господи!.. Был бы Иоанн здесь, он бы нашел, что сказать… что-нибудь философское… А теперь – некому… Вот эта новая действительность, в которой нам отныне придется жить! Надо привыкать, что же делать… Может быть, Михаил поймет, когда вырастет… А пока… остается только напоминать себе почаще, что эта жизнь – всего лишь театр!»
…Когда Кассия с сестрами пешком возвращалась в обитель после торжества православия и литургии в Святой Софии, Елисавета – племянница Сергия Никетиата, поступившая в обитель всего два месяца назад по совету императрицы – спросила:
– Что же теперь, император, значит, прощен и…
– И мы встретимся с ним в царствии небесном, – чуть приметно улыбнувшись, сказала игуменья, – если попадем туда.
– Мне всё-таки кажется, что это… не совсем справедливо, – проговорила Елисавета нерешительно. – Получается, что великие исповедники, такие как патриарх Никифор, или отец Феодор, или владыка Евфимий и другие, кто защищал православие, окажутся вместе со своим гонителем?
– Так ведь Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много»! – вмешалась Анна. – А значит, каждый получит свою, по своему труду, я думаю… Не могут же спасаться только одни великие святые, а то… так и для нас надежды не останется, какие наши подвиги! Только покаяние, да и то…
– Да, это во-первых, – кивнула Кассия. – А во-вторых… правосудие – одно из свойств Бога, это правда, но милосердие – тоже Его свойство, причем по преимуществу. Право судить преступников имеют и некоторые люди, но они не всегда имеют право их миловать, а поступают согласно законам. Только император может помиловать любого – и в этом, как и во многом другом, он есть образ небесного Царя: Господь может миловать всех, Он превыше всякого закона и власти… И милосердие выше правосудия. Вот ты, Елисавета, говоришь: «несправедливо», – а ведь тем самым ты и для себя требуешь справедливого суда. Но подумай: если бы Господь поступал с нами справедливо, по нашим грехам, что было бы? И неужели мы можем жалеть о том, что Господь помиловал грешника, если сами хотим быть помилованными?!
– Это так, матушка, – сказала Елисавета, – просто я подумала… Я не жалею о том, что Господь помиловал государя, нет! Просто мне непонятно… Например, монахи, всю жизнь подвизаются, лишают себя разных удовольствий, мучаются от внутренних браней… А многие еще и за православие страдают и даже принимают смерть… Но выходит, для спасения всё это необязательно? Получается, спастись могут и еретики, которые гнали верных, и люди, всю жизнь проведшие в роскоши…
– Но святейший ведь сказал сегодня, что у государя было много добрых дел, и Господь помиловал его не просто так! – возразила Лия. – И потом, откуда мы знаем, как он жил? Ведь были же императоры, которые на публике появлялись во всякой роскоши, а сами под одеждой власяницу носили и по ночам молились!
– Это тоже верно, но я бы не стала объяснять всё именно этим, – сказала игуменья. – Разве мы подвизаемся для того, чтобы получить за это плату?.. Впрочем, – она взглянула на Елисавету, – твои вопросы закономерны… Подожди до вечера, я сегодня скажу кое-что об этом.
После вечерни Кассия произнесла перед сестрами слово.
– Мы узнали о чудесном прощении почившего государя, – говорила она, – и некоторые из-за этого пришли в недоумение. По их мнению, выходит, будто те, кто страдает за православие, зря подвизаются, если спасаются – и как будто бы легко – гонители верных. Но если мы посмотрим на эту сцену в единственное верное зеркало, какое у нас есть – Евангелие Христово, – то сразу увидим, что недоумевающие уподобляются старшему сыну из Господней притчи, который тоже позавидовал, что его младший распутный брат был легко прощен отцом, и разгневался так, что даже отказывался войти в отчий дом, то есть в царствие небесное. Вот до чего может довести зависть, прикрываемая таким благовидным предлогом, как ревность о правой вере! Но это только самый поверхностный взгляд на дело. Попробуем взглянуть глубже. Ради чего мы подвизаемся? Если мы трудимся ради мзды, то мы еще не познали, что такое настоящее монашество. Ведь и грешные люди, стремясь получить удовольствия и удобства в этой жизни, ради их достижения тоже бывают готовы на временные лишения и труды. Мы отказываемся от мирских благ и готовы терпеть неудобства, но это еще не значит, что мы тем самым уже становимся не говорю – монахами, а даже просто христианами. Ведь можно подвизаться с мыслью, что сейчас мы помучаемся, а потом, на том свете, будем наслаждаться, а люди, живущие здесь в свое удовольствие, потом зато получат по заслугам… Подвизающиеся с таким настроением, если узнают о прощении грешника перед самой его кончиной ради небольшого, казалось бы, покаяния, бывают недовольны, им это кажется несправедливым. Вот тут и обличается сластолюбие, все еще живущее в нас несмотря на то, что внешне мы отреклись от сластей мира. Мы должны подвизаться единственно из любви к Богу, из стремления угодить Ему и быть с Ним, а никак не для того, чтобы в день суда позлорадствовать над теми нерадивыми и ленивыми, которые будут отвергнуты Богом. Господь сказал, что мы должны быть благи, как Он, повелевающий солнцу светить всем – и праведным, и неправедным. Мы должны радоваться, когда человек спасается, а не возмущаться и не рассуждать о том, насколько он этого достоин. Тем более, что мы не можем этого знать. Бывает и так, что человек, несмотря на свою неправую веру, несет разные скорби и труды, творит добрые дела, борется со страстями – и делает это ради Христа, хотя и неправо верует в Него. А мы, верующие право, может быть, совсем не так много трудимся… Но апостол говорит: «скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела; покажи мне веру твою от дел твоих, а я тебе покажу от дел моих веру мою». И какой же будет позор для нас, если еретики от дел своих покажут больше веры, чем мы, православные! Не скажет ли нам тогда Господь словами апостола: «Из-за вас имя Мое хулится среди язычников»? Быть может, Господь именно потому так и устроил Своим промыслом о государе, явив перед всеми его покаяние и прощение, чтобы мы лишний раз задумались о том, ради чего и как мы подвизаемся…
В тот вечер Кассия долго молилась, благодарила Бога за Его промысел о Феофиле, помолилась и об Иоанне, чтобы перемена участи пошла ему на пользу. «Как знать, не обратится ли он? – подумала игуменья. – Вот ведь, когда я говорила Феофилу, что, пока он жив, есть время покаяться, я надеялась на это, но не верила до конца, потому что ужасно боялась… А как всё вышло! Поистине, надо надеяться до последнего вздоха! Да и потом тоже… Молитва сильна! О, как она сильна, а мы так мало верим в ее силу, мы так боязливы и немощны…»
Она вышла во внешнюю келью, зажгла светильник и села за стол. Спать совсем не хотелось. Кассия подперла рукой щеку и устремила взгляд на огонь. Она думала о женщине, чья любовь была так сильна, что смогла даже собрать всех православных на молитву за их гонителя и, по сути, заставила их отмолить все его грехи. «Да, в тот день он выбрал правильно! – подумала игуменья. – На ее месте я бы, наверное, так не смогла…» Вдруг ей вспомнилось изречение из Книги Ездры – ответ юноши на вопрос, что всего сильнее: «Сильнее суть жены, но всех побеждает Истина». Кассия улыбнулась. «А ведь случившееся как раз и подтверждает это, – подумала она. – Истина победила – с помощью женщины! И православие восторжествовало, и его гонитель прощен… Вот уж действительно: “милость и истина встретились, правда и мир облобызались”!»
Кассия вынула из шкафчика книгу «Вопросоответов к Фалассию» святого Максима Исповедника и открыла наугад. Удивительным образом, открылся вопрос, где преподобный толковал то самое изречение из Ездры, над которым она только что размышляла! «“Женами” он называет обоживающие добродетели, из коих возникает любовь, соединяющая людей с Богом и друг с другом… – читала игуменья. – А “Истиной” он называет единую и единственную Причину сущих – Начало, Царицу, Силу и Славу их… И, чтобы сказать кратко, словом “жены” третий юноша указывает на любовь как на конец добродетелей – этот конец есть безупречное наслаждение и нераздельное единение с Благом по природе тех, кто сопричаствует Ему. Словом же “Истина” он обозначает конечный Предел всех знаний и самих познающих…»
Она дочитала вопросоответ до конца и закрыла книгу. «Что ж, всё верно! Побеждает высшая из добродетелей – любовь, и через нее все приходят к Богу – тому пределу, дальше которого невозможно идти, потому что в Нем – бесконечность…»
Кассия убрала рукопись в шкаф, достала оттуда свою тетрадь со стихами, открыла и, немного подумав, написала:
- «Племя женское сильнее всех,
- И тому воистину свидетель – Ездра».
Она остановилась в задумчивости, снова обмакнула перо в чернила, еще подумала и не стала писать ничего больше.
– Этого довольно, – прошептала она. – Это верно и в низком смысле, и в высоком… И кто понимает высокий, тот знает, что «всех побеждает Истина». А кто не понимает, тот будет думать не о добродетелях и любви, а о женщинах и страстях. «Ибо всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец»…
15. Победители
Великий и знаменитейший царь Агесилай боялся больше мира после войны, чем войны до мира.
(Михаил Пселл)
После восстановления иконопочитания прошло полгода, и все видели, что дела идут не совсем так, как они рассчитывали, независимо от того, кто каких взглядов придерживался. Извержение из сана иконоборцев действительно стало, как и боялись регенты, огромным потрясением для общества, и, хотя императрица выделила значительную сумму для материальной поддержки лишившихся своих мест клириков, пока они смогут найти себя иные занятия, глухой ропот не утихал. Впрочем, с изверженными из числа монашествующих особых трудностей не возникло: почти все они приняли восстановление икон и остались жить в своих монастырях в чине простых иноков. Не то было с белым духовенством: многие из низложенных занялись частными уроками, кто-то устроился работать при храмах и различных благотворительных заведениях, иные занялись торговлей или земледелием, кое-кто пошел даже на черные работы, – но при этом далеко не все согласились осознать свою вину и покаяться в ереси. Многие надели на себя личину невинных страдальцев и, встречаясь с иконопочитателями на улице, смотрели высокомерно и насмехались над ними, говоря, что они победили «не Божиим содействием и своим благочестием, а из-за поддержки императрицы». Это, в свою очередь, злило православных, потому что им, в сущности, нечего было сказать в ответ…
Удаление от алтарей такого количество духовенства создало большие трудности и для самих православных, в первую очередь для патриарха: нужно было думать о том, кого рукополагать взамен, причем довольно спешно, а кандидатов было не так много, как хотелось бы. Мефодий смотрел прежде всего на православный образ мыслей ставленников, но тут он не избежал попреков со стороны своих же ревнителей, укорявших его в неразборчивости. Более всего недовольства возникло по поводу рукоположения новых епископов. Когда патриарх решил рукоположить Феофана Начертанного в митрополита Никейского, некоторые монахи стали возмущаться, что на такую славную кафедру Мефодий хочет поставить «чужестранца», о котором никому толком не известно, что он из себя представляет… Патриарх решительно пресек эти разговоры, указав, что, во-первых, Феофан вовсе не безвестен среди подвизавшихся за веру, а во-вторых, носит на лице знаки своего исповеднического подвига, и уже их одних было бы достаточно, чтобы показать его достоинство и православность, даже если б о нем не было больше ничего известно. Многие ожидали, что ряд епископских кафедр займут студийские монахи, но этого не произошло: патриарх рукоположил некоторых студитов в священный сан, по просьбе игумена Навкратия, но епископством никого из них не почтил, – это вызвало недовольство как самих студитов, так и их почитателей, которые возмущались «унижением» исповедников, чьи подвиги в свое время воодушевили столь многих на борьбу за православие. Патриарх и тут повел себя жестко, заявив вопрошавшим, что ни перед кем не собирается давать отчета, почему он одних ставит в епископы, а других нет, и заметил:
– Уж не ждали ли эти почтенные отцы получить кафедры как плату за свои подвиги? Мне всегда казалось, что они подвизаются не в чине наемников, а как сыны – исключительно из любви к Богу. Или они считают, что Господь недостаточно воздал им за их исповедничество? Впрочем, – добавил Мефодий насмешливо, – когда-то, помнится, отец Платон не постыдился продвигать на патриарший трон собственного племянника, так что, пожалуй, такие разговоры даже в их духе… Только пусть они не ждут, что я буду потакать подобным устремлениям!
Когда слова патриарха стали известны в Студийском монастыре, они вызвали всплеск гнева среди братий, и игумен едва сумел успокоить монахов, напомнив им о смирении и о том, что главное – не здешние чины и отличия, а тот чин, каким каждый будет почтен от Бога в Его царствии. Но, хотя возмущенные разговоры стихли, подспудное недовольство патриархом всё равно ощущалось среди студитов.
Отдельное затруднение возникло в связи с Сиракузской епархией: Сицилийский архиепископ Феодор Крифина наотрез отказался покинуть свою кафедру и деятельно противился утверждению иконопочитания на острове – влияние, которым он пользовался среди паствы и у местных властей, это ему вполне позволяло. В начале царствования императора Михаила Феодор, будучи придворным диаконом, стал экономом Святой Софии, после того как Иосиф, покаявшись и присоединившись к иконопочитателям, вторично покинул свой пост. Новый эконом, сицилиец родом, прекрасно владел латинским языком, и ему поручались важные дипломатические задачи: помимо посольства к Людовику после окончания мятежа Фомы, Феодор тремя годами позже побывал в Компьене с посольством, доставившим королю драгоценный подарок – роскошную рукопись творений святого Дио нисия Ареопагита, которую франки поместили в храм Свято-Дионисиева аббатства, где от нее, как говорили, даже совершались чудеса исцелений. Незадолго до смерти Михаила Феодор был рукоположен в священника, а в начале царствования Феофила стал архиепископом Сиракузским – и, в отличие от многих других областей Империи, иконоборческие взгляды на Сицилии благодаря ему проводились твердой рукой и неукоснительно. Неудивительно, что у православных Крифина вызывал живейшее раздражение. И вот, теперь он не желал покориться, а патриарх пока не мог найти кандидата для рукоположения на Сиракузскую кафедру: среди исповедников не было человека, в нужной степени знакомого с западным наречием – а без владения латынью архиерею нечего было делать на Сицилии. Мефодий уже подумывал лично отправиться на остров и поискать ставленника среди местных жителей, как вдруг счастливый случай помог ему.
На другой день после праздника Воздвижения Креста Господня по окончании утрени патриарху доложили, что его хочет видеть некий монах, приехавший с Сицилии. Мефодий велел пригласить его: гость оказался довольно молодым человеком, – по-видимому, он еще не достиг тридцати лет. Монах был высокого роста, статен и вообще замечательно хорош собой: волнистые черные волосы, овальное лицо с угловатыми скулами и волевым подбородком, изящный прямой нос с небольшой горбинкой; большие каштановые глаза смотрели прямо и открыто из-под густых бровей, похожих на крылья чайки. С первого же взгляда гость кого-то напомнил патриарху – но кого? Мефодий не мог этого понять, хотя, глядя на монаха, не мог отделаться от чувства, что когда-то уже видел похожие черты лица и манеры с явственным налетом аристократизма – было очевидно, что до пострига этот инок принадлежал к высшим слоям общества. Григорию – так звали гостя – было двадцать шесть лет, и он уже восьмой год подвизался в одной из сиракузских обителей. Пытаясь осознать, кого же монах напоминает ему, патриарх стал задавать вопросы о его жизни и занятиях, в том числе до поступления в монастырь. Оказалось, что в юности Григорий получил хорошее светское образование, прекрасно владел как греческим, так и латынью и к тому же обладал художественным талантом – он показал патриарху Псалтирь, которую собственноручно переписал несколько лет назад и украсил миниатюрами.
– До монастыря я жил в Равенне, – рассказывал он. – Мой отец, Марк Асвеста, служил у императора Карла, мы всегда жили богато, и мне нанимали хороших учителей. А моя мать в юности изучила греческий и научила ему меня. У нас в доме всегда жили слуги из греков… Мама умерла, когда мне было девятнадцать, – Григорий чуть погрустнел. – Она была такая замечательная!.. Когда я сказал ей, что хочу идти в монахи, она обрадовалась, но благословила меня монашествовать на Сицилии – ведь это была ее родина, и ей хотелось, чтобы кто-нибудь из детей вернулся туда…
Патриарх почувствовал странное волнение. Он еще раз внимательно оглядел монаха и прервал его:
– Прости, брат, позволь задать один вопрос: при постриге тебе поменяли имя?
– Да, владыка. В миру меня звали Мефодием, – Григорий говорил, опустив глаза, и не заметил, как патриарх вздрогнул. – Я как раз хотел про это рассказать! Мама перед смертью сказал мне, что назвала меня в честь одного монаха, с которым была знакома в юности, когда еще жила в Риме с родителями. Она завещала мне, когда у вас тут окончится ересь, поехать сюда и попробовать разыскать его или хотя бы узнать, что с ним стало… Она сказала, что мне будет, чему поучиться у него, потому что, по ее словам, это был единственный настоящий монах, которого она встретила в жизни. Может быть, она и преувеличивала, но, наверное, этот отец Мефодий и правда был совсем особенный и великий подвижник… Мама сказала, что он прожил в Риме несколько лет, а когда императора Льва убили, вернулся на родину, но что с ним стало дальше, она не знала. Она очень уважала и почитала его, и мне так бы хотелось разыскать его, владыка! Мама сказала, что на родине он был игуменом монастыря… Хино…
– Хинолаккского? – Мефодий едва справился с охватившим его волнением.
– Да, точно, владыка! Здесь есть такой монастырь? Может быть, ты знаешь, что стало с отцом Мефодием? Конечно, уже прошло много лет… Но всё-таки…
– Не так уж много, брат, – улыбнулся патриарх; жаркое римское лето двадцатисемилетней давности сейчас встало перед ним так, словно дело происходило вчера. – Твою мать звали Сабиной?
– Да, – Григорий вскинул на патриарха изумленный взгляд. – Откуда ты знаешь, владыка?!
– Просто отец Мефодий – это я.
– О, Господи! – только и мог сказать ошеломленный Григорий.
Спустя две недели Асвеста уже стал патриаршим архидиаконом, но Мефодий возлагал на него гораздо большие надежды: лучшего кандидата на Сиракузскую кафедру найти в настоящее время было невозможно, и хотя Григорий еще не достиг указанного в канонах возраста для рукоположения в епископы, патриарх предполагал по снисхождению нарушить этот запрет. Однако он не хотел чересчур торопиться, чтобы не вызвать лишних нареканий, и рассчитывал рукоположить Григория в священника на Рождество Христово, а в епископа на Пасху, чтобы потом отправить на Сицилию восстанавливать православие.
Столь быстрое возвышение приезжего монаха вызвало недовольство в столице. Вновь пошли разговоры, что патриарх сплошь да рядом отличает «иноземцев»: то палестинцев Феофана и Михаила – Мефодий поставил наставника Начертанных братьев игуменом Хорской обители, а потом сделал и своим синкеллом, – то «этого италийца»… Но патриарх не обращал внимания на пересуды. Иные жалобщики писали самой императрице, однако Феодора сказала логофету:
– Феоктист, разбирайся с ними сам, а мой ответ на всё это раз и навсегда таков: патриарх избрн на их соборе ими же самими, и избрание утверждено откровением Божиим через отца Иоанникия, так чем же они недовольны? Уж не хотят ли они спорить с Богом? – она усмехнулась. – Говорят, у Бога большую честь получает тот, кто больше любит Его и ближних, что же удивительного, что так вышло и у нас? Кто скорее смирился и согласился молиться за врагов, тот и получил первенство, и я думаю, что это вполне справедливо!
Асвеста между тем быстро освоился в Константинополе. Город привел его в неописуемый восторг, так что первое время он даже не замечал неприязни кое-кого из окружающих. Впрочем, Григорий держался скромно, но с достоинством и, несмотря на относительно молодой возраст, скоро стал вызывать у большинства знакомых искреннее уважение. Он неожиданно быстро подружился с протоасикритом – теперь им был Фотий. Поскольку Лизикс не пожелал присоединиться к иконопочитателям, а его упрямство грозило тем, что вслед за его уходом из канцелярии уйдет и большинство тамошних работников, встал вопрос о его замене лицом не менее уважаемым и знающим – а лучше Фотия никого нельзя было найти. Впрочем, Фотию было уже тридцать – возраст, с учетом его дарований, вполне подходящий для столь высокой должности. Его назначение на новый пост не вызвало возражений ни у кого, даже у почитателей Лизикса, так что вслед за смещенным протоасикритом покинули канцелярию только Христодул и еще несколько человек. Фотий и Григорий сошлись благодаря библиотеке протоасикрита – за прошедшие годы Фотий приобрел немало книг. Кроме того, он показал Асвесте свои записки о прочитанном, когда-то начатые по просьбе брата Тарасия, – Фотий продолжал дополнять их после возвращения из посольства, и постепенно они разрослись в объемистый кодекс. Они чрезвычайно заинтересовали архидиакона.
– Да этому цены нет! – воскликнул Григорий. – Особенно для тех, кто не может добраться до всех этих книг… Послушай, Фотий, а ты никогда не пробовал преподавать? Мне кажется, у тебя это прекрасно получилось бы! Ты так много знаешь, так хорошо умеешь рассказывать! Право, на твоем месте я бы затеял что-то вроде дружеских встреч и бесед… Я бы сам первый ходил к тебе! Представь: ты рассказываешь о литературе, стихосложении, грамматике, философии, а мы слушаем, записываем, задаем вопросы, читаем вместе книги и обсуждаем их… О, это было бы так прекрасно! Правда, почему бы тебе не организовать что-нибудь такое? Я уверен, что многие будут счастливы ходить на такие встречи!
– Хм… Интересная мысль! – проговорил протоасикрит. – Вообще-то Логофет предлагал мне преподавать в школе у Сорока мучеников, ведь господин Игнатий опять уехал на Олимп, но я отказался. Я ведь сам учился там и представляю, что там за ученики… Они далеко не всегда бывают на таком уровне и с такой жаждой знаний, чтобы мне было интересно заниматься с ними. Но потом из Фессалоник вернулся господин Лев, и моя помощь больше не потребовалась. Но ты, Григорий, меня озадачил, – Фотий улыбнулся. – Хотя мне некоторые из друзей, кому я давал читать свои записки, тоже говорили что-то в этом роде… Да, я подумаю над этим.
Лев действительно возвратился из Солуни – уже не архиепископом, а простым монахом – и, по желанию августы, занял прежнее свое место преподавателя. Правда, патриарх заикнулся было о том, что ставить бывшего иконоборческого епископа учить юных – не самое разумное решение, но здесь императрица настояла на своем, сказав, что ручается за Философа, его добрые нравы и его веру. Математик принес формальное покаяние в том, что общался с иконоборцами, хотя и не выказал того сокрушения, какого, возможно, от него ожидал патриарх, – однако, поскольку Льву покровительствовали не только августа и ее братья, но и логофет дрома, многие другие высокопоставленные лица отзывались о нем с любовью и уважением, а бывшие ученики вспоминали его уроки с восторгом, Мефодий почел за лучшее не настаивать на своем. Единственное, о чем Философа попросили регенты – воздержаться от посещений низложенного патриарха, хотя видеться с Иоанном никому не запрещалось.
– Ты ведь понимаешь, господин Лев, – сказал Феоктист, – такие дела… Сейчас даже простой дружеский жест может быть истолкован превратно, а при твоем положении лучше «не давать повода ищущим повода». Думаю, в ближайшее время тебе не стоит даже писать Иоанну – мало ли, что… Кто знает, не донесут ли тамошние монахи святейшему… Государыне лишние затруднения сейчас совсем ни к чему!
– Я понимаю, – ответил Математик с грустной улыбкой.
Приехав, он почти сразу ощутил, как изменилась атмосфера в Городе: при внешних достаточно гладких отношениях, и во дворце, и в патриархии ощущалась скрытая напряженность, а в народе недовольство положением дел проскальзывало то там, то тут достаточно явственно: одни были недоволен новыми рукоположениями патриарха, другие всё еще сердились на Мефодия за то, что он пошел на условия восстановления иконопочитания, поставленные императрицей; иные из родственников низложенных клириков роптали на патриарха за «жестокость», а почитатели студитов были недовольны тем, что Мефодий «презрел великих исповедников»… О самих же иконоборцах что говорить – они не прекращали насмехаться над православными и при случае задирать их, тем более что пока далеко не все из знати и военных согласились присоединиться к иконопочитателям. Ходили упорные слухи о том, что низложенный патриарх «еще себя покажет», хотя об Иоанне, с тех пор как Варда увез его в монастырь на Босфоре, не было никаких достоверных известий. Возможно, молву подпитывало то обстоятельство, что Лизикс, ближайший почитатель Грамматика, упорствовал в прежних взглядах, и говорили, будто он посещал сосланного патриарха…
На третий день после Рождества Христова императрица давала обед во влахернском дворце Кариан, построенном Феофилом для дочерей – Феодора любила устраивать там званые обеды. Среди приглашенных были эпарх, синклитики и другие знатные лица, а также патриарх и многие из исповедников. Пировали вовсю, но разговоры велись чинные, так что иные из придворных даже заскучали: по старой памяти привычные к тому, что покойный император с прежним патриархом всегда оживляли подобные застолья философскими беседами и тонкими, в меру язвительными шутками, они еще не вполне приучились к новому стилю придворной жизни. Между тем августа в течение всего обеда украдкой, но довольно внимательно, разглядывала исповедников. Уже подали медовые лепешки и прочие сласти, и скучавшие с облегчением думали о том, что трапеза близится к концу, когда Феодора остановила взгляд на митрополите Никейском. В этот миг на ее лице обозначилось странное выражение, крайне обеспокоившее логофета дрома, который, в свою очередь, ощущая растущую скуку сотрапезников и какую-то тайную и неясную ему мысль, будоражившую императрицу, наблюдал за Феодорой с некоторой тревогой. Феоктист пытался определить, что такое делается с августой, и вдруг с испугом понял, что именно напомнило ему выражение ее лица – похожее выражение нередко проглядывало на лице покойного императора Михаила, когда он собирался устроить какое-нибудь «представление». В тот самый момент, когда логофет понял это, Феофан поднял глаза на императрицу и, заметив, как пристально она глядит на него, спросил:
– Почему, августейшая, ты так смотришь на меня, смиренного?
– Смотрю на эти знаки, запечатленные на твоем лице, владыка, – ответила Феодора, – и дивлюсь твоему терпению.
– То же самое, государыня, претерпел вместе со мной и мой брат Феодор, – сказал митрополит в ответ. – Он умер в горькой ссылке и не дожил до торжества веры, за которую подвизался, – Феофан помолчал несколько мгновений и твердо добавил: – И об этой надписи, августейшая, мы рассудим с мужем твоим и государем на неподкупном суде Христовом!
Повисла ужасная тишина. Все устремили взоры на императрицу, а она, чуть побледнев, поднялась с места; глаза ее сверкали негодованием.
– Так вот оно, ваше прощение! – воскликнула она. – Это ваше обещание не поминать зла, сделанного вам моим супругом?! Вы не только не прощаете его, но и на суд требуете!
Но еще никто не успел сообразить, что же делать, как патриарх тоже встал и сказал:
– Нет, августейшая, прошу тбя, не беспокойся! Наше слово твердо, и чудо Божие, подтвердившее его, никто не может опровергнуть! Не обращай, государыня, внимания на речи этого человека, – и Мефодий одарил Феофана таким взглядом, что сидевшие вблизи подумали, что самое интересное, скорее всего, начнется после того, как обед закончится и все отправятся восвояси.
«Этот человек» сделал над собой заметное усилие, чтобы не покинуть залу немедленно, всё же сдержался и, очень бледный, принялся за еду, не сказав более ни слова. Между тем подал голос митрополит Никомидийский Игнатий:
– Истинно так, августейшая владычица! Будь совершенно покойна, твой супруг прощен, и мы – свидетели тому.
Со стороны исповедников раздалось еще несколько подобных же реплик, после чего трапеза продолжалась, как ни в чем не бывало, хотя у всех было ощущение, словно над ними только что пронесся ураган…
По окончании обеда патриарх отправился во Влахернский храм, очень спокойным тоном пригласив Никейского митрополита пройти вместе с ним. Феофан столь же спокойно выразил покорность: он чувствовал свою правоту и потому нисколько не смущался. Поклонившись раке с ризой Богоматери, оба архиерея прошли в небольшие покои для патриарха, пристроенные к храму. Затворив дверь, Мефодий повернулся к митрополиту, окинул его взглядом и спросил:
– Владыка, прости меня, но в своем ли ты уме?
– В своем, святейший, – невозмутимо ответил Феофан. – Кто-то же должен сказать правду! А то после отъезда отца Симеона некому стало это делать.
Митиленец, в свое время сорвавший переговоры православных с императрицей, в начале осени уехал на Лесбос. После торжества православия патриарх сделал его синкеллом и предоставил ему для жительства Сергие-Вакхов монастырь. Но Симеон и несколько находившихся при нем послушников, со своею прямолинейностью и открытой неприязнью к иконоборцам вообще и к бывшему патриарху в частности, не прижились в обители. Хотя Арсений, прежний игумен монастыря, был лишен сана и должности, однако его место занял эконом, Арсений же принял экономство, и таким образом, дух в обители нимало не изменился: бывший настоятель по-прежнему занимался изготовлением лекарств и красок, только химические опыты временно прекратил, чтобы не вызывать подозрений у нового церковного начальства, особенно пока в обители жили лесбоссцы. Хотя сергие-вакховы монахи отнеслись к Симеону с должным уважением, по крайней мере внешне, старец чувствовал себя неуютно среди этой братии и, в конце концов, сославшись на немощь и возраст, отказался от поста синкелла и попросил у патриарха позволения отправиться на родину – «умирать», как выразился он без обиняков; после него синкеллом стал Хорский игумен Михаил.
– Что ты называешь правдой? – столь же невозмутимо спросил патриарх. – Ты хочешь сказать, что мы лжем?