Детство Иисуса Кутзее Джозеф
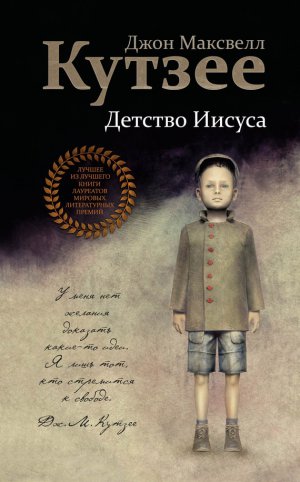
– Сеньор Дага делает вид, что живет на мороженом. А когда один, я уверен, он ест хлеб, как все остальные. И вообще не надо брать пример с сеньора Даги.
– Сеньор Дага дарит мне подарки. Вы с Инес никогда не дарите мне подарков.
– Это неправда, мой мальчик, неправда и к тому же неблагодарность. Инес любит тебя и заботится о тебе, я тоже. А сеньор Дага в глубине души вообще тебя не любит.
– Он меня любит! Он хочет, чтобы я с ним жил! Он говорил Инес, а Инес говорила мне.
– Я уверен, она никогда на это не пойдет. Ты должен жить со своей матерью. Мы за это и боремся все время. Сеньор Дага, может, и кажется тебе чарующим и восхитительным, но станешь постарше и поймешь, что чарующие восхитительные люди не всегда хороши.
– Что такое «чарующий»?
– Чарующий – это кто носит серьги и имеет при себе нож.
– Сеньор Дага влюблен в Инес. Он будет делать ей детей в животе.
– Давид! – взрывается Инес.
– Это правда! Инес сказала, чтоб я тебе не говорил, потому что ты заревнуешь. Это правда, Симон? Заревнуешь?
– Нет, конечно, не заревную. Меня это все совсем не касается. Я тебе пытаюсь втолковать, что сеньор Дага – нехороший человек. Он может звать тебя в гости и давать тебе мороженое, но в глубине души он не действует тебе во благо.
– Что такое «действовать во благо»?
– Главное благо, к которому тебе стоит стремиться, – вырасти хорошим человеком. Как хорошее семя, семя, которое зарывается глубоко в землю, пускает сильные корни, а потом, когда приходит время, вырывается к свету и родит сторицей. Вот каким тебе надо быть. Как Дон Кихот. Дон Кихот спасал девиц. Он защищал бедных от богатых и сильных мира сего. Вот с кого надо брать пример, а не с сеньора Даги. Защищай бедных. Спасай униженных. И уважай мать.
– Нет! Это моя мать должна меня уважать! И вообще – сеньор Дага говорит, что Дон Кихот устарел. Он говорит, что на лошадях уже больше никто не ездит.
– Ну, если б захотел, ты бы легко доказал ему, что он ошибается. Садись на коня и высоко поднимай меч. Тут-то сеньор Дага и замолчит. Садись на Эль Рея.
– Эль Рей умер.
– Нет, не умер. Эль Рей жив. И ты это знаешь.
– Где? – шепчет мальчик. Глаза у него внезапно наполняются слезами, губы дрожат, ему этого слова и не вымолвить.
– Я не знаю, но где-то Эль Рей тебя ждет. Если поищешь – наверняка найдешь.
Глава 28
Сегодня его выписывают из больницы. Он прощается с медсестрами. Кларе говорит:
– Я не забуду вашу заботу. Хочется верить, что за нею – не одна лишь благая воля.
Клара не отвечает, но из ее прямого взгляда он понимает, что прав.
Больница выделила машину и шофера довезти в его новый дом в Западных кварталах. Эухенио вызвался проводить его и посмотреть, как он устроился. Они выезжают на дорогу, и тут он просит шофера сделать крюк через Восточные кварталы.
– Я не могу, – отвечает шофер. – Не положено.
– Пожалуйста, – просит он. – Мне нужно забрать кое-какую одежду. Всего пять минут.
Шофер неохотно соглашается.
– Ты говорил, что у твоего мальца трудности с учебой, – говорит Эухенио, пока они сворачивают к востоку. – Что за трудности?
– Школьное руководство хочет его у нас забрать. Силой, если потребуется. Они хотят вернуть его в Пунто-Аренас.
– В Пунто-Аренас! Почему?
– Потому что они построили в Пунто-Аренас школу специально для детей, которым скучно слушать про Хуана и Марию и чем они там были заняты у моря. Кому скучно, и кто свою скуку показывает. Для детей, которые не подчиняются правилам сложения и умножения, преподанным учителем. Рукотворным правилам. Два и два не всегда равно четырем и так далее.
– Плохо дело. Но почему твой мальчик не хочет складывать, как ему учитель говорит?
– С чего бы? Внутренний голос мальчика подсказывает ему, что взгляд учителя неверен.
– Не понимаю. Если правила верны для тебя, для меня и для всех остальных, как они могут быть неверны для него? И почему ты зовешь их рукотворными правилами?
– Потому что два и два может быть запросто равно трем или пяти, или девяносто девяти, если мы так решили.
– Но два и два равно четырем. Если только ты не подразумеваешь что-то странное, особенное под словом «равно». Сам посчитай: один, два, три, четыре. Если два и два действительно равнялось бы трем, все бы рухнуло в хаос. Мы бы жили в другой вселенной, с другими физическими законами. В существующей вселенной два и два равно четырем. Это всемирное правило, от нас оно не зависит и совсем не рукотворное. Даже если б нас с тобой не было, два и два все равно равнялось бы четырем.
– Да, но какие два и какие два равны четырем? Обыкновенно, Эухенио, я думаю, что ребенок попросту не понимает числа, – как не понимает кошка или собака. Но временами я себя спрашиваю: есть ли кто-то на земле, для кого числа действительнее?.. Пока я лежал в больнице, делать мне было нечего, и я пытался, в порядке умственного упражнения, посмотреть на мир глазами Давида. Положи перед ним яблоко – что он видит? Какое-то яблоко – не одно яблоко, а просто яблоко. Положи два яблока. Что он видит? Просто яблоко и просто яблоко: не два яблока, не одно яблоко дважды, а просто яблоко и яблоко. И тут появляется сеньор Леон (сеньор Леон – его классный руководитель) и спрашивает: «Сколько тут яблок, дитя?» Какой ответ? Что такое «яблоки»? Каково единственное число того, для чего «яблоки» – множественное? Трое людей в автомобиле едут в Восточные кварталы: каково единственное число тому, для чего «люди» – множественное? Эухенио, или Симон, или наш друг-шофер, имени которого я не знаю? Нас трое или же мы – один, один и один?.. Ты всплескиваешь руками от раздражения, и я понимаю, почему. Один, один и один – это три, скажешь ты, и я готов согласиться. Трое людей в машине – все просто. Но Давид нас не понимает. Он не делает те же шаги, что мы все, когда считаем: один шаг два шаг три. Для него числа – словно острова, плавающие в громадном черном море пустоты, и его каждый раз просят закрыть глаза и нырнуть в пустоту. А если я упаду? – вот что он себя спрашивает. – Что, если я упаду и буду падать вечно? Лежа по ночам в постели, я, клянусь, тоже будто падал – подпадал под те же чары, что действуют на мальчика. «Если это так трудно – добраться от одного до двух, – спрашивал я себе, – как же вообще дотянуться от нуля к единице?» Из ниоткуда куда-то – тут же, кажется, нужно настоящее чудо.
– У мальчика и впрямь живое воображение, – задумчиво произносит Эухенио. – Плавучие острова. Но он из этого вырастет. Это все наверняка от застарелой неуверенности. Нельзя не заметить, как легко он взвинчивается, какой возбужденный делается без всякого повода. Может, за этим кроется какая-то история, ты не знаешь? У него родители много ругались?
– Родители?
– Его настоящие родители. Может, у него какая-нибудь травма прошлого, шрам? Нет? Ну, не важно. Как почувствует себя уверенно в своем окружении, как до него начнет доходить, что вселенная – не только пространство чисел, но и все остальное, – управляется законами, что все происходит неслучайно, он образумится и успокоится.
– То же нам сказал и школьный психолог. Сеньора Очоа. Когда прочувствует себя в мире, когда примет себя, исчезнут его трудности с обучением.
– Уверен, она права. Просто нужно время.
– Возможно. Возможно. Однако вдруг не мы правы, а он? Что, если между двумя и тремя нет моста, а одно лишь пустое пространство? И что, если мы, так уверенно делающие этот шаг, на самом деле валимся в пустоту, просто не знаем об этом, потому что не снимаем с глаз повязки? А ну как только у этого мальчика – единственного из всех нас – глаза зрячи?
– Это все равно что сказать: «А ну как безумцы на самом деле здравы, а здравые – на самом деле безумцы?» Это, уж прости меня, Симон, мудрствования школьника. Кое-что – попросту истина. Яблоко есть яблоко есть яблоко. Яблоко и еще одно яблоко – будет два яблока. Один Симон и один Эухенио – два пассажира автомобиля. Ребенок, которому это принять легко, – обычный ребенок. Ему легко, потому что это истина, потому что мы с рождения, так сказать, с ней сонастроены. А что до страха упасть в пустоту между числами – ты когда-нибудь говорил Давиду, что число чисел бесконечно?
– И не раз. Я говорил ему, что последнего числа не существует. Что числа уходят в бесконечность. Но при чем здесь это?
– Бесконечности бывают благие и порочные, Симон. Мы с тобой как-то говорили о порочных бесконечностях – помнишь? Порочная бесконечность – это оказаться во сне, который сам – сон внутри третьего сна, и так далее нескончаемо. Или оказаться в жизни, которая лишь прелюдия к другой жизни, которая тоже лишь прелюдия, и так далее. Числа – они не такие. Числа составляют благую бесконечность. Почему? Потому что числа им нет, и они заполняют собой вселенную, прилегая друг к другу плотно, как кирпичи. Так что мы спасены. Падать некуда. Скажи об этом мальчику. Это придаст ему уверенности.
– Так и сделаю. Но почему-то я думаю, что это его не утешит.
– Пойми меня правильно, друг мой. Я не защищаю школьную систему. Согласен, она очень жесткая, очень старомодная. С моей точки зрения, много чего можно было бы сделать для более практичного, более профессионально-ориентированного образования. Давид мог бы выучиться на слесаря или плотника, к примеру. Для этого высшей математики не требуется.
– Или на грузчика.
– Или на грузчика. Грузчик – вполне почетное занятие, как мы оба знаем. Нет, я с тобой согласен: твой малец хлебает лиха. И все же учителя по-своему правы, верно? И дело не только в следовании правилам арифметики, но и правилам вообще. Сеньора Инес – очень милая дама, но она чрезмерно балует ребенка, это все видят. Если ребенку постоянно потакать и говорить, что он особенный, если разрешить ему выдумывать правила по ходу дела, что за человек из него вырастет? Может, некоторая дисциплина на этом этапе жизни юному Давиду и не повредила бы.
Хоть он и чувствует к Эухенио величайшую благую волю, хоть его и трогает готовность Эухенио дружить со старшим товарищем, а также многая доброта молодого человека, хоть и не винит он его в том, что произошло в порту – сядь он за рукоятки подъемного крана, справился бы не лучше, – в глубине души он так к Эухенио и не проникся. Он считает его чопорным, зашоренным и напыщенным. Он ощетинивается от его критики Инес. И все же сдерживается.
– В воспитании детей есть две школы мысли, Эухенио. Одна предлагает лепить их, как глину, делать из них добродетельных граждан. Другая говорит, что мы все когда-то были детьми, а счастливое детство – фундамент счастливой дальнейшей жизни. Инес придерживается второй школы, а поскольку она его мать, поскольку связь между ребенком и его матерью священна, я ее поддерживаю. И поэтому нет, я не верю, что усиление школьной дисциплины принесет Давиду пользу.
Они едут молча.
В Восточных кварталах он просит шофера подождать, и Эухенио помогает ему выбраться из машины. Они вместе медленно восходят по лестнице. Добираются до второго этажа, и там их встречает жуткое зрелище. У квартиры Инес стоят двое – мужчина и женщина – в одинаковой синей форме. Дверь распахнута, изнутри слышен голос Инес – высокий, сердитый.
– Нет! – говорит она. – Нет-нет-нет! Вы не имеете права!
Незнакомцам что-то мешает войти – и он видит, что именно, когда они подбираются ближе: на пороге сидит пес Боливар, уши прижаты, зубы обнажены, овчарка тихо рычит и следит за каждым движением людей, готова к прыжку.
– Симон! – кричит Инес. – Скажите этим людям, чтоб убирались! Они хотят забрать Давида в тот кошмарный исправдом. Скажите им, что они не имеют права!
Он глубоко вдыхает.
– Вы не имеете прав на мальчика, – говорит он, обращаясь к женщине в форме, маленькой и опрятной, как птичка, совсем не похожей на своего грузного напарника. – Я привез его в Новиллу. Я его хранитель. Я во всех смыслах, относящихся к делу, – его отец. Сеньора Инес, – он машет на Инес, – во всех отношениях его мать. Вы не знаете нашего сына так, как знаем его мы. Нет в нем ничего такого, что нуждается в исправлении. Он разумный мальчик, у которого есть некоторые трудности со школьной программой, не более того. Он видит провалы, философские провалы, там, где у обычного ребенка их нет. Его нельзя забирать из дома и из семьи. Мы этого не допустим.
За его речью следует долгое молчание. Из-за спины сторожевого пса Инес яростно буравит женщину взглядом.
– Мы этого не допустим, – повторяет она.
– А вы, сеньор? – спрашивает женщина, обращаясь к Эухенио.
– Сеньор Эухенио – друг, – вмешивается он, Симон. – Он любезно сопровождает меня из больницы. Он в этом недоразумении не участвует.
– Давид – исключительный ребенок, – говорит Эухенио. – Его отец предан ему. Я видел это собственными глазами.
– Колючая проволока! – говорит Инес. – Какие-такие преступники у вас там в этой школе, что их нужно держать за колючей проволокой?
– Колючая проволока – байки, – говорит женщина. – Совершенный вымысел. Я понятия не имею, откуда он берется. Нет в Пунто-Аренас никакой колючей проволоки. Напротив, у нас…
– Он выбрался через колючую проволоку! – перебивает Инес, вновь возвысив голос. – Он об нее разодрал одежду! И вам еще хватает наглости говорить, что там нет колючей проволоки!
– Напротив, у нас политика открытых дверей, – стойко продолжает женщина. – Дети у нас вольны ходить где угодно. Даже замков на дверях нет. Давид, скажи нам честно: в Пунто-Аренас есть колючая проволока?
Теперь, приглядевшись, он замечает, что мальчик всю эту перепалку присутствует рядом, таясь за матерью, слушает внимательно, большой палец – во рту.
– Правда колючая проволока? – повторяет женщина.
– Там есть колючая проволока, – медленно произносит мальчик. – Я через нее прошел.
Женщина качает головой, на лице – едва заметная изумленная улыбка.
– Давид, – говорит она мягко, – мы с тобой оба знаем, что это выдумка. Никакой колючей проволоки в Пунто-Аренас нет. Давайте все поедем и сами убедимся. Можем сесть в машину и поехать туда хоть сейчас. Нет там колючей проволоки никакой.
– Мне не нужно ни в чем убеждаться, – говорит Инес. – Я верю своему ребенку. Если он говорит, что она есть, значит, это правда.
– Но правда ли это? – говорит женщина, обращаясь к мальчику. – Действительно ли это колючая проволока, которую мы можем увидеть воочию, или такая колючая проволока, что могут увидеть и потрогать лишь некоторые люди с живым воображением?
– Она настоящая. Это правда, – говорит мальчик.
Воцаряется молчание.
– Вот, значит, в чем дело, – говорит наконец женщина. – Колючая проволока. Если я докажу вам, сеньора, что там нет колючей проволоки, что ребенок просто рассказывает небылицы, вы его отпустите?
– Вы не сможете это доказать, – говорит Инес. – Если ребенок говорит, что там колючая проволока, я верю ему – там колючая проволока.
– А вы? – спрашивает женщина.
– И я ему верю, – отвечает он, Симон.
– А вы, сеньор?
Эухенио явно неловко.
– Я бы посмотрел сам, – говорит он наконец. – Я не могу верить, пока сам не увижу.
– Что ж, мы, похоже, в тупике, – говорит женщина. – Сеньора, давайте так. У вас есть выбор: либо вы подчиняетесь закону и отдаете нам ребенка, либо мы вынуждены будем звонить в полицию. Что предпочитаете?
– Через мой труп вы его заберете, – говорит Инес. Она смотрит на него. – Симон! Сделайте что-нибудь!
Он глядит на нее беспомощно.
– Что я должен делать?
– Это не постоянная разлука, – говорит женщина. – Давид может ездить домой каждые вторые выходные.
Инес мрачно молчит.
Он просит в последний раз:
– Сеньора, пожалуйста, задумайтесь. То, что вы предлагаете, разобьет материнское сердце. И ради чего? Вот ребенок, у которого свои представления всего лишь об арифметике – не об истории, не о языке, а о скромной арифметике, представления, из которых он вероятнее всего скоро вырастет. Неужели это преступление, если ребенок говорит, что два и два равно трем? Как это может поколебать общественный порядок? И вы из-за этого собрались оторвать его от родителей и закрыть его за колючей проволокой! Шестилетку!
– Нет там колючей проволоки, – терпеливо повторяет женщина. – И ребенка переводят в Пунто-Аренас не потому что он не умеет складывать, а потому, что ему нужна особая опека. Пабло, – говорит она своему молчаливому напарнику, – подожди здесь. Я бы хотела поговорить с этим господином наедине. – Ему: – Сеньор, можно попросить вас пройти со мной?
Эухенио берет его под руку, но он отказывается от помощи.
– Все хорошо, спасибо, – если не торопиться. – Объясняет женщине: – Я только что из больницы. Производственная травма. Мне еще слегка нездоровится.
Они вдвоем на лестнице.
– Сеньор, – говорит женщина вполголоса, – пожалуйста, поймите: я не бездушный конторщик. Я по образованию психолог. Я работаю в Пунто-Аренас с детьми. В то краткое время, которое Давид пробыл у нас до побега, я лично взялась за ним присматривать. Потому что – тут я с вами согласна – он слишком юн, чтобы жить вдали от дома, и я беспокоилась, что он почувствует себя брошенным… Я увидела милого ребенка – очень искреннего, очень прямолинейного, он не боится говорить о своих чувствах. Но увидела я и еще кое-что. Я увидела, как быстро он запал в душу остальным мальчикам – в особенности старшим. Даже самым лихим. Я не преувеличиваю – они его обожают. Они хотели сделать его своим живым талисманом.
– Живым талисманом? Единственная известная мне разновидность живого талисмана – украшенный зверек, которого водят на веревке. Чем тут гордиться – быть живым талисманом?
– Он был их любимцем, всеобщим любимцем. Они не понимают, почему он убежал. Они тоскуют. Каждый день о нем спрашивают. Зачем я вам это рассказываю, сеньор? Чтобы вы поняли, что Давид с самого начала нашел свое место в нашей общине в Пунто-Аренас. Пунто-Аренас – не обыкновенная школа, где ребенок проводит несколько часов в день, впитывая знания, а потом идет домой. В Пунто-Аренас учителя, ученики и наставники тесно сплочены. Почему же тогда Давид убежал? Не потому, что он там был несчастлив, уверяю вас. А потому что у него мягкое сердце, и мысль о том, что сеньора Инес страдает по нему, была ему несносна.
– Сеньора Инес – его мать, – говорит он.
Женщина пожимает плечами.
– Если бы он подождал несколько дней – приехал бы домой на побывку. Можете уговорить жену, чтобы она его отпустила?
– И как вы себе представляете эти уговоры, сеньора? Вы ее видели. Каким же волшебным заклинанием располагаю я, чтобы заставить такую женщину изменить мнение? Нет, трудность ваша не в том, чтобы забрать Давида у матери. У вас есть власть. Трудность у вас с тем, чтобы его удержать. Решит он вернуться домой к родителям – вернется. Вы не в силах его остановить.
– Он будет убегать, пока убежден, что мать зовет его. Поэтому я и прошу вас с ней поговорить. Убедить ее, что лучше ему поехать с нами. Потому что так лучше всего.
– Вам ни за что не уговорить Инес, что лучше всего – забрать у нее ребенка.
– Тогда уговорите ее хотя бы отдать его без слез и угроз, не расстраивая его. Потому что так или иначе ему придется поехать. Закон есть закон.
– Может, и так, но есть и более высокие соображения, чем подчинение закону, высший долг.
– Да неужели? Не подозревала. Увольте, мне и закона хватает.
Глава 29
Нет сотрудников Пунто-Аренас. Нет Эухенио. Нет и водителя, и задача его не выполнена. Он один с Инес и мальчиком, пока в безопасности за запертой дверью своей старой квартиры. Боливар, выполнив долг, вернулся на свой пост у батареи, откуда мрачно смотрит и ждет, навострив уши, следующего вторжения.
– Давайте сядем и вместе обсудим ситуацию – втроем? – предлагает он.
Инес качает головой.
– Нет больше времени на обсуждения. Я звоню Диего и прошу заехать за нами.
– Заехать за вами и отвезти в «Ла Резиденсию»?
– Нет. Мы будем гнать, пока не уберемся за пределы досягаемости этих людей.
Никакого долгосрочного плана, никакой внятной системы побега – это ясно. Он душой с ней – с этой непоколебимой сухой женщиной, чью жизнь теннисных увеселений и коктейлей на закате он перевернул вверх дном, отдав ей ребенка, чье будущее теперь сжалось до бесцельной гонки по проселкам, пока это не наскучит ее братьям или не кончатся деньги, и у нее не останется выбора – придется вернуться и сдать свой драгоценный груз.
– Как ты, Давид, относишься к тому, – говорит он, – чтобы вернуться в Пунто-Аренас, ненадолго, чтобы показать им, какой ты умница, сделавшись лучшим учеником в классе? Покажешь, что ты складываешь числа лучше всех, что умеешь подчиняться правилам и быть хорошим мальчиком. Как только они это поймут – отпустят тебя домой, честное слово. И ты опять сможешь жить нормальной жизнью, жизнью нормального мальчика. Кто знает, может даже мемориальную табличку однажды повесят в Пунто-Аренас: «Здесь жил знаменитый Давид».
– А чем я буду знаменитый?
– Придется подождать и посмотреть. Может, ты станешь знаменитым фокусником. Или знаменитым математиком.
– Нет. Я хочу уехать с Инес и Диего на машине. Хочу быть цыганом.
Он обращается к Инес:
– Молю вас, Инес, подумайте еще раз. Не бросайтесь в это безрассудство. Должно быть что-то получше.
Инес встает.
– Вы опять передумали? Вы хотите, чтобы я отдала ребенка чужим людям – отдала светоч моей жизни? Что, по-вашему, я тогда за мать? – И, мальчику: – Иди собирай вещи.
– Я уже собрался. А можно Симон меня немножко покачает, а потом мы поедем?
– Сомневаюсь, что могу сейчас покачать кого-нибудь, – говорит он, Симон, – старой силы сейчас нет у меня, понимаешь.
– Ну немножко. Пожалуйста.
Они спускаются на игровую площадку. Прошел дождь – сиденье качелей влажно. Он вытирает его рукавом.
– Качну пару раз всего, – говорит он.
Качать он может только одной рукой, и качели едва двигаются. Но мальчик, похоже, счастлив.
– Теперь твоя очередь, Симон, – говорит он. С облегчением он, Симон, усаживается на качели, мальчик толкает.
– У тебя был отец или заступник, Симон? – спрашивает мальчик.
– Почти уверен, что у меня был отец, и он качал меня на качелях, вот как сейчас ты меня. У всех у нас есть отцы, это закон природы, как я тебе уже говорил, но некоторые отцы исчезают или теряются.
– Тебя отец высоко качал?
– До самого верха.
– А ты падал?
– Я не помню, чтоб упал хоть раз.
– А что бывает, когда падаешь?
– Все зависит… Если повезет, будет шишка. А если очень-преочень не повезет, сломаешь руку или ногу.
– Нет, что происходит, когда падаешь?
– Не понимаю. В смысле, когда происходит падение?
– Да. Это как летать?
– Нет, совсем нет. Летать и падать – не одно и то же. Только птицы умеют летать, а мы, люди, слишком тяжелые.
– Но хоть ненадолго, на самом верху, оно же как летать, правда?
– Наверное, если забыть, что падаешь. А почему ты спрашиваешь?
Мальчик одаряет его загадочной улыбкой.
– Потому что.
На лестнице их встречает угрюмая Инес.
– Диего передумал, – говорит она. – Он с нами не едет. Я так и знала. Говорит, нам придется ехать на поезде.
– На поезде? Куда? До конца ветки? И что вы будете там делать, вдвоем с ребенком? Нет. Звоните Диего. Скажите, чтоб пригнал машину. Я поведу. Понятия не имею, куда нам ехать, но я с вами.
– Он не согласится. Он не отдаст машину.
– Это не его машина. Она принадлежит вам троим. Скажите ему, что он на ней достаточно поездил, теперь ваша очередь.
Через час появляется Диего – насупленный, охочий до ссоры. Но Инес пресекает его ворчание. Она облачена в сапоги и плащ, и такой властной он не видел ее прежде никогда. Диего стоит в сторонке, руки в брюки, а она вскидывает тяжелый чемодан на крышу автомобиля, привязывает его. Когда мальчик притаскивает свою коробку находок, она решительно качает головой.
– Три вещи, не больше, – говорит она. – Маленьких. Выбирай.
Мальчик выбирает сломанный часовой механизм, камень с белой прожилкой, дохлого сверчка в стеклянной банке и сухую грудную косточку чайки. Она спокойно берет у него косточку двумя пальцами и выбрасывает ее.
– Остальное неси в мусорный бак. – Мальчик смотрит на нее ошарашенно. – Цыгане с собой музеи не таскают, – говорит она.
Наконец машина готова к отбытию. Он, Симон, осторожно устраивается сзади, за ним мальчик, далее – Боливар, ложится у них в ногах. Ведя автомобиль гораздо быстрее необходимого, Диего выруливает к «Ла Резиденсии», где молча выходит, хлопает дверью и удаляется.
– Почему Диего такой сердитый? – спрашивает мальчик.
– Он когда-то был принцем, – говорит Инес. – Он привык, чтобы все было по его.
– Теперь я принц?
– Да, ты принц.
– А ты королева, а Симон – король? Мы семья?
Они с Инес переглядываются.
– Вроде того, – говорит он. – В испанском нет названия для того, что мы есть, так что давай называть нас семьей Давида.
Мальчик откидывается на сиденье, очень довольный.
Он ведет медленно – чувствует удар боли всякий раз, когда переключает скорость, – выезжает из «Ла Резиденсии» и принимается искать дорогу на север.
– Куда мы едем? – спрашивает мальчик.
– На север. Есть соображения, куда бы получше?
– Нет, но я не хочу жить в палатке, как в том, другом месте.
– В Бельстаре? Вообще-то это неплохая мысль. Мы можем отправиться в Бельстар: сесть на судно и вернуться к старой жизни. И все наши заботы останутся позади.
– Нет! Я не хочу старую жизнь, я хочу новую!
– Я пошутил, мой мальчик. Начальник порта в Бельстаре не позволил бы никому сесть на корабль в старую жизнь. Он в этом очень строг. Никаких возвращений. Так что либо новая жизнь, либо та, которой мы жили. Есть предложения, Инес, где нам найти новую жизнь? Нет? Тогда будем ехать и посмотрим, что впереди.
Они находят трассу на север и едут по ней – сначала по промышленным пригородам Новиллы, а потом по суровым сельским местам. Дорога постепенно уходит в горы.
– Мне надо покакать, – объявляет мальчик.
– Может, потерпишь? – говорит Инес.
– Нет.
Оказывается, туалетной бумаги не взяли. Что еще Инес забыла в спешке?
– А мы взяли «Дона Кихота»? – спрашивает он мальчика.
Мальчик кивает.
– Пожертвуешь страницей?
Мальчик качает головой.
– Тогда придется тебе ходить с грязной попой. Как цыгану.
– Можно и носовым платком, – холодно выговаривает Инес.
Они останавливаются. Затем едут дальше. Машина Диего начинает ему нравиться. Она, может, и неказистая, и неуклюжая, но двигатель вроде стойкий, податливый.
С высоты они спускаются в заросшие кустарником холмы, по ним там и сям рассыпаны селенья, и места здесь совсем не похожи на песчаные пустоши к югу от города. Их автомобиль подолгу катит по дороге совсем один.
Они натыкаются на городок под названием Лагуна-Верде (с чего? нет тут никакой лагуны) и там заправляются. Проходит час, не меньше пятидесяти километров, и они добираются до следующего городка.
– Уже поздно, – говорит он. – Надо искать место для ночлега.
Они едут по главной улице. Гостиницы нигде не видно. Останавливаются на бензоколонке.
– Где в округе можно переночевать? – спрашивает он у дежурного.
Человек чешет голову.
– Если нужна гостиница, вам придется ехать в Новиллу.
– Мы только что оттуда.
– Тогда не знаю, – говорит дежурный. – Обычно люди разбивают палатки.
Они возвращаются на трассу, сгущается ночь.
– Мы сегодня будем цыганами? – спрашивает мальчик.
– У цыган есть кибитки, – говорит он. – У нас кибитки нет, только забитая маленькая машина.
– Цыгане спят под заборами, – говорит мальчик.
Карты у них нет. Он понятия не имеет, что ждет их в пути. Они молча едут дальше.
Он поглядывает через плечо. Мальчик уснул, обняв Боливара за шею. Он смотрит псу в глаза. «Стереги его», – говорит он, не произнося ни слова. Ледяные янтарные глаза смотрят на него в ответ, не мигая.
Он знает, что пес его не любит. Но, может, пес не любит никого; может, любовь ему не по сердцу. Какое вообще имеет значение любовь ли, обожание ли по сравнению с преданностью?






