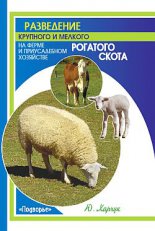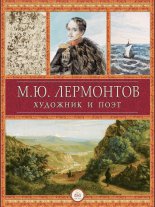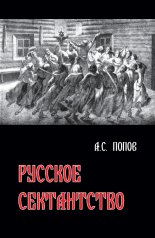Вечное пламя Бурцев Виктор
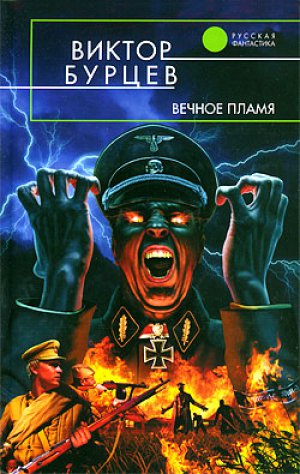
– Даже не знаю, – Лопухин задумался. – Мы собирались костерок запалить. А потом гроза, ночь… Не видно ни черта…
– Хорошо. Что было дальше?
– Ночью нам показалось, что рядом кто-то ходит. Вообще вся эта история дурная и ерундой какой-то отдает.
– А вы рассказывайте как есть, мы потом обсудим и решим, привиделось или…
– В общем, я видел голого человека. Грязного. Будто в земле вывалялся. Испугались. Кончилось тем, что он к нам в воронку рухнул. Мы убежали. Стыдно сказать, стреляли незнамо куда. В общем, остаток ночи на горке провели. Потом, как светло стало, спустились вниз. Следов множество. Будто полк топтался. Да, и босые все!
– Что еще?
– Могила большая. Наполовину водой залитая. И трупы. Вроде как голые… В общем, сбежали мы оттуда, товарищ генерал. Страшно стало. Дурость?
Болдин покачал головой.
– Вполне понятная реакция. На войне многое невозможно объяснить здравым смыслом. И иногда начинает казаться, что все, что вы знаете о мире, рушится…
– Да, – неожиданно вскинулся Иван. – Мне рассказывали…
Болдин снова кивнул.
– Всякое бывает. Есть место на войне и чудесам, и мистификациям. Надо просто уметь отличать одно от другого. Иногда бывает не грех и сбежать… Вдруг вы столкнулись с новым оружием врага. Погибнете, и никто не узнает.
– Ну, это не наш случай, – Лопухин нашел в себе силы засмеяться.
– Откуда вам знать?
Этот вопрос поставил Ивана в тупик.
– Вы хотите сказать?..
– Нет-нет… – Болдин замахал руками. – Что вы? Ни в коем случае… Вы же не уверены в том, что видели.
– Не уверен, – Лопухин развел руками.
– Вот видите. Давайте пока будем считать, что увиденное вами не доказано. А потому рассказывать об этом кому-либо не желательно. Вы ведь материалист?
– Да. Конечно.
– И прекрасно. Отдыхайте сейчас, Иван Николаевич. А завтра будет видно.
Иван встал.
– Разрешите обратиться, товарищ генерал?
Болдин тоже поднялся.
– Разрешаю.
– Хочу пойти завтра в разведку.
– А вы имеете определенные навыки?
– Нет. Но зато, если мы выйдем на деревню, я хорошо нахожу контакт с людьми. Я журналист. Мне положено.
– Я подумаю…
19
Они лежали в кустах уже третий час. Укрывшись ветками и вжавшись в землю.
Внешне деревня ничем не отличалась от других. Все те же дома, заборы, колодцы. Сухая, пыльная дорога с поросшей репейниками обочиной. Только нет вездесущих кур да собаки молчат. И ни одного человека.
– Эх, тертая морковка. – Коля Парховщиков, один из тех пограничников, которые ушли в разведку, получил жесткий втык от начальства на предмет матерщины. – Мамкина норка. Не по-людски, все не по-людски. Что-то эта свистобратия по избам попряталась.
Рядом вздохнул капитан.
– Коля… Была б на то моя воля, я бы тебе рот совсем зашил. Суровыми нитками…
– А я чего? Я ничего, обещал не выражаться. Слово держу. Как же иначе чувства выражать?
– Чувства… Твою дивизию…
– Вот видите, товарищ капитан.
Они замолчали.
Наконец не выдержал Лопухин:
– Я пойду?
– Куда? – Капитан недовольно покосился в его сторону. Мало того, что ему навязали в разведку политработника, да еще военкора, личность сугубо штатскую и к суровой службе не приученную, так теперь эта личность еще и проявляет инициативу.
Иван всю дорогу ловил на себе косые взгляды, хотя и старался идти тихо. Но сучки, как назло, попадали под ногу, хрустели звонко, листья шуршали, а земля так и норовила вывернуться из-под ноги. Демаскировка.
– В деревню.
– А если немцы?
– А я одежду скину… И так… Пройдусь, будто бы совсем местный.
Коля Парховщиков хмыкнул и приготовился уже ляпнуть что-то особо заковыристое, но побоялся грозного командира.
– Попробуй, – хмуро ответил капитан. – Скидай все. И сапоги. Портки оставь… Скажешь, если что, купался.
– Где?
– На речке, где… Есть тут какая-нибудь речка. Вона, ручей переходили. Там и купался. Жарко. Под дурачка коси. Кланяйся, если чего. Понял?
– Да. Понял. Дурачка ломать и купался…
– Ничего ты не понял, – капитан сморщился. – Ну да черт с ним. Главное, запомни: как свистнет, сразу падай. Где услышишь, там и падай. Усек?
– Так точно… Ну что, иду? А то комары зажрут совсем…
– Давай… – Капитан махнул Парховщикову: – Пойдешь следом, кустами. Как уж поползешь! Понял?
– Да понял, я, понял, лисья шкурка…
Как матершинник Коля растворился в зелени, Иван уже не видел. Потому что шагнул в пыль деревенской дороги…
И тишина укутала его с головой. Если в лесу были слышны птицы, шум ветра, то, как только Лопухин оказался в деревне, все звуки словно отрезало. Даже собственных шагов не слыхать. На всякий случай Иван потер уши, кашлянул. Нет, со слухом все в порядке. Просто… тишина.
Лопухин заставил себя распрямить плечи и сделать несколько шагов вперед. Ему казалось, что он двигается легко, как человек, ни о чем не подозревающий. Однако капитан, наблюдавший за этой сценой, только зло шикнул сквозь зубы: «Городской раздолбай!»
Идти по деревне было страшно.
Дико, до одури, до дрожи страшно. Но иначе, чем тогда, когда на высотку перли немецкие танки. Сейчас дрожала каждая жилка, каждый мускул, казалось, был напряжен, улыбка приклеилась к лицу уродливой гримасой. Это чувство не было страхом смерти, но чем-то другим, особенным, более всего похожим на азарт.
Все цело. Окна не разбиты. Заборы не повалены. Только в одном месте разбит горшок… Черепки раскиданы вокруг.
Но будки пусты. Окна закрыты. Тишина. И неотступное, давящее ощущение, что в спину смотрят внимательные злые глаза.
Несколько раз Иван даже оборачивался.
Наконец, не пройдя и середины пути, он понял, что больше не может вот так топать, делая вид, что ничего не происходит. Иван остановился. Дома, окружавшие его, были ничем не лучше и не хуже других.
Осторожно, словно боясь нарушить эту невероятную тишину, боясь разбудить кого-то, Лопухин толкнул ближайшую калитку. Вошел во двор… Черные окна без занавесок пялились на него, словно заглядывая в душу. Иван осторожно обошел пустую собачью конуру, будто опасаясь, что там, внутри, все еще сидит огромный страшный зверь.
Почему-то сейчас каждая деталь казалось значимой. Таинственной. Топор-колун, вбитый в огромное бревно. Веревка, болтающаяся на заборе. Ржавый гвоздь, торчащий из стены. Все было наполнено злобой, жестокостью. Неодушевленные предметы будто ожили.
Иван долго не решался взяться за ручку, чтобы открыть дверь.
– Что за наваждение… – Лопухин потряс головой.
Петли пронзительно взвизгнули. Дом раззявил черную пасть…
Пусто.
Никого. И только опрокинутое ведро лежит поперек прохода.
Иван, превозмогая себя, шагнул внутрь. Прошел в комнату. Печка. Остановившиеся часы на стене.
Образцовый порядок. Такого не бывает в домах, где живут люди.
Иван прошелся по комнате. Толкнул дверь в спальню и замер.
Посреди комнаты стояла кровать. Вид разорванных, залитых кровью простыней резко ударил по глазам. Посреди порядка и тишины эта жуткая кровать кричала, орала на все голоса.
Лопухина будто отшвырнуло назад, он запнулся о скамью, упал, не чувствуя боли, ударился о дверь и вывалился на улицу.
Он выскочил на дорогу, завертелся, не понимая, куда нужно идти и откуда он пришел. Наконец, как ему показалось, сориентировавшись, он кинулся к лесу.
Иван вломился в кусты, как медведь в чащу, и в тот же миг что-то твердое и жесткое врезалось ему под дых.
– Кха… – Лопухин согнулся, ловя ртом остатки воздуха. Крепкая ладонь зажала ему рот. Над Иваном нависла злая физиономия капитана.
– Ты что?! Одурел?!
Но Лопухин только дергался, пытаясь освободиться из цепкой хватки пограничника.
Капитан в сердцах плюнул.
– Я только… – прохрипел Иван. – Только… в один дом… А там… Там все чисто.
– Ну и чего?
– А кровать… кровать вся… вся в крови… И разодрана вся… И никого. Ни собак, ни кошек. Ничего… – Он перевернулся на четвереньки и принялся тяжело кашлять.
– Тише ты… – Капитан утер лоб. – Чертова канитель. Ладно! Выходим. Мартынов и Лобачевский по центру, остальные огородами. В темпе. Понятно? Вопросы?
Вопросов не было.
– Парховщиков, по домам, вихрем! А ты, военкор, с ним пойдешь. Одевайся… боец.
20
В деревню вошли осторожно. По центру улицы двигались капитан и еще два красноармейца. По сторонам, перемахивая через заборы и топча огороды, шустрили остальные бойцы. Зазвенели стекла. Где-то загрохотала отодвигаемая мебель.
Парховщиков с красным лицом выскочил из дома.
– Что там? – спросил капитан.
– Пусто! Вообще никого-ничего, только по полу яйца раскиданы.
– Какие такие яйца?
– Дык куриные, товарищ капитан. – Парховщиков только руками развел. – Едрена Катерина. И все целые. Ни одного битого.
– Дальше, дальше… Куда они все делись, черти?!
Везде что-то было не так. Где-то разорванная кровать, залитая кровью. Где-то целые яйца, раскиданные по полу, где-то в печку засунута вся утварь, кастрюли, чугунки и даже кружки. На фоне порядка это выглядело жутко, пугающе. Будто резвился какой-то псих…
– Нашел!
От этого крика вздрогнул не только Лопухин. Даже капитан остановился посреди дороги, нервно поправив фуражку.
– Где?
– Там… – Солдатик, прибежавший с дальнего конца деревни, был бледен как мел. По лицу катились крупные капли пота. – Там… все. Всех… Сарай… У реки.
Капитан вздохнул.
В сарай Иван не зашел. Сил не хватило. Он слышал только, как гудят мухи. И как блюет за дверью Парховщиков, залетевший внутрь первым.
И запах. Жуткий, ни с чем не сравнимый запах крови. Большой крови, разлитой по полу, впитавшейся в бревна стен, вытекающей наружу тягучей, густой рекой…
Когда в дверях сарая показался капитан, его лицо больше всего напоминало восковую маску. Неживое. Тусклое. Белое.
– Возвращаемся… Продуктов наберите… – Голос его прозвучал хрипло.
Но почему-то сразу запели птицы. Ветер зашумел в кронах деревьев.
– И запалите сарай к чертовой матери.
Когда они уходили в лес, в небо медленно поднимался густой, черный, будто бы жирный дым.
21
Разведка, вернувшись в лагерь, обнаружила пополнение.
Еще человек пятнадцать красноармейцев вышли к лагерю утром. Из разговора выяснилось, что это часть гарнизона многострадального Слонима, которая удерживала мосты через Щару. По их словам, на переправу был сброшен десант. При этих словах Болдин брезгливо сморщился, но сержант, который вел группу, клятвенно уверял, что сам видел парашюты.
– Так чего ждали-то? Стрелять надо было, пока немец в воздухе.
– Мы стреляли… – уныло пожал плечами сержант.
– И чего? Плохо стреляли?
– Плохо… Нас с воздуха так придавили… Пулеметами…
– А укрытия на что?
– Врасплох застали…
– На войне?! – Болдин выпрямился, портупейные ремни противно заскрипели. – В другой ситуации, товарищ сержант, вы были бы уже арестованы. Вместе с вашим командиром. Где он, кстати?
– В плену…
– Где?! – По лицу генерала пробежала судорога.
– Контузило его. – Сержант вытянулся в струнку, но командира не сдавал. – Контузило!
Болдин помолчал, а потом буркнул под нос:
– На себе надо было выносить, если контузило… Ладно! Обустраивайтесь покамест. Кострище, место для ночлега. Шалаши. Все как положено. Раненые есть?
– Никак нет!
– И то ладно. Выделишь пару человек, за ранеными смотреть. Медикаменты?
– Нет.
– Патроны хоть имеются?
– То, что в обоймах и по сумкам… – Сержант опустил голову.
Болдин кашлянул и как рыкнул:
– Можете идти!
Сержант развернулся на каблуках и поспешил к своим, сбившимся в кучу, грязным и перепуганным… бойцам.
– Хорошо немец работает. – Генерал посмотрел на пограничников остановившимся взглядом. – Мосты берет в первую очередь. Колонны бомбит. По отдельным группам не разменивается. Конечно, чего они ему без припасов, горючки и патронов сделают? – Он постоянно крутил в пальцах пуговицу кителя, словно это незамысловатое действие помогало ему думать. – А ведь нас тут много таких… По лесам да по болотам. Просто так нас не оставят. Тоже понятно. Но пока примутся эти дебри вычесывать, время пройдет. Как вы полагаете, товарищ политрук?
Лопухин вздрогнул. Все это время у него в ушах гудели сытые зеленые мухи и запах… Этот тошнотворный запах…
Иван потряс головой.
– Простите, товарищ генерал, в голове каша.
– Каша – это плохо. – Болдин покачал головой. – Каша – это плохо. Ну, давайте, докладывайте, капитан.
Пограничник вышел вперед.
– Население ближайшей к нам деревни полностью уничтожено. Женщины, старики, дети. Даже собаки и кошки. Скотина и птица исчезли. Следов тяжелой техники на дорогах нет. Работала относительно небольшая, мобильная группа пехоты.
– Почему небольшая? – Лицо Болдина напряглось.
– Не натоптано. Это раз. А еще… нет значительных разрушений. Вообще разрушений нет. Все прибрано. Чистенько. Ни окон выбитых, ни дверей… Будто в гости пришли. Но везде какая-нибудь дурость.
– Не понял.
– Ну, странность какая-то. Вроде как все белье в доме сложено в подпол. Или вся утварь в печке. Или все чисто, а простыни в крови. И больше следов крови нет нигде, хотя кровать выглядит так… будто на ней свинью прирезали.
– Что с жителями?
– Все согнаны в один сарай… – Капитан запнулся. – И уничтожены. Разорваны.
– Как?.. – Болдин не понял.
– Ну, в клочья. Руки-ноги, кишки… И собаки там же. И кошки. И дети…
Лопухин почувствовал, как у него обильно пошла слюна и как тугой мерзкий комок подкатил к горлу. Иван задышал чаще и глубже, стараясь унять тошноту.
– Какие-нибудь надписи?
– Виноват, не понял, – теперь растерялся капитан.
– Ну, надписи на сарае? Или бумаги приколотые? Листовки? Просто… кровью, например?
– Не заметил… Не было.
– Не заметил или не было?
– Снаружи ничего, – подал голос Лопухин. – Я долго смотрел.
– А внутри не разобрать. Все залито, – добавил капитан. И успевшая отпустить Ивана тошнота снова поднялась к горлу.
– Понятно. Какие были ваши действия?
– Сожгли сарай. Хоронить там… нечего было. Какую смогли еду найти, ту собрали. Принесли вот…
– Хорошо. Сдайте дежурному по кухне. И отдыхайте. Завтра поутру снимаемся с лагеря. Пойдете впереди.
– Есть…
Вернувшись к Колобкову, Иван обнаружил, что тому стало еще хуже. Коля лежал, свернувшись калачиком у потухшего костра, мокрый от пота. Младшего политрука била крупная дрожь.
Иван сел рядом, не зная, как помочь другу. Смутно припоминалось, что когда-то, давным-давно, еще в детстве, мама отпаивала заболевшего Ивана не то малиновым чаем, не то отваром из каких-то трав. Да где та малина? А в травах Лопухин не разбирался. Впрочем, на дне вещмешка лежала в непромокаемом пакетике пачка грузинского чая.
– Хоть просто чайку сделать… – Иван укрыл Колобкова своей гимнастеркой, больше ничего под рукой не было. – Бабка одна говорила, что чаем все лечится… Лишь бы покрепче.
Лопухин собрал сушняк, сложил небольшой костерок и на двух камнях разместил котелок с водой.
– Сейчас все будет. Сейчас… – успокаивал Иван Колобкова. – Попьем чайку, и полегчает.
– Горячка, – сказал кто-то за спиной.
Иван вздрогнул. Обернулся.
Позади сидел на корточках тунгус. Смуглый, чуть раскосый, с внимательным взглядом черных глаз.
– Надо лечить. Помрет.
– Ты ведь из отряда… – Иван попытался вспомнить имя раненого лейтенанта, но не смог. – Ну… На охоту ходил. Эвенк?
– Тунгус. Юра. – Он протянул руку. – Только я не настоящий тунгус. Все спрашивают, из тайги? А я не из тайги. Я из Москвы. Приехал учиться.
– Куда?
– На артиста. Не поступил. После войны поступлю.
Он говорил с акцентом, короткими репликами – будто складывая незнакомые слова во фразы, взвешивал каждое, правильно ли встало. И только тогда выговаривал, с осторожностью, внимательно.
– Травы нужны. Помрет.
– Да где ж их взять?
– Там. – Тунгус Юра махнул рукой в сторону густого бурелома.
– Ты знаешь, какие?
– Знаю.
– Так помоги, скажи какие, я соберу! – Иван вскочил.
– Сиди. Я принесу. Так сказать не смогу.
Он встал и исчез за деревьями. Бесшумно, точно так же, как и появился.
Через некоторое время он приволок охапку каких-то травок, веточек и, кажется, коры. Молча подсел к костру. Дождался, когда вода закипела, и начал подкладывать травки в котелок, по одной, в какой-то особой, одному ему ведомой последовательности. Что-то шептал, бормотал на неизвестном языке, а Лопухин сидел, не зная, куда себя деть, чувствуя свою полную бесполезность.
Наконец тунгус снял котелок с огня и поставил его в специально вырытую ямку.
– Остынет. Давай пить. Но следи… Одного нельзя оставлять. Помрет.
– Спасибо! Чаю хочешь? У меня есть…
Но Юра только головой покачал.
– Не оставляй его сейчас. Следи. Его забирать будет. Шибко. Смотри в оба.
22
«Забирать» Колобкова начало через час. Дыхание сделалось частым, гимнастерка пропиталась потом, хоть отжимай. В сознание Дима не приходил. Только метался из стороны в сторону.
Лопухин удерживал друга, чтобы тот не скатился в костер. Шептал что-то успокаивающее, скорее для себя, нежели для Колобкова. И поил, поил его отваром. Сколько надо влить в больного, Юра не сообщил, а оставить Димку и пойти искать тунгуса-москвича Иван не решился. Колобкова била крупная дрожь, изредка из-под закрытых век жутко показывались белки закатившихся глаз. Температура скакала, Дима становился то горячим, как печь, то холодным, будто мертвец. Иван уже успел пожалеть, что согласился на это народное лечение. Черт его знает, что там этот неполучившийся артист накидал в котелок. Может, в травах ошибся, а может, он вообще в этом деле не смыслит… Поди спроси. Где его искать, того тунгуса? Может, по лесу рыщет, зверей каких ловит, а может, уже дернул к чертовой матери да в плен сдался. Кто ж их разберет? Народ необразованный, хоть и в институт поступал…
Колобков свернулся в комок и заскрипел зубами.
– Тихо, тихо… – Иван подложил ему под голову свернутую гимнастерку. Укрывать Димку было бессмысленно, тот крутился так, что сбрасывал с себя все. – Все будет хорошо… А если не будет, я этого травника найду и заставлю мухоморы жрать, пока не подохнет. Все будет хорошо… Ты потерпи…
Димка словно услышал, застонал жалобно, перевернулся на спину и внятно произнес:
– Уберите когти.
– Чего?
Но Колобков только дрожал и дрыгал ногами.
– Мается, – сочувственно сказал боец, подошедший к костерку. – Мается…
– Ничего. – Иван придержал руки Колобкова. – Пройдет…
Красноармеец подсел рядом.
– Что известно? Начальство-то что думает? Долго тут будем, по лесам-то, прятаться?