Удивительные истории о словах самых разных Бабенко Виталий
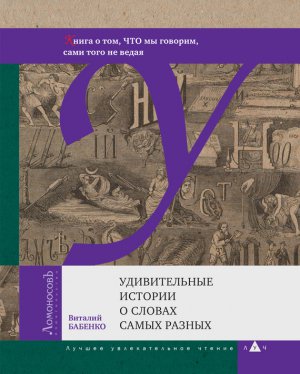
Слово «электрон» тоже не вызывает никаких сомнений: так древние греки называли янтарь (). Кстати, почему называли – неясно: истоки слова теряются в тумане времен. «Электрон» встречается у Гомера, Гесиода, Геродота и других древних авторов. Один из переводов слова – «бледное золото»: помимо янтаря, «электрон» обозначал сплав золота (4 части) и серебра (1 часть). Корень – «электр-», «-он» – суффикс. Вопросы есть? Вопросов нет.
Древние греки прекрасно знали, что янтарь может притягивать к себе мелкие предметы – если потереть его, например, о шерсть. Знали, а объяснить не могли.
Объяснение – хотя бы предварительное – нашлось только в конце XVI – начале XVII века. Современник Шекспира, видный английский физик (и, кстати, придворный врач Елизаветы I и Якова I) Уильям Гильберт (1544– 1603) на рубеже столетий выпустил труд под названием «О магните, магнитных телах и большом магните – Земле» (1600). Там он рассказал, что не только янтарь, но и другие вещества обладают особой силой, способной притягивать мелкие предметы. В честь янтаря он назвал такие явления «электрикус» (electricus), что можно перевести как «напоминающие янтарь». В 1640 году британский медик и замечательный писатель Томас Браун (1605–1682) сконструировал в английском языке прилагательное «электрик» (electric), «электрический», а спустя несколько лет появилось и существительное «электрисити» (electricity), «электричество». Слово родилось.
Потребовались еще два века, чтобы сложилась теория электромагнетизма (о вкладе великого Джеймса Максвелла, совершившего научную революцию, можно писать много, но не здесь), и наконец английский физик и математик Джордж Джонстон Стоуни (1826–1911) сначала указал на существование элементарного электрического заряда (1874), затем вычислил его величину (1881), а спустя еще десять лет придумал, как его назвать. Ничего лучше греческого слова «электрон», обозначающего, как мы знаем, янтарь, Стоуни не нашел. В 1891 году элементарная частица электрон обрела свое имя.
Этимологи, изучающие происхождение научных терминов, могут меня поправить. Мол, Стоуни поступил иначе: он взял часть слова «электрический» – «электр-» – и присоединил к ней окончание «-он», уже закрепленное за названиями одноатомных или многоатомных заряженных частиц: ион, анион, катион. Вот и получился «электрон». Я вправе возразить: Джордж Стоуни хорошо знал греческое название янтаря. И что бы и как бы он ни соединял, итог вышел совершенно определенный: «электрон». То есть в чистом виде греческое «янтарь».
Как бы то ни было, все это хорошо известно, и, казалось бы, зачем копья ломать? А вот зачем.
В 1921 году американский химик Уильям Харкинс, уже предсказавший существование элементарной частицы, вовсе не несущей никакого заряда, дал этой частице название: нейтрон. Ничего плохого Харкинс не имел в виду: он просто соединил корень «нейтр-» (от англ. neutral, «нейтральный») и суффикс «-он».
Тем не менее получился термин, подозрительно похожий на «электрон».
Не могу удержаться: очень хочется пояснить слово «нейтральный». Ничего смешного в нем нет – нейтральное на то и нейтральное, чтобы не вызывать никаких эмоций, – тем не менее историю этого слова иначе как лукавой не назовешь. Латинское neuter, породившее слова «нейтральный», «нейтралитет», «нейтрализовать», «нейтрал» и так далее, – составное прилагательное: ne– это отрицательная приставка, а -uter – буквально «любой (из двух)». Получается «не любой из двух» или «никакой из двух», то есть «ни тот, ни этот». Ну, и что же тут лукавого? А вот что. В нашем языке существует прямой аналог латинского neuter. Это местоименное прилагательное «некоторый», получившееся в результате сложения отрицательной приставки «не-» и словечка «-который». Прилагательное «который» – общеславянское, индоевропейского характера, и у него есть очень древние родственники – можно даже сказать, двойники: авестийское «катара-» (katara-) и греческое «котерос» (koteros). И то, и другое означают (как и наше «который») – «кто из двух» или «любой из двух, какой-то из двух». Таким образом, «некоторый» – это «никакой из двух», а значит… – ну да, «нейтральный». Интересно было бы, если бы место латинского neuter заняло наше (с греками) «некоторый». Получились бы слова: «некотрон» (вместо «нейтрона»), «некоторитет» (вместо «нейтралитета»), «нектрал» (вместо «нейтрала»). А что? Звучит!..
Когда в 1932 году американский физик Карл Андерсон открыл частицу, аналогичную электрону, но только с положительным зарядом, он быстро понял, как ее назвать. Если уже существуют слова «элек-трон» и «ней-трон», значит, в окончании «-трон» что-то есть, и, таким образом, новая частица должна быть названа «пози-трон»: «пози-» – от английского слова «позитив», означающего «положительный», + безжалостно отломанный от электрона «-трон».
Отмечу: в частичке «-трон» нет никакого смысла. Перед нами всего лишь несчастный обломок корня «электр-» – «-тр-», – соединенный с суффиксом «-он».
Мы могли бы отломать окончание у русского слова «янтарь» и использовать его с той же целью. Получились бы термины: «электарь», «позитарь», «нейтарь» и так далее. А что? Звучит, во всяком случае, любопытно.
При всей своей бессмысленности «-трон» завоевал мир. Это окончание, получившее самостоятельное существование, стали лепить где надо и где не надо.
Как назвать ускоритель заряженных частиц, в котором эти частицы носятся по кругу? Берем греческое слово «киклос»/«циклос», означающее «круг», присоединяем лежащий под рукой «-трон», и – оп-ля! – название готово: «циклоТРОН».
А если в ускорителе происходит определенная синхронизация (не буду пояснять, чего и с чем, это к нашей теме не относится)? Пожалуйста: «синхроТРОН». Или даже «синхрофазоТРОН». А излучение, возникающее в ускорителе или же создаваемое им, назовем, разумеется, «синхроТРОНным».
Кстати, первый в мире синхрофазотрон был назван «космоТРОНом», а один из первых циклических ускорителей – «бетаТРОНом».
Допустим, мы создаем мультипликационные – анимационные – фильмы, и нам нужны для этого электронные средства. Чем в таком случае мы занимаемся? Ну конечно же, «анимаТРОНикой».
Ртутный выпрямитель назвали «игниТРОНом».
Электровакуумный прибор, преобразующий постоянный поток электронов в переменный, – «клисТРОНом» («клис-» – от греческого слова, обозначающего «прибой»).
Электровакуумную лампу, использующую сильное магнитное поле, – «магнеТРОНом».
Биологическая лаборатория с контролируемыми условиями среды – это, разумеется, «биоТРОН».
Мощный ускоритель – «беваТРОН».
Еще более мощный ускоритель – «теваТРОН».
Как будут называться компьютеры, работающие на фотонах? Скорее всего, «оптоТРОНами», потому что слово «оптоТРОНика» уже существует.
Равно как существует слово «спинТРОНика» – есть такой раздел квантовой электроники, очень, надо сказать, интересный и перспективный.
В современной научной терминологии (и в лексике специалистов по компьютерному моделированию) существует слово «компьюТРОНиум».
В 2014 году в язык науки вошло слово«перцепТРОНиум» («перцепция» в переводе с латыни означает «восприятие»). Что это такое, объяснить не так-то просто. Во всяком случае, потребуется много времени и места. Если очень сжато и упрощенно, то «перцептрониум» – это квантовая теория сознания. Все всё поняли? Конечно, нет. Тогда так: «перцептрониум» – попытка объяснить наше сознание, самую загадочную вещь во Вселенной. Ее пробовали растолковать, наверное, все философы, которые только существовали на свете. А некоторые даже брали на себя смелость изобразить. И вот что интересно: в новейших работах по «перцептрониуму» авторы частенько прибегают к помощи гравюры, которой… почти 400 лет! Она появилась в солидном труде английского врача, музыковеда и философа-мистика Роберта Фладда (1574– 1637) «Метафизическая, физическая и техническая история двух миров – великого и малого» (1617–1621). Рисунок изображает, как человек с помощью открывшегося у него «третьего глаза» проникает в суть вещей. Вот и «перцептрониум» тоже – о проникновении в суть вещей.
Продолжать? Наверное, «-ТРОН-»ов уже достаточно, хотя я мог бы добавить еще несколько.
Помните латинский суффикс «-бус», который распространился по миру, не только встав на колеса (автобусы, троллейбусы, электробусы и т. д.), но и поднявшись в воздух (аэробусы)? С «-ТРОН-»ами та же история: их не остановить!
Подождите, может быть, «-трон» – это все же не от греческого «электрона», а от русского «трон»? Ведь «трон» – это нечто возвышенное, синоним «престола», иначе говоря – важное место. Разве синхрофазотрон не может быть таким «важным местом», где синхро-фазочто-то-такое-делают?
Подобный вопрос вполне может задать любитель народной (ее еще называют вульгарной) этимологии, и мне его действительно задавали. Приходилось объяснять.
Да, «трон» – это русское слово, обозначающее «богато отделанное кресло на специальном возвышении – место царственной особы во время приемов и иных торжественных церемоний». Только вот происхождение его совсем не русское. «Трон» пришел к нам из французского языка (trne), во французский – из латыни (thronus), а в латынь – из греческого, где «тронос» () обозначало «высокое сиденье» или даже просто «сиденье», а «транос» () – обыкновенную деревянную скамью, лавку, деревянный брус и даже… стульчак (от глагольной формы «траомаи», «быть усаженным»). Кто не верит – пусть заглянет в Аристофана, например в его комедию «Богатство» («Плутос»): там, в Эписодии первом, земледелец Хремил ведет речь именно о лавке-«траносе»: «… …» – о лавке, предназначенной для обыкновенного сидения27.
Значение «престол, символ царской власти» греческий «тронос» получил только в конце XIV века, и с тех пор в ином смысле слово «трон» уже не употребляется.
А «-трон» и все приключения этого слова-обломка начались все же с «электрона», то есть «янтаря».
Для реабилитации создателей научной лексики добавлю только, что есть и вполне симпатичные названия, по-настоящему забавные. Например, словечко «нейтрино». Оно обозначает совсем уж крохотную нейтральную частицу, куда меньшую, чем нейтрон. Название придумал великий физик Энрико Ферми (1901–1954), и произошло это 80 лет назад.
Ферми взял корень слова «нейтральный» – «нейтр-» и присоединил к нему уменьшительное, «детское» итальянское окончание «-ино». Получилось «нейтрино», то есть «нейтришко». При чем здесь итальянское окончание? Так ведь Энрико Ферми был итальянцем. То же окончание в слове «бамбино» («ребенок, дитя») и даже… в имени Буратино.
Алексей Николаевич Толстой, позаимствовав сказку у итальянского писателя Карло Коллоди, не стал русифицировать имя героя, однако использовать имя Пиноккио (оно означает «сосенка», а на тосканском диалекте – «сосновый орешек») было, наверное, грешно, поэтому деревянный мальчик у Толстого получил другое итальянское имя с уменьшительным окончанием, тоже, кстати, взятое у Коллоди (burattino по-итальянски – это «тряпичная кукла», а Burattino – имя персонажа итальянского театра кукол).
Название «нейтрино» настолько симпатичное, что оно даже вошло в лирику. Например, американский писатель (и поэт) Джон Апдайк (1932–2009) посвятил этой частице стихотворение, назвав его «Космический снобизм» (1959):
- Нейтрино сказочно малы.
- У них ни массы, ни заряда,
- Взаимодействий – ноль. Смелы!
- Сквозь шар, где мы живем, ослы,
- Они проходят – нет преграды! —
- Как рой фотонов в царстве мглы,
- Как девушки по травке сада.
На этом лирико-ироническом произведении можно и закончить рассказ о «смешных» научных терминах.
Предвижу мнение раздраженного читателя – даже слышу его недовольный голос: а что это автор себе позволяет? Парламент у него – «говорильня», министры – «слуги», депутаты – «садовники», научные термины – слова-уродцы… Уж не издевается ли автор над словами? Да что там над словами – над понятиями! Уж не сатира ли все это?
Да что вы, что вы! – попытаюсь я урезонить этого гневного ревнителя политеса (хорошо сказано? то ли еще будет!). Какая там сатира! Этимология, не более того.
А впрочем, почему бы и не сатира? Все может быть, надо только разобраться, что это за слово такое —
сатира…
Сатира
…сатира действительно, как известно всякому грамотному, бывает честная, но навряд ли найдется в мире хоть один человек, который бы представил властям образец сатиры дозволенной.
Михаил Булгаков. Жизнь господина де Мольера
Вообще говоря, «сатира» изначально – не существительное, а прилагательное. Сразу намечаются два вопроса: почему прилагательное и прилагательное – к чему? Чтобы на них ответить, придется снова отправиться в путешествие. Назовем его так: историко-поэтико-мифологический поход.
С мифологией разберемся сразу. Многие полагают – и пишут, – что слово «сатира» – от «сатиров». Были в греческой мифологии такие лесные божества (козлоногие, между прочим) – жизнерадостные, похотливые, вечно пьяные и потому веселые. А раз веселые, значит, «сатиру» они и породили. Вовсе нет! Постараемся в очередной раз уберечься от вульгарной этимологии. И слова разные, и пишутся они по-разному (божество – это satyr, а сатира – satira), и на языке ощущаются каждое по-своему: «сатира», как мы скоро увидим, – слово вкусное, а «сатир» – несъедобное, потому как темного происхождения: то ли раннегреческое, то ли догреческое, а может, и вовсе минойское (есть такая гипотеза). Кстати, «сатиров» окончательно отделили от «сатиры» еще в начале XVII века, и сделал это швейцарский филолог Исаак Казобон (1559–1614), написав вдохновенную работу «О греческой сатирике и римской сатире» (De Satyrica Graecorum & Romanorum Satira, 1605).
Заглянув в словари, не так уж трудно выяснить, что слово «сатира» пришло в русский язык в XVIII веке, к нам оно попало из французского языка (satire), а во французский перебралось из старой доброй латыни, где satira обозначало (правильнее: обозначала) сначала «десерт», затем «стихотворную смесь» и потом уж собственно «сатиру».
Вот те на! Где имение, а где наводнение! При чем здесь десерт?!
А при том, что «сатира» – ранее писалось и говорилось: «сатура» (satura) – это словечко, отпавшее от словосочетания «ланкс сатура» (lanx satura), в переводе на русский – «полное блюдо», или «наполненное блюдо», или даже так: «блюдо, наполненное мешаниной (из разных фруктов)». Такое блюдо подавалось у древних римлян к концу обеда, и служило оно, конечно же, десертом.
Прилагательное «сатура» (мужской род – «сатур») очень емкое. В латинском языке оно означает «сытый, насыщенный; полный, богатый, бильный, густой, яркий; откормленный, тучный, жирный», а произведено это слово от глагола saturare – «наполнять, насыщать, удовлетворять». Наши слова «сатисфакция» (удовлетворение), «сатуратор» (аппарат для насыщения жидкостей углекислым газом), «сатурация» (насыщение жидкостей углекислым газом, газирование), «сатурировать» и т. д. – несут в себе тот же корень sat-.
Медики и особенно фармакологи хорошо знают латинское выражение «квантум сатис» (quantum satis). Оно означает «в достаточном количестве», «сколько потребуется». «Сатис» – это и есть достаточный, то есть достигший требуемого уровня насыщения.
А Сатурн? – спросят меня недоверчивые. Неужели и Сатурн где-то рядом? Не где-то рядом, отвечу я, а здесь же! Корень sat– подразумевает насыщение, изобилие, плодородие, но ведь римский бог Сатурн, в честь которого названа шестая планета нашей Солнечной системы, как раз и был богом земледелия, посевов, растительности и соответственно изобилия. Если подробнее, то его имя произведено от причастия «сатум» (satum), «посеянное», сам же глагол «сеять» на латыни звучит как «сере– ре» (serere), а в другом варианте – как «сатаре» (satare). Я мог бы с легкостью показать, что от глаголов «серере», «сатаре» и корня «сат-» произросли такие слова, как «семя», «сеять», «сорт», «серия», «сезон», «диссертация» и даже «дезертир», – но не буду28. Как-нибудь в другой раз и в другом месте, иначе мы уйдем так далеко, что забудем, откуда отправились в путь. А начали мы с «сатиры», пора к ней вернуться.
Отделившись от выражения «ланкс сатура», «полное блюдо», словечко «сатура» начало самостоятельную жизнь. Раз на блюде было намешано много разных фруктов, значит, «сатура» вполне может обозначать мешанину вообще. Оно и обозначало, но не «вообще», а вполне конкретную – песенную. Да-да, уже в III веке до нашей эры древние римляне называли «сатурами» стихотворные произведения, которые можно было петь, а можно – рассказывать, как кому захочется, потому что в них были намешаны разные стихотворные размеры и разные прозаические фрагменты. Суровым слогом литературоведения это называется «драматическо-песенная импровизация». Вскоре любое смешение прозы и поэзии тоже стало именоваться «сатурой».
И наконец нашелся поэт, который возвел искусство «мешанины» на новую ступень. Я ведь обещал поэтический этап путешествия? Вот он и начинается. Поэта звали Квинт Энний (239 – 169 до н.э.). Это очень видная фигура в древнеримской литературе. Впоследствии его назовут создателем римского эпоса и родоначальником латинской поэзии (вот так-то!). Пока Квинт Энний жил и творил, ему столь высокие титулы не присваивали; впрочем, он сам себе присвоил нечто такое, от чего современники разводили руками, а потомки могли только ахнуть: Энний считал себя перевоплощением (индусы сказали бы – «сансарой») самого Гомера.
А как вообще звали Гомера? Что значит – «как звали» – удивятся многие. Гомер, он Гомер и есть. И все же – это имя, фамилия (родовое имя) или прозвище? Боюсь, что на этот вопрос никто не ответит с точностью. Так же, как и на вопрос: «Когда жил Гомер?» И на вопрос: «А он на самом-то деле жил или это мифическая личность?» Не будем вдаваться в гомероведение – это уведет нас так далеко, что можем и не вернуться, – но имя «Гомер» попробуем тем не менее расшифровать. Вот что пишет Лукиан из Самосаты (около 120 – после 180 н. э.) в своей «Правдивой истории»:
«…я направился к поэту Гомеру, и, так как нам обоим нечего было делать, я стал расспрашивать его обо всем и о том, откуда он родом, говоря, что вопрос этот и ныне все еще подвергается у нас подробному исследованию. Он мне ответил на это, что он и сам хорошо знает, что одни считают его хиосцем, другие уроженцем Смирны, а многие колофонцем, однако он родом из Вавилона, граждане которого называют его не Гомером, а Тиграном, и что только впоследствии, находясь в качестве заложника в Элладе, он получил свое имя»29.
Предвижу множество возражений. Мол, Лукиан был ядовитым сатириком. И, мол, его «Правдивая история» – это фантастическое произведение. И еще, мол, там, где соединяются сатира и фантастика, правды вообще не дождешься. Может быть, и так. Но версия Лукиана весьма любопытная, и ее приводят весьма серьезные этимологические источники. Тем более что древнегреческое слово «хомерос» () как раз и означает: «заложник».
Слово интереснейшее, и спектр его значений очень широк: «слепой», «шествующий с сопровождающим», «залог», «поручительство», а также «соединенный, объединенный» (тут все просто: «хом-» – от греческого «хому», означающего «вместе»; «-ар-» – греческий корень со смыслом «единение»; замена «а» на «е», чтобы получилось «Хомер», – влияние восточногреческих диалектов). Сумма этих значений многое говорит о знаменитом барде, вне зависимости от того, какая это фигура – реальная или мифологическая. Возможно, он действительно был вавилонянином, попавшим в плен, то есть ставшим заложником. Возможно, он на самом деле был слеп. А раз был слеп, то путешествовал с сопровождающим, то есть был «соединен» с каким-то человеком, его опекающим.
Вот такое слово «гомер» – словно сундучок с несколькими отделениями… И вот такое имя Гомер – имя великого поэта, который, как считал не менее великий философ Платон, «воспитал Элладу»30…
Квинт Энний написал очень много стихов, поэм и драматических произведений, собрал их в немалое количество книг (самый объемный его труд – это «Анналы»), однако до нас дошли, к сожалению, только отрывки. То сочинение, которое нас интересует больше всего, тоже не сохранилось в целом виде, а называлось оно – внимание! – «Сатуры» (и состояло из шести книг). В «Сатурах» (Saturae) Энний особенно экспериментировал со стихотворными размерами, можно сказать, перемешивал их. Поэтому название напрашивалось само собой: «Мешанина», «Всякая всячина». Именно так можно перевести имя, которое поэт дал своему шести– томному труду.
После Квинта Энния произошло очередное перевоплощение слова: «сатурами» стали называть уже не смешанные стихи, не всякую всячину, а то, что содержалось в книгах «реинкарнированного» Гомера: поэмы высокого стиля, иначе говоря, «нравственно-назидательные стихотворные произведения». Да, таков был Квинт Энний – моралист и проповедник правильного образа мыслей.
Не стоит думать, будто бы я вышучиваю – сатиризирую! – римского поэта. Ни в малой степени! К Квинту Эннию я отношусь с большим почтением. Да и нравственно-назидательные произведения необходимы – кто бы стал это отрицать? Пусть до нас не дошли в целом виде книги Энния, зато сохранилось немало отрывочных наставлений, которые давным-давно обрели характер афоризмов, и мы порой произносим их, не ведая, что у этих истин есть конкретный автор.
«Друг познается в беде». Слышали такое изречение? Ну конечно, слышали. А кто выразил эту мысль первым? Имейте в виду – Квинт Энний, в трагедии «Гекуба». Увы, «Гекуба» тоже канула в бездну времен, и мы знаем этот афоризм – «Амикус цертус ин ре инцерта цернитур» (Amicus certus in re incerta cernitur) – красиво звучит! очень поэтично! – в передаче его Цицероном.
Нут – это горох. А точнее, турецкий горох. Или бараний горох. Или шиш. Или пузырник. В общем, растение семейства бобовых. Те, кто любит хумус, хорошо его знают, потому что в основе хумуса – именно нут.
«Па-а-азвольте! – вскричит иной взбешенный читатель. – Сколько можно отвлекаться от текста! И при чем тут турецкий горох, а тем более хумус?!!»
Да-да, Цицерон в переводе на русский язык – это Горохов или даже просто Горох. Ничего обидного в этом, конечно, нет. Знаменитый древнеримский политик, философ и оратор Марк Туллий Цицерон носил совсем «не философскую» фамилию и горя не знал. Древнегреческий философ и историк Плутарх (вот у него фамилия действительно возвышенная, даже «олигархическая», ее можно перевести как «главный над богатствами» или даже «главнобогатствующий»: плутос, «богатство» + архон, «главный») писал, что у одного из предков Цицерона «кончик носа был широкий и приплюснутый – с бороздкою, как на горошине»31, отсюда, мол, и прозвище. Есть и другая версия: предки Цицерона выращивали этот горох и с успехом продавали его. Как бы то ни было, многие фамилии – у самых разных народов – имеют «растительное» происхождение; в антропонимике это очень распространенное явление. Тот же Плутарх пишет, что, когда Цицерон «впервые выступил на государственном поприще и искал первой в своей жизни должности, друзья советовали ему переменить имя»32, но Марк Туллий – честь ему и хвала! – отказался, пообещав, что сделает свое имя более славным, чем Скавр («Распухшая лодыжка») или Катул («Щенок»). Очень правильно! Родовое имя надо ценить и беречь.
Тем не менее, если бы история слова «сатура» остановилась на Квинте Эннии, никакого слова «сатира» у нас не было бы. Потребовалось вмешательство других поэтов – Гая Луцилия (ок. 160 – 103/2 до н.э.) и Квинта Горация Флакка (65 – 8 до н.э.) – вот кто были настоящие сатирики! – чтобы «сатира» (у Горация уже не Saturae, а Satirae) снова поменяла свой облик.
Усилиями Луцилия и Горация, а вслед за ними других язвительных и беспощадных поэтов и писателей, «мешанина» навсегда рассталась с блюдом, на котором ее подают, пусть даже это блюдо полезной назидательности, и «сатира» обрела тот смысл, который мы вкладываем в него сегодня: произведения обличительного содержания.
А прилагается это слово – вспомним про прилагательное! – ко всему, что мешает жить. Итак: может ли этимологическая книжка быть «сатирой»?
А давайте еще раз перечислим все, что мы узнали про это слово.
Сатира – это полное блюдо.
Сатира – это фрукты.
Сатира – это десерт.
Сатира означает «насыщение» или «достаточное количество».
Сатира – это удовлетворение.
Сатира – посев или сеяние.
Сатира – семена (хочется верить, что истины).
Сатира – сорт (надо полагать, высший).
Сатира и дезертирство – противоположные вещи.
Сатира – песенная импровизация.
Сатира – смешение стихов и прозы.
Сатира нравственна и поучительна.
Сатира – это сатира.
Какое-либо объяснение-определение-толкование «сатиры», конечно же, подойдет и для этой книжки.
Если, разумеется, читатель продолжит чтение, а не отбросит книгу как полную ерунду.
Вот! Дальше у нас речь пойдет именно о
ерунде…
Ерунда
Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову…
Антон Чехов. Который из трех? (1882)
Можно вспомнить еще один рассказ Чехова – «Лошадиную фамилию» (1885), – в котором герой, отставной генерал-майор Булдеев, страдающий от зубной боли, кричит, услышав о народном лекаре: «Ерунда! Шарлатанство!»
Можно вспомнить не только Антона Павловича Чехова, но десятки, сотни других замечательных русских писателей, в произведениях которых встречается слово «ерунда» (и счет таких произведений идет уже на тысячи).
Между тем словечко «ерунда» относительно молодое. Оно появилось в русском языке всего лишь 170 лет назад.
У Пушкина «ерунды» еще нет. А у Некрасова – в очерке «Петербургские углы» (1845) – уже есть.
Вот как выглядит «ерунда» в «Петербургских углах»:
« – Ерунда, – сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался. – Охота вам руки марать!
– Ерунда! – повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей взглянуть ему в лицо. – Глуп ты, так и ерунда! Когда я подносил их его превосходительству, его превосходительство поцеловал меня в губы, посадил рядом с собой на диван и велел прочесть… Я читал, а он нюхал табак и говорит: “Понюхай”. – “Не нюхаю, – говорю, – да уж из табакерки вашего превосходительства…” – “Нюхай, – говорит, – ученому нельзя не нюхать”, и отдал мне табакерку… С тех пор и начал я нюхать. Велел приходить к обеду… посмотрел бы ты, как меня принимали… всякий гость обнимал… а какие всё гости… даже начальник его превосходительства поцеловал… я после и ему написал… Напился я пьян… говорю, как с равными, а они ничего, только хохочут. Всяк к себе приглашение делает… Ерунда!»
Можно считать, что в литературу «ерунда» вошла именно тогда – в «Петербургских углах». Этот очерк молодой и дерзкий Николай Некрасов – он только-только отметил свое 22-летие – написал в конце 1843 года. Правда, опубликованы «Углы» были много месяцев спустя – в 1845-м: слишком уж придиралась цензура. Словечко «ерунда» было настолько внове, что Некрасов счел необходимым вписать в рукопись примечание: «Лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь». Так это примечание и воспроизводится во всех переизданиях «Петербургских углов».
Но откуда все же взялась эта «ерунда»?
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля – очень полезный труд, но в данном случае он небольшой помощник. Вот что там говорится о «ерунде»:
Ерунд, смб. еранд, ж. ералашъ, вздоръ, дичь, чужь [чушь], галиматья, чепуха. Еранду несетъ. [Ерунда с горохомъ, сапоги въ смятку]. || Жидкiй, безвкусный квасъ или бражка. Не пиво, а какая-то ерунда. || Ерунд, [ерунда. Опд.] вор. егоза или елоза, болтливый непосда, неугомонъ. Ерунди`ть, ералашить, егозить, попусту суетиться.
«Смб.» – это «симбирское»; «Опд.» – «Дополнение к опыту областного великорусского словаря» (СПб., 1858); «вор.» – не «воровское», а «воронежское». Кроме того, что в Симбирской губернии говорили «еранд», а в Воронежской – «ерунда», особых знаний мы себе не прибавили. (Отметим лишь: слово «галиматья» уже твердо было в русском языке, и еще существовало любопытное словечко «чужь», ставшее впоследствии «чушью»; ну и образное выражение «ерунда с горохом», исчезнувшее из нашей речи, неплохо было бы вернуть в современный лексикон.)
В этимологических словарях с «ерундой» – интереснее. В солиднейшем «Этимологическом словаре русского языка» под редакцией Н. М. Шанского можно прочитать: «Ерунда. Собственно русское… Возникло в речи семинаристов на базе лат. gerundium “герундий”, ср. старое герунда»33. При этом Николай Максимович Шанский (1922– 2005), замечательный филолог и этимолог, ссылается на работу Дмитрия Зеленина, словарь А. Преображенского, словарь М. Фасмера и… свой собственный «Краткий этимологический словарь русского языка»
Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954) был выдающимся этнографом, фольклористом и языковедом. В своей работе «Семинарские слова в русском языке»34 он действительно писал, что слово «ерунда» – «семинарское, от лат. gerundium». Обратим внимание на год выхода в свет этой работы: 905-й.
Александр Григорьевич Преображенский (ок. 1850 – 1918), автор знаменитого трехтомного «Этимологического словаря русского языка» (первые два тома – 1910 – 1914 годы, весь трехтомник целиком вышел только в 1949 году), писал следующее:
ерунд, Р. ерунды вздоръ, чепуха: ерундить.
– Без сомнения, семинарское, от лат. gerundium (Зеленинъ, РФВ. 54, 115. Гротъ, ФР. II, 329 прим. Въ АСл. (2, 136) неопредленно «иностр. происх.».
Здесь опять-таки ссылка на Д. К. Зеленина, но при этом еще на Грота и на загадочное «АСл.». Что бы это значило?
А вот что. Яков Карлович Грот (1812–1893) был видным русским филологом и лексикографом, автором, в частности, «Филологических разысканий» («ФР») – солиднейшего двухтомного труда по истории русской словесности. Слово «ерунда» Я. К. Грот не исследовал, и во всем труде о нем лишь три упоминания – одно в сноске (то самое «прим.»), в связи со словом «ахинея»: «Ахинея – вроятно такое же семинарское слово, какъ напр. катавасiя, ерунда, ермолафiя»35. Как видим, «ерунда» и здесь в ряду «семинарских» слов. «АСл.» – это «Словарь русского языка, составленный вторым отделением Императорской академии наук (СПб., 1895). В нем, как мы уже поняли, о слове «ерунда» сказано «неопределенно»: «иностранного происхождения».
Наконец, заглянем в «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера:
ерунд (Тургенев, Лесков), ерундить. Следует объяснять как слово семинарского языка, из лат. gerundium; см. Зеленин, РВФ 54, 115 и сл.; Грот, Фил. Раз. 2, 293. Ср. у «Лескова («Соборяне» 423) указание на книжное происхождение слова, а также на форму герунд. Отсюда ерундистика по аналогии статистика и под.
Мне нравится это «следует объяснять». И нравятся отсылки к литературе – к Тургеневу и Лескову, хотя упоминания о Некрасове почему-то нет, а надо было бы отдать должное Николаю Алексеевичу: как-никак, именно он ввел это словечко в литературу.
Ну, и что там с «ерундой» у Лескова в «Соборянах» (1867–1872)? Всего лишь один небольшой фрагмент романа:
«Отец Туберозов хотя с умилением внимал рассказам Ахиллы, но, слыша частое повторение подобных слов, поморщился и, не вытерпев, сказал ему:
– Что ты это… Зачем ты такие пустые слова научился вставлять?
Но бесконечно увлекающийся Ахилла так нетерпеливо разворачивал пред отцом Савелием всю сокровищницу своих столичных заимствований, что не берегся никаких слов.
– Да вы, душечка, отец Савелий, пожалуйста, не опасайтесь, теперь за слова ничего – не запрещается.
– Как, братец, ничего? слышать скверно.
– О-о! это с непривычки. А мне так теперь что хочешь говори, все ерунда.
– Ну вот опять.
– Что такое?
– Да что ты еще за пакостное слово сейчас сказал?
– Ерунда-с!
– Тьфу, мерзость!
– Чем-с?.. все литераты употребляют.
– Ну, им и книги в руки: пусть их и сидят с своею “герундой”, а нам с тобой на что эту герунду заимствовать, когда с нас и своей русской чепухи довольно?
– Совершенно справедливо, – согласился Ахилла и, подумав, добавил, что чепуха ему даже гораздо более нравится, чем ерунда.
– Помилуйте, – добавил он, опровергая самого себя, – чепуху это отмочишь, и сейчас смех, а они там съерундят, например, что бога нет, или еще какие пустяки, что даже попервоначалу страшно, а не то спор.
– Надо, чтоб это всегда страшно было, – кротко шепнул Туберозов».
Что-то не видно здесь «книжного происхождения» слова. То, что «все литераты употребляют», – еще не указание на книжность. Да и «герунда» здесь никак не связана с герундием: отец Савелий просто иронизирует над новым и непривычным словом.
Пора, наверное, объяснить, что такое «семинарские» слова. В любую эпоху в разных слоях общества рождаются новые слова. Эти любопытные словечки (разумеется, не все и не всегда) входят сначала в разговорный, а затем и в литературный язык – из профессиональной среды, из технического лексикона, из молодежного сленга.
«Семинарский» язык – как раз такой молодежный сленг и есть, только бытовал он в ту пору, когда слова «сленг» в русском языке и в помине не было. Семинаристы – учащиеся духовных семинарий – переиначивали на свой лад слова из греческого и латинского языков, которые им полагалось изучать, либо же присоединяли к русским словам латинские и греческие приставки и суффиксы, и рождались: антимния (в выражении антимнии разводить), ахиня, бстия, грубиян, заведнция, поведнция, раця, свинтус…
Конечно, не только семинарский жаргон был щедр на нововведения – в языке закреплялись слова из гимназического, университетского, инженерного, даже бурлацкого сленга (без бурлаков, например, у нас не было бы выражения «тянуть лямку», и слово «шишка» не обозначало бы важного влиятельного человека – в ироническом, разумеется, ключе), но сейчас нас интересуют именно семинарские слова. Относится ли к ним «ерунда»?
Все этимологические словари утверждают: да, относится, и произошло это слово от «герундия» – грамматической формы в латинском языке, а наука этой чужой грамматики якобы трудно давалась семинаристам. Вот и пошл: герундий – герунда – ерунда. Сию версию, почерпнутую у Дмитрия Константиновича Зеленина (на него ссылаются практически все этимологические словари), да еще подкрепленную примечанием в работе самого Якова Карловича Грота (тут, правда, ссылок поменьше), повторяют так давно, что она стала едва ли не абсолютной истиной.
Этот «абсолют» нашел место и в современном журнале «Максим». В статье «“Богема”, “Страдать херней” и еще 18 слов и выражений с интереснейшей историей происхождения» автор Гай Серегин красочно описывает происхождение слова «ерунда» (правда, без ссылок на источники):
«Ерунда. Семинаристы, изучавшие латинскую грамматику, имели к ней серьезные счеты. Взять, например, герундий – этот почтенный член грамматического сообщества, которого в русском языке просто нет. Герундий – нечто среднее между существительным и глаголом, причем применение сей формы в латыни требует знания такого количества правил и условий, что нередко семинаристов прямо с занятий уносили в лазарет с мозговой горячкой. Взамен семинаристы стали называть “ерундой” любую нудную, утомительную и совершенно невнятную чушь»36.
Ну не прелесть ли? «Уносили в лазарет с мозговой горячкой». По причине герундия! Бедные семинаристы…
Если уж на то пошло, ничего особенно сложного в герундии нет. Ну, отглагольная часть речи, соединяющая в себе признаки существительного и глагола. Ну, выражает действие как предмет. Ну, есть определенные грамматические правила – в разных языках разные. Не бог весть что. Мне скажут: а в русском языке герундия-то нет! А я отвечу: зато мы его часто употребляем в речи и на письме. Как вы думаете, что такое «молдинг», «брифинг», «серфинг», «консалтинг», «аутотренинг», «боулинг» и так далее? Это всё герундий!
Пока у нас самих не началась мозговая горячка, давайте заглянем в еще один исторический документ – статью великолепного русского лингвиста Алексея Ивановича Соболевского «Из области словообразования», опубликованную в журнале «Лингвистические и археологические наблюдения» в 1912 году.
Там по интересующему нас вопросу А. И. Соболевский писал следующее:
«Неясное по образованию ерунд чепуха, вздор может восходить и к яронд, и к еронд (срв. ёра. ёрник и т. п.). Первоначальное значение могло быть: злобное вранье.
Рядом с дуранд и т. п. мы имеем тарант, кто тараторит, тарантит; один из князей Пронских, XVI в., имел прозвание Турунтай; срв. название села близ Вологды, упоминаемое в к. XVI в, – Турандаевское. По– видимому, в тарант н месте второго т первоначально было д.
Бранные слова типа дурында, дуранд принадлежат не одному русск. яз: моравск. hlupanda дура, ст. – чешск. Janda от Jan и др.»37.
Я давно жду вопроса от читателя: и зачем все это рассказывать? Зачем этот нафталин? Зачем семинарский жаргон первой половины XIX века? К чему словари второй половины девятнадцатого столетия и начала двадцатого? При чем здесь древние филологические труды, сквозь которые не продерешься? Может, еще во времена царя Гороха отправимся? Вот уж действительно будет ерунда с горохом! Журнал «Максим», конечно, наш современник, но и он здесь – с какой стати?
Хорошие вопросы. Отвечаю.
Нужно все это по двум причинам.
Первая. История слов – чрезвычайно интересная область языкознания, и отыскание истинного происхождения того или иного слова – увлекательнейшее занятие. Только вот без словарей здесь не обойтись. А путешествие по словарям – многим, разным, русским и иноязычным – бывает утомительным. Это вульгарным этимологам легко, а настоящим любителям слова порой тяжеленько приходится. Так что мужайтесь, словоискатели!
Вторая. Все, что написано выше о слове «ерунда» – кроме, разумеется, цитат из классиков, – полная… ерунда!
Вот так. Ломом по нафталину!
Дело в том, что этимологические словари – по какой-то метафизической причине – категорически игнорируют чудную версию происхождения «ерунды», предложенную когда-то все тем же Николаем Семеновичем Лесковым, замечательным писателем и тончайшим знатоком русского языка.
У Н. С. Лескова не просто версия – у него настоящее исследование слова «ерунда», и называется оно: «Откуда пошла глаголемая “ерунда”, или “хирунда”. Из литературных воспоминаний». В виде статьи это любопытнейшее произведение было опубликовано в газете «Новости» (№ 243, 3 сентября 1884 года).
Статья довольно большая, и здесь вряд ли уместно помещать ее целиком, однако главное все же – воспроизведу, разумеется, с максимальной бережностью:
«Ехал я однажды домой из Москвы в Петербург. Место мое было в спальном вагоне второго класса. Сопутников у меня было полное число по количеству мест в отделении, и были они разного сана и разных лет.
Занимались мы каждый по своему влечению, тем, что кому нравилось. Я, например, читал, а два штатские господина с значительными физиономиями вели громкие разговоры об упадке нравов и вкусов в России и по временам друг на друга покрикивали:
– А кто виноват?
Кроме нас троих, были еще иные три человека, которые не обременяли себя ни литературою, ни политикою, а “благую часть избрали”, то есть сидели за раскладным столиком и “винтили”.
Это были: военный генерал с недовольным лицом и запасными поперечными перемычками на погонах, пожилой московский протоиерей в зеленом триковом подряснике с малиновыми бархатными обшлагами и немецкий колбасник в куцом пиджаке, со множеством дорогих колец на толстых пальцах и с большою сердоликовою печатью на раскинутой по груди толстой панцирной часовой цепи.
Это был человек, известный всем истинным любителям и ценителям лучших ветчинных “деликатесов” в Москве и в Петербурге, где он начал свою блестящую колбасную карьеру и распространил ее далеко во все концы империи.
Эти три пассажира “винтили” безумолчно, а штатские ученого вида, перебрав множество любопытных вопросов, добрались до нигилизма и потом до сей глаголемой “ерунды”. Тут один из них вскрикнул: “кто виноват!” и начал излагать историю, как появилось это “гадкое и неблагозвучное слово”.
Объяснение говорившего было самое ортодоксально– научное, то есть он повторил, что “ерунда” произведена нигилистами из латинского слова “gerundium”, и произведена с коварным умыслом, дабы таким образом посмеваться38 классицизму и вредить ему в общественном мнении.
Я слушал это давно знакомое мне объяснение, что называется, “краем уха” и, признаться, до той поры сам считал его правильным (я даже вложил это в уста протопопа Савелия Туберозова в хронике “Соборяне”); тут я был неожиданно поколеблен в своей уверенности.
Немецкий колбасник, неожиданно прислушавшись к рассуждению о “gerundium” и о “ерунде”, повернулся полуоборотом к разговаривающим просвещенным людям и с неприятною резкостию сытого буржуа вдруг оторвал:
– Это неправда!
Штатские переглянулись и замолчали. Им, очевидно, не нравилась прямо колбасницкая грубость, с которою было сделано это замечание. Да и в самом деле, оно казалось по меньшей мере непочтительно – хотя бы по отношению к твердо установившемуся ученому, авторитетному мнению.
А тот себе сказал “неправда” и опять уже шлепает толстой рукою карты генерала и ходит швырком под батюшку, – и заботы ему нет, что сделал грубость.
Но колбасник был груб только по манерам, а на самом деле он оказался приятным и даже интересным человеком. Когда поезд стал приближаться к станции, на которой следовало обедать, он крикнул “halt” и, сложив свои карты, заметил партнерам, что перед принятием пищи никогда не следует обременять свою голову деловыми занятиями. Это нездорово для желудка, а надо дать всем высшим способностям краткий отдых, для чего лучше всего заняться какими-нибудь веселыми пустяками.
И вот тут-то он опять обратился между делом к серьезным людям, говорившим о “ерунде”, и сказал им следующие слова, которые я желал бы довести до сведения тех ученых, которые открыли, что ерунда произведена из латинского gerundium.
– Вот что вы давеча разговаривали здесь о ерунде, – начал немец, – будто как бы это слово произведено от латинского языка, из слова “gerundium”, то это есть самая пустая ложь…
Обоих значительных штатских это перестало сердить и даже как бы начало смешить. Они, очевидно, ожидали, что немец готов сказать большую глупость, а немец продолжал:
– Да; я вас уверяю, что кто это так с самого начала выдумал и кто такую глупость про ерунду выпускал, тот есть, можно сказать, самый превеликий дурак и осел, который своими ушами хлоп-хлоп гулять может.
Отцу протопопу, генералу и мне становилось неизвестно отчего-то очень весело, точно как будто мы имели в наших душах какое-то затаенное недоброжелательство к значительным штатским и предчувствовали, что немец их обработает на манер какого-нибудь из своих деликатесов. Единство мыслей наших обнаруживали наши взоры, в которых немец мог бы прочитать для себя поощрение или по крайней мере желание доброго успеха. А он чистой питерской простонародною речью с московским распевом продолжал свое рассуждение:
– Да, я очень бы хотел видеть того, кто это выдумал, и хотел бы его поздравить, что он есть самый чистый дурак восемьдесят четвертой пробы.
– Да, да, да! – продолжал он, приосаниваясь так, что стал походить с виду на директора гимназии. – Я самый простой производитель, я произвожу торговлю своим деликатесом, и потому моя торговля, можно сказать, не имеет ничего касающегося к науке; но если это о герундии сказал ученый, то черт меня побери, чтобы я принял его с такою наукою к себе самые простые колбасы делать.
Рассказчик подавил себя в мягкую, как подушки, грудь мягкою же, как подушка, рукою и заговорил далее много возвышенным голосом и с воодушевлением:
– До этого, что я делаю свинские деликатесы, ученым нет никакого дела, – это мое мастерство, и я кушаю мой хлеб и пью мою кружку пива или мою бутылку шампаниер, – до этого никому нет надобности, и я никакого черта не спрашиваюсь. Но я знаю тоже, что есть и gerundium! Да-с; я учился в Peter-Schule у доктора Кирхнер, при старой хорошей Дитман и при инспекторе Вейерт, и добрый старичок Вейерт даже меня очень авантажно сек за то, что я вздумал было вместо школы ходить шальберт39 по улицам, и я перестал шальберт и стал учить и супинум и герундиум40. Но самая важность, если кто понимает, что значит учиться в жизнь! Это надо с рабочими людьми!.. И оттого я опытный, и я знаю и no-латыни и по ерунде!
Мы все выражали на наших лицах недоумение: что это такое значит “знать по ерунде”, а отец протопоп даже не выдержал и предложил:
– Любопытно, но невразумительно: нельзя ли пояснить яснее.
Деликатес рассмеялся, коротко и радушно пожал отца протопопа за коленку и сказал:
– Извольте – поясню: ерунда идет от нас – от колбасников.
И затем он сделал нам нижеследующее фактическое сообщение, которое я для краткости передам вниманию ученых в сжатой и простейшей форме (что и более соответствует серьезности предмета).
Когда немецкий простолюдин, работник, в разговоре с другим человеком одного с ним круга хочет кратко высказаться о каком-нибудь предмете так, чтобы представить его малозначительность, несамостоятельность или совершенное ничтожество, которое можно кинуть туда и сюда, – то он коротко говорит:
– Hier und da41.
Между работниками из немцев в Петербурге это краткое и энергически определенное выражение в очень сильном ходу. Особенно часто его случается употреблять в колбасном производстве при сортировке мяса. Одно назначают к составлению “деликатесов”, другое к выделке низших сортов, а затем еще образуется из отброса такой материал, который один, сам по себе, никуда не годится и ничего не стоит, но может быть прибавлен туда и сюда – “hier und da”.
Работники-немцы в Петербурге зачастую работают рука об руку с мастеровыми русского происхождения, – и еще более они сближаются в “биргалах”42, за кружками, причем у подпивших немцев “hier und da” сыплется еще чаще, чем за работою в колбасных и чем в обыкновенном, трезвом разговоре.
Русский собеседник или собутыльник вслушивается в эту фразу, незаметно привыкает к ней и, будучи от природы большим подражателем, – сам начинает болтать то же самое, но, конечно, немножко приспособляя немецкое произведение к своему фасону. Отсюда простолюдин, непосредственно занявший часто упоминаемое здесь слово у немцев, о сю пору выговаривает его “хирунда”, а люди образованные, до которых слово это дошло уже передачею через полпивную – облагородили его по своему вкусу и стали произносить “ерунда”. В этом виде оно принято и, к сожалению, усвоено кое-где в русской печати. Немецкая же печать, которой слово “ерунда” по этому производству должно бы быть ближе, – примером русским не увлеклась и ему не последовала.
Вот история этого словопроизводства, как ее раскрыл и за достоверное передал нам наш русский соотечественник немецкого происхождения.
Мне этот рассказ практического и наблюдательного человека показался и интересным и очень вероподобным, и я при удобных случаях не раз пробовал его проверять. В результатах почти всегда получалось, что рассказанное колбасником о происхождении слова “ерунда” от немецкой поговорки: “hier und da” должно быть верно. В этом, во-первых, утверждает мнение многих русских немцев, которые знают быт русского и немецкого мастера и подмастерья в Петербурге, а во-вторых, и те изменения, которые претерпевает само названное слово.
Замечательно, что в низших классах петербургского обывательства люди до сих пор произносят это слово не поврежденно, как произносят благородные, а во всей его изначальной чистоте, – “яко же прияша”, то есть они говорят не “ерунда”, а “хирунда”. Таковы же у них и на– глагольные формы этого слова: “что хирундишь”, “не хирунди”. В русской печати наглагольные формы этого корня впервые стал употреблять музыкальный критик К. П. Вильбоа43, но звук “хи” им был откинут, а новый глагол в его начертании написан “ерундить”. Критику Вильбоа смело последовал М. М. Стопановский44, а потом и другие. Помнится, как будто где-то не уберег себя от этого увлечения даже А. А. Григорьев, чего от него можно было не ожидать, так как Григорьев был хороший знаток русского языка и имел образованный литературный вкус.
Впрочем, многие тогда приспособлялись приручить это слово на разные лады, и некоторые иногда достигали хороших успехов. Так, например, вскоре же начальницу какого-то женского учебного заведения назвали печатно “ерундихой”, а Льва Камбека45 – “ерундистом”. И то и другое очень понравилось. Приехал сочинитель оригинальной музыки г. Лазарев46 и дал концерт, а потом В. В. Толбин47 возвел этого hier und da в сан “ерундиссимуса короля абиссинского”. Слово вытягивалось на соразличные фасоны, и бумага терпела, но и здесь, как и везде, вероятно многое зависело от счастья. Ст. Ст. Громека хотел вывести слово “ерундение”, то есть занятие ерундою. И намерение его было самое доброе, чтобы застыдить “ерундистов”, но редактор “Отечеств<енных> записок” Ст. С. Дудышкин никак не решался пропустить в своем журнале такое слово и все его вычеркивал. Громеке это стоило крови. Иногда он брал Дудышкина круто и сильно его убеждал, что как от игры на гудке может быть “гудение”, так от игры на ерунде производится “ерундение”. Дудышкин соглашался и обещал пропустить в печать “ерундение”, но когда дело доходило до последней корректуры, смелость его покидала, и он всегда, где только было слово “ерундение”, вытравлял его… А между тем, надеюсь, еще всякому понятно, что “бурно-пламенный Громека” ни в одной поре своей деятельности нигилистом не был, но ему просто из благонамеренности хотелось пропустить в свет “ерундение”.
Не удалось это, – он пошел в чиновники и скончался губернатором, с прозвищем “Степан-Креститель”48…
Сохранение “ерундящими” простолюдинами в их произношении звука “хир” есть, без сомнения, немецкое “hier”…
…Словом, “ерунда”, или “хирунда”, пробралась в простонародную речь так же точно, как “карнолин”, “спеньжак”, “блиманжет” и многие другие чужеземные слова, нашим городским простонародьем занятые у иностранцев и испорченные на свой лад. А в класс людей образованных и отчасти в литературу оно перешло по неуместной подражательности, по любви к простонародности и, может быть, отчасти по безвкусию.
Эстетики и пуристы языка, конечно, имели очень достаточное основание негодовать, что в наш богатый и благозвучный язык насильно втиснуто слово “ерунда”, имеющее совершенно тождественное значение с тем, что до тех пор полно, ясно и для всех совершенно понятно выражало русское слово чепуха, но едва ли не сами же эстетики много помогли удивительному распространению этого пустого слова в обществе и особенно в литературных низах, считавших своим призванием враждовать с эстетикою и с классицизмом. Эстетики сделали вредную ошибку, уверяя себя и других, что “сочинение” этого слова принадлежит “нигилистам” и имеет втайне протестующее значение – в смысле профанации классической филологии. При господствовавшем в то время общественном настроении всем недоброжелателям классицизма это даже нравилось и никак не могло остановить, да и не остановило, распространения нежеланного слова. Напротив, с тех пор, как это связали с нигилизмом, “ерунда” только чаще засверкала как в разговорном языке, так и в языке литературном. Между тем, кажется, более простое, но, может быть, более вероятное разъяснение происхождения этого слова от жаргона немецкой полпивной, пожалуй, скорее могло бы удержать подражателей и тем принесть желательную пользу благоразумному старанию желавших охранять чистоту русского языка от жаргонной прививки. Но, к сожалению, в то время, как и после, люди, имевшие очень похвальные цели, не всегда руководились в своих действиях благоразумием, а наипаче часто увлекались мнительностию и страстностию, и “тако сами на хребтах своих множицею поработаша”…»49
По-моему, лучше не скажешь. И лучше слово «ерунда» не определишь.
Правда, наш знаменитый литературовед и лингвист Виктор Владимирович Виноградов (1894–1969) в своей книге «История слов» (она была издана посмертно) дал, мягко скажем, невысокую оценку версии Н. С. Лескова: «…каламбурное объяснение из немецкого hier und da, предложенное Н. С. Лесковым, не выдерживает критики. Оно опровергается и стилистическим употреблением слова ерунда и его социальной историей, которая не возводит начала этого выражения к речи петербургских немцев»50. Однако дальше, буквально в том же абзаце, В. В. Виноградов не оставляет камня на камне и от семинарской версии: «Лишена фактической опоры и та этимология, которая связывает это слово с латинским gerundium и с бурсацким диалектом. Это объяснение тоже основано на созвучии. Культурно-исторических справок, подтверждающих предположение, что ученики бурсы все непонятное называли ерундой, так как им было трудно понять употребление латинского gerundium’a, нет…»51.
Откуда же тогда взялась «ерунда»? Четкого ответа у В. В. Виноградова нет.
А у Н. С. Лескова тем не менее – есть. И мне гораздо ближе и понятнее объяснение, данное писателем, волшебником языка (а до него – колбасником, волшебником деликатесов):
Ерунда – это hier und da, «сюда и туда», «здесь и там».
И последнее. Жаль, что в русском языке не сохранилось родное словечко, которое когда-то было прямым аналогом немецкого гостя – «ерунды». Это словечко можно найти у В. И. Даля, и выглядит оно вот так:






