Хлеба и чуда (сборник) Борисова Ариадна
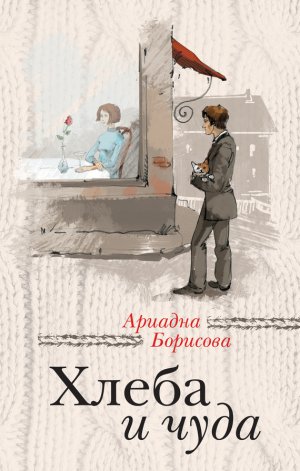
© Борисова А., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015
* * *
Скачет леший по лесам
Иваны да Марья
Предков Александры Ивановны привезли в Якутию силком по царскому указу «садиться на пашню в еланых местах» триста лет назад из-под самой Москвы. Воевода велел раздать семьям конный и рогатый скот, поселенцы стали возделывать неласковую северную землицу, сеять рожь, ячмень, коноплю для масла и пеньки. Сюда же ссылали каторжан, позже добавились старообрядцы и скопцы. Отписной грамоты было не добиться, из тайги не вырваться, редких беглецов неизбежно ловили и отправляли на Нерчинские рудники, где люди, не успевая надорвать жилы, заживо разлагались от свинцового яда. Постепенно образовалась большая русская слобода, хлебная и ямская: до продажи Аляски тут проходил тракт российско-американской компании. Попы крестили наездами «своих» и аборигенов. Язычники принимали православную веру не без корысти – крещеным выделяли земельные наделы. Новообращенные венчались с русскими девушками, и скоро к житнице приросли ветви мешанцев – людей красивых, рослых, с детства знакомых с трудом пахарей, отчего их и прозвали «пашенными». Когда родилась Александра Ивновна, в ту пору Сашка, ее село разговаривало на стойком пашенном диалекте с вкраплениями якутских слов, старики и по сию пору на нем говорят.
В детстве из палисадника Сашкиного дома выше крыши поднимались, переплетясь ветками, две березы. Пятна солнца в их тенях усеивали песчаную тропинку к дому ярко, густо, как пролитый мед. О меде в деревне знали не понаслышке: лесник Иван Гурьевич Чичерин – последний скопец, за глаза называемый Мерин-Чичерин, держал пасеку, его пчелы собирали взяток с обильных саранковых лугов.
Грустная история была связана у Ивана Гурьевича с пасекой. Диких пчел сумели приручить два брата-скопца, трудяги оборотистые, но ветхие, и больше пасечным делом никто не занимался не то что в слободе, а может, и по всему Северу. Иван же Чичерин еще мальчишкой прикипел к работе с медоносами. Из-за них и остального огородно-полевого наследства, человек уже не юный, дал он себя оскопить. Так говорили сельчане, прекрасно зная, что безрассудный поступок этот Иван Гурьевич совершил вгорячах по причине измены синеглазой любви своей Марьи.
Единственная дочь из зажиточной семьи с тремя сыновьями, гордая Марья не одному жениху отказала, а к Ивану Чичерину – неказистому, с лицом, порченным в отроках оспой, по совету отца относилась благосклонно. Сговорились, тут девица возьми и сбеги с другим Иваном, Кондратьевым. Не счесть историй, когда истомленная собственной заносчивостью перестарка чуть ли не из-под венца бросается от серьезного человека в объятия первого же подвернувшегося шалопая. Ванька Кондратьев был ветреником, но красавец – Марье под стать.
Вдовый отец беглянки погневался и принял Ваньку в дом по справедливости, как четвертого сына, под обещание не ярыжить. Однако жизнь молодых в дружном семействе не заладилась не из-за нарушения Ванькой клятвы, а из-за сочувствия примака новой бедняцкой власти. Зыбкая эта власть заявляла о себе все бойчее между налетами белых отрядов и разбойных анархических банд, и Марьины братья-середняки скоро тоже перестали упираться.
В экспроприации имущества Ивана Чичерина Ванька Кондратьев принял живейшее участие. Поля-огороды, небольшая коровья ферма отошли крестьянскому товариществу, пасеку милостиво оставили Ивану Гурьевичу. Возле нее, на окраине деревни, он и срубил избенку. А добротный скопческий двор у реки на взгорье, с домом и черной банькой, решено было отдать свежеиспеченному начальнику – заведующему общественной фермой Ивану Степановичу Кондратьеву.
Первым делом он на радостях посадил в палисаднике две высокие березы – застолбил будущее счастье. Деревья взялись на диво согласно, и хозяйственником Иван Степанович оказался справным, несмотря на досужие разговоры о его ветрености. На возобновившиеся пьянки Ивана Степановича сельсовет смотрел сквозь пальцы. Все же знали, что Кондратьев в бытность Ванькой не дурак был покутить с промысловых удач, да ведь и охотником считался фартовым. Раззудился, значит, в Иване Степановиче прежний гулена, но заработок нес строго жене, напивался не столь уж часто, негромко и не дома. А Марья… Недолго боролась Марья с дурными наклонностями мужа, родила дитя и по виду смирилась.
Сашка знала, как жестоко мать мучилась ревностью, презирая всех женщин и любую, в частности, самое себя не щадя в негласном, но из каждой поры пышущем отвращении. Ревновала отца, а не любила. Кого Марья любила беззаветно, всем сердцем без памяти, так это первенца Ванечку, – точно с лица сына сияло ей солнце. Сашка же появилась ребенком незапланированным, случайно, можно сказать, в год отчаянного всплеска Марьиной женской активности. Мать ходила вторым бременем трудно, ждала снова мальчика, красивое имя подобрала ему – Александр, а разрешилась существом своего немилого пола и в страшном разочаровании не захотела даже подумать о более приемлемом для девочки имени.
Вопреки родительскому недогляду Сашка росла здоровенькой, шустрой, как пацаненок. Мать ею и не заморачивалась. Но Ванечка! Сын! Святое… Марью восхищало собственное продолжение в мужчине, человеке противоположном созданиям слабым и порочным по природе. Думы о ненаглядном Ванечке утешали черствеющую в злой обиде душу: Иван Степанович сквозил мимо жены холодным ветром и через четыре дня на пятый не ночевал дома. Да кому о том было ведомо? Кому было ведомо – молчали. В остальном не придерешься – отгрохал новую ферму, вывел хозяйство в передовые, свой дом держал в исправности и сына наставлял к мужицкой работе.
Просыпаясь ночью, Сашка видела, как мать на цыпочках крадется проверить, не скинул ли Ванечка одеяло, не приболел ли, не дай бог, охотясь в мороз на рябчиков; видела, как любуется она его спящим лицом, отдалив свечу. Девочка пугалась безумных глаз матери, ярче свечей исходящих светом горячечной нежности, в которой, казалось, тонуло все ее тощее, длинной жердью иссохшее тело. Ни разу зыбь этой нежности не коснулась дочери, зябнущей под коротким заячьим одеяльцем, знавшим еще Ванечкино младенчество.
Неистовая материнская любовь не испортила мягкого, дружелюбного характера Сашкиного брата. Ровный со всеми, он и к домашним относился с одинаковой лаской. Весной высаживал в палисаднике сине-белые анютины глазки для Марьи, а для сестренки – красные маки и, ущипнув за румяную щеку, шутил про маков цвет. Сашка подозревала, что по-настоящему Ванечка был привязан к одному человеку – леснику Ивану Гурьевичу. Ее и в помине не было, когда они подружились.
Чичерин жил бирюк бирюком. В деревне его недолюбливали. Не терпя неряшливости, суровый лесник заставлял начисто прибирать древесный мусор с делян, к самовольным вальщикам и браконьерам был беспощаден. В вольере возле своего домишки Иван Гурьевич выхаживал то подраненного лося, то волчонка, попавшего лапой в капкан. Ребятня набегами норовила сунуть хлеба сквозь сетку, кто и шишками в зверей кидал. Потрясая прутом, Чичерин грозил высечь озорников.
Ванечку дома не наказывали – не за что было, он и тут не побоялся: «Не ругайтесь на меня, дядя Ваня, я ж плохого не делаю». Глянув в синие глаза мальца, Иван Гурьевич дрогнул. Постоял с поникшей головой, размышляя о чем-то, и внезапно смягчился: «Заходи». Потом накинул ему на голову шляпу с сеткой и повел на пасеку. Мальчика заворожили слова, в которых вроде бы ничего особенного не было: «Слышь, царица тоскует? Деток оплакивает. Тесно имям, часть отделиться от семейки хотит». Матушка-пчела действительно издавала жалобные звуки, пчелы пылко роились вокруг.
Ванечка сразу влюбился в кропотливое пчелиное царство. Позже рассказывал сестренке об окруженной почтительной свитой царице, о подданных, готовых отдать ей в голод последнюю каплю меда. Маленькая Сашка слушала, не все понимая, думала – сказки.
Миска с медом перестала быть редкостью на обеденном столе. Отцу дружба сына с лесником не больно-то нравилась, но на первых порах помалкивал. Сам в подростках нанимался в охотку к старым скопцам полоть огород за крынку сладкого солнца.
Никому не признался бы Иван Степанович, что совестит себя за стыдный раж раскулачивания. Было тогда так: покойный тесть шепнул, будто Чичерин собирается завтра передать Советам скопческое добро, и Ванька Кондратьев, пораскинув мозгами, подначил товарищей действовать до рассвета, пока Мерин-Чичерин спит. Со смехом, с прибаутками выкинули скопца из дома в подштанниках. Весело получилось, а в недобрый час царапнула Ванькино сердце вина и начала точить, и понемногу вся досада, все недовольство собой обернулись против Марьи. Из-за нее хотел унизить Ивана Гурьевича, из-за нее сообразил, как легче завладеть чужим ухоженным двором!..
Поздно спохватился Иван Степанович с запретом сыну шастать на пасеку. Ванечка, вымахнувший выше отца, глядя без страха в лицо, заявил: «Убери, тятя, ремень-то, отберу ведь». Марья осмелилась укорить мужа: «Сам виноват, семья тебе побоку…» Иван Степанович молча стукнул кулаком в стену и ушел в загул на неделю, благо звеньевые досматривали за фермой преданно… А Ванечка, окончив в том году семилетку, подался к Чичерину в помощники.
…Июнь 41-го выпал у Сашки из памяти, но вот ноябрь запомнился фразой, повторяемой на разные лады: «Немец под Москвой». В клубе крутили патефон, и под песню Утесова «Дан приказ ему на запад» семья проводила на фронт Ивана Степановича. Иван Гурьевич уехал с ним в одном грузовике.
Соседка Катерина, сблизившаяся с Марьей во время войны, рассказывала, что кто-то уведомил военных людей о тайне лесника, всем в деревне известной. Приезжий командир будто бы захохотал и хлопнул Чичерина по плечу: «Повезло тебе, скопец, яйца-то в бою только помеха!»
Присмотр за таежным участком и пасекой остался за юным лесником. Заезжая по работе в городское управление лесничеством, Ванечка рыскал по базам и рынкам, где только мог, и скупал соль и спички. Запаса хватило на целых три года, мать была бережлива. С тех пор сохранилась привычка у Сашки, давно уже Александры Ивановны, заходя в магазин, в первую очередь осматривать полки в поисках соли и спичек, всякий раз с воспоминанием о брате.
Восемнадцатилетнего Ванечку увезли с новым набором поспешно, словно на пожар. Прошел ледоход, Сашка с детворой носилась по берегу, бросая в осколки шуги[1] крошки хлеба, – задабривала речных духов, чтобы год выдался урожайным и кончилась война. Не успела попрощаться с братом и рассердилась на мать, что не позвала. Не застав ее дома, нашла по глухому вою, доносящемуся с задворок. Марья плашмя лежала на сырых бревнах, выловленных накануне багром на реке, и выла надсадно, на одной ноте, как волчица. Сашка вначале отпрянула, такими жуткими почудились ей надломленные над головой матери руки, все ее вытянутое вдоль черных бревен тело и безысходный вой. Лишь когда в груди прекратилась дятлова дробь, осмелилась дернуть Марью за безвольно упавший локоть и некстати заметила в русых волосах белой сталью блеснувшие пряди. В открытых глазах, точно в ледяных лунках, дрожала синяя-синяя вода и, светлея, текла по вискам. Сашка поняла, что мать в беспамятстве, села рядом на мокрую кучу коры и тоже тихонько завыла.
Осенью почтальонка принесла письмо от Ванечки. Отправил он его со станции Мальта Восточно-Сибирской магистрали, где проходил снайперскую подготовку в стрелковом полку. Марья схватила письмо обеими руками, плача и радостно вскрикивая, Сашке даже неловко стало перед чужим человеком за ее поведение. Читая вслух, взахлеб по складам, мать без стеснения покрывала бумагу поцелуями. В этом послании, почему-то запоздавшем на два месяца, Ванечка писал, что на днях едет на фронт, спрашивал, как справляется с работой лесник, поставленный доглядывать за участком вместо него и Ивана Гурьевича. Наказывал сестренке хорошо учиться и просил заложить специальными подушечками ульи.
Сашка опоздала, пчелы куда-то улетели. В классе она единственная не пропускала уроков: из-за небывалой засухи в деревне случился недород, и люди голодали. Сена Марья с Сашкой заготовили чуть, и пришлось отвести бычка Борьку на бойню. Злая, не подступиться, притащила Марья домой пятнадцать килограммов мяса – все, что осталось от Борьки после сдачи обязательных ста килограммов государству. Содрав со шкуры меховой покров с частью мездры, Марья выморозила кожу и порубила на кусочки для супа. Корова Субботка перебивалась чем придется, молока стала давать вполовину меньше ранешнего, к тому же почти все оно шло на погашение ежедневного продналога. Сено зимой совсем кончилось, и Субботку постигла Борькина участь. Сашка плакала, отказывалась есть суп из коровьих костей. Спокойная, доверчивая Субботка с теленка была Сашкиной наперсницей, раньше девочка мечтала, что корова умрет счастливой, дожив до глубокой старости.
Из города потянулись невероятно истощенные люди. Мать прибила к калитке железную щеколду и велела не открывать незнакомым. Однажды Сашка увидела в окно, как по дороге мелкими шажками бредут женщина с маленьким мальчиком, и вынесла им несколько вареных картофелин. Вблизи женщина походила на одетый в лохмотья скелет, мальчик выглядел немногим лучше. Они жадно проглотили картошку тут же за калиткой. Сашка снова не утерпела и отдала им зайца, попавшего в петлю на удачливом Ванечкином месте. Женщина очень благодарила, а мальчик смотрел на мертвого зверька и плакал.
Сашка не сказала Марье о снятом утром зайце и ждала, когда эти двое снова придут – припрятала для них рябчика. Но они не пришли…
Отдежурив на ферме ночью, Марья, перед тем как завалиться спать, выпивала две кружки горячего чая. Сашка с вечера заваривала этот самый чай из сушеных ягод шиповника, колотой чаги и жженой картофельной кожуры. В настой шли очистки без «глазков», остальные копились для будущей рассады. Из подгнившей картошки пекли драники, из сладковатой помороженной – оладьи с мучным конопляным семенем, а позеленевшие, застрявшие в углах подполья клубеньки мать выкидывала – такими бульбочками люди травились насмерть.
Сидя у раскрытой дверцы прогоревшей печи, Марья дула на черный кипяток и слушала политинформацию. Дочь пересказывала читанные в школе сводки Информбюро.
– Не написано, что ли, где бой-то был? – спрашивала мать.
Сашка с болью смотрела на серое материно лицо с сумеречными полыньями глаз:
– Не назвали место.
Марья вздыхала:
– Неужто досюда война дойдет? – И вдруг, светлея лицом, вспархивала к Сашке длиннющими ресницами: – Может, Ванечку бы тогда хоть на денек домой отпустили…
Письма с фронта приходили на каких-то бланках и обрывках оберточной бумаги. В углах треугольных конвертов стоял сиреневый штамп: «Просмотрено военной цензурой». Раз в месяц малограмотная Марья выводила прилежные каракули карандашом на листах Ванечкиного блокнота и вкладывала в письмо сыну чистый лист для ответа. Тетрадей не хватало, дети учились писать мелким почерком на полях газетных страниц и между заголовками. У каждого имелась своя школьная коптилка – пузырек из-под лекарства со спущенным сквозь жестяной кружок фитилем. Коптилки заправлялись казенным горючим и давали достаточный свет для чтения-писания, но сильно чадили, поэтому все в школе, включая учителей, ходили с черными носами. Сашка торопилась написать письма и выучить часть задаваемых на дом уроков в классе, экономя, кроме домашнего керосина, время, чтобы помочь матери по хозяйству и выспаться к утреннему ношению воды.
Сашке нравилось ходить к реке в синеве тающих сумерек, особенно если выдавалась ясная морозная погода, и можно было видеть, как поблекшая луна спешит ко сну. За ночь прорубь успевала намерзнуть прозрачной пластиной льда. Под сильными ударами пешни разлетались жалящие осколки, и отворялся вход в таинственную мерцающую глубь. Розовые и лиловые льдинки отражали Сашкину шаль с красными цветами, шуршали, светились, играли в воде, словно веселые живые леденцы. Легкий ветер рвал кисею тумана с прибрежных деревьев, веял перловой снежной пылью и моросом усеивал лицо. Девочка шагала с полными ведрами, изумляясь стремительной силе рассвета. Небо пробуждалось, тесня темноту к западу, будто кто-то огромный, может, сам Бог, о котором мать запрещала рассказывать в школе, поднимался с солнечной лампадой к вершинам восточных гор. Подмокшие подошвы старых отцовских торбазов грозились намертво прилипнуть к тропе, но Сашка все равно останавливалась, отдыхала и зачарованно смотрела вверх.
В субботние дни она носила воду и вечером – для стирки. Раз в субботу, чувствуя странное томление после речной «прогулки», Сашка подкрутила фитиль лампы повыше и разложила на столе газету. Марья удивленно подняла брови, но, верная внутренним правилам, промолчала. А Сашке было не до разговоров: впервые решила написать письмо отцу не по принуждению и долгу.
- Тятя здраствуй милый мой,
- приежжай скорей домой.
- На небе звездочки моргают,
- тебе с Ваней привет посылают.
- Прочь гоните фашистов проклятых,
- ждут с победой героев ребята!
Сочинила стих и осталась неудовлетворенной: не смогла выразить переполнявшие душу чувства. Строки гибкие, горячие, точно тальниковые прутья для плетения корзин в кипятке, маялись в Сашке, а на выходе были не те… совсем не те. Внизу она подписалась «Александра», а не «Саша», как обычно.
Почему-то хотелось, чтобы Марья украдкой прочла письмо. Пусть бы отругала за керосиновое расточительство, но прочла. Сашка представила внимательно прищуренные глаза и бледные губы, которыми мать беззвучно шевелила за ее спиной… Напрасно оглянулась. Марья была занята – целовала старое Ванечкино письмо.
Едва сугробы поголубели и зазернились с исподу, Сашка стала до зари бегать в тайгу на охоту. С палкой и сеткой караулила токующих глухарей. Токовища находила заранее, Ванечка научил отслеживать по штрихам на снегу, вычерченным крыльями самцов. Птица в такое время неосторожна, расправит иссиня-черный хвост с белыми крапинами, напыжит изумрудный зоб и – а-ах! – как примется щелкать! Трубит, стрекочет, перекатывает в горле шелестящие камешки, на весь лес выводит весеннюю песнь! Жалко было подбивать, а надо – Марья радовалась добыче…
Весной выяснилось, что буренок порезали в большей части дворов. Сильно убавленное колхозное стадо пастухи выводили пастись в тальнике с ружьями, опасаясь набегов одичавших собачьих стай. Фермерские коровы обгрызли шерсть друг у друга выше холок, позвонки их голых хребтин торчали, как обтянутые кожей шарикоподшипники. А жалкое стадо домашних коров оказалось бесхвостым. Хвосты своим кормилицам отрубили и съели хозяева.
В начале лета в деревню приехали на грузовике врачи, следом прибыла водовозка со средством от чесотки и вшей. Медики осмотрели сельчан, каждой семье налили в бидоны вонючее лекарство. Забрали с собой в больницы чахоточников и людей, пораженных язвами авитаминоза. Проверив Сашку, пожилая докторша с удивлением сказала: «Гляньте, какая у девочки отменная мускулатура при всей худобе!»
Завертывая на пасеку, Сашка видела пчелок, летавших у покинутых ульев. Сунула нос в леток, а внутри ничего нет, и медом не пахнет. Зато на опрятной поляне, где стояли на «курьих» ножках глухие пчелиные домики, богато взошел щавель. Хваткая Сашка собирала щавель, рвала черемшу и дикий лук, сыпанувший вслед за половодьем на нижних лугах, в рукавицах резала серпом ядреную крапиву, чьи узорные листья годились в щи, а стебли на кашу. С приправленного отрубями варева немилосердно пучило, но первая зелень после голодной зимы казалась вкуснее надоевшей картошки. Цветущее вопреки всему, каленное трудом на морозе и солнце здоровье Сашки упорно тянуло к жизни мать, истерзанную ожиданием. Варили несладкий мармелад из смородины, квасили в туесах съедобные травы, сушили грибы, тарили бочата брусникой…
Караваны барж плыли мимо деревни, выталкивая на песок бегучие ступени волн с кружевными окаемками. К берегу приставали крытые лодки-шитики с парусами, самосплавные паузки, соединенные в кормах, – настоящие флотилии! – и начинался базар. Крестьяне меняли овощи на чайники и ведра или, если со сплавщиками наезжали цыгане-лудильщики, несли свою посуду подлатать.
Марья как-то помчалась к скинувшему сходни пароходу «Пятилетка» и вернулась очень довольная. Бросила на стол перед Сашкой горсть ирисок – на, подсластись, и достала из сумки что-то завернутое в газету. Не удержалась, показала дочери шоколадную плитку с иностранными буквами на коричнево-алой обертке, нежно воркуя: «Ванечка приедет, а у нас-то вот, шоколадка для него есть, шоколадка…» Тончайший жестяной шелест фольги и ни с чем не сравнимый аромат незнакомого лакомства чуткая нюхом Сашка запомнила крепко, но, сколько бы в мирное время ни брала шоколад, не было того чудного благоухания.
… Жито золотыми волнами ложилось на стерню, вязальщики закручивали богатые охапки снопов – неслыханный случился урожай! Когда груженная доверху машина доставляла зерно на ток, дети подбирали россыпь по всей дороге, и никто не запрещал уносить домой. Целый обоз подвод вез к ссыпным пунктам и зерноскладу лобогрейки, сортировки, веялки… А ведь стояли еще картофельные поля! Осень выдалась теплая, поздняя, Сашка до инея бегала босиком, жалея ботинки. Озябнув, влезала ногами в свежую коровью лепеху, согревались ноги, и дальше – бегом, прытью, стремглав – по береговому песку, по скользящей мертвой хвое таежных тропок, по ежику отрожавших покосов…
Не учились до середины октября, покуда продолжалась уборка. Работали честно и много. Трудились на будущее. Всегда на будущее. К нему вела мечта широкая, привычная, утвержденная партией и правительством; светлое завтра стало сегодняшним долгом и, главное, позволяло верить в то, что рабочий вклад каждого человека помогает приблизить победу… и коммунизм планетарного масштаба… и счастье без границ! Старые учителя плелись с полей потемну, как пьяные, держась за ограды. Сашка, рослая не по годам и по-здешнему «ртутная» до любого заделья, и то к ночи думала, что утром не встанет.
Превратились в рванину просоленные Сашкиным потом Ванечкины рубахи. Ордера на небольшие отрезы тканей выдавали ударникам труда по праздникам, а их всего три: 7 Ноября, Новый год и 1 Мая. Марья за кулек зерна выторговала у городских спекулянтов красивое клетчатое платье. Девочка щеголяла в обновке до первой стирки, но только опустили в воду – платье расползлось в руках. Мать больше огорчилась, чем разгневалась: «Как же имям не совестно? Еще, поди, радуются, что надули…» Сшила Сашке и себе шаровары из дерюги, подкрасила настоем ольховой коры. В таких шароварах ходили в деревне и стар и млад. Штаны эти были куда выше качеством спекулянтских тряпок, но тепла не держали.
В следующие летние каникулы Сашка подрабатывала учетчицей на ферме. За неимением бумаги вела учет молока от каждой коровы угольком на фанерной дощечке. Подведя дневной итог, смывала записанное и чертила новую таблицу. Очень гордилась, получив за трудодни мешок готовой муки – не надо лошадь просить, везти на мельницу! Но больше Сашке нравилось ухаживать за телятами, даже чистить навоз за ними не ленилась. В мае первой открыла перед малышами ворота на пастьбу. Травки, правда, почти еще не было – так, зеленоватый ворс, подснежниковый пух…
И в этом-то бархатном, цыплячьем мае произошло великое событие, огромная, всеохватная радость: радио на столбе сельсоветской площади торжественным голосом Левитана оповестило сельчан о полной и безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Доярки увидели гурьбу детей, с криками несущихся к ферме, испугались: пожар?! Потом сами закричали, запрыгали вместе с детьми:
– Победа! Победа!!!
Ликующий шум несся с площади, словно малиновый звон, там – хоть уши затыкай – вопили, голосили, рыдали те, кто ждал, и те, кто положил под скатерть похоронку, но все равно… все равно ждал!..
Приехал из госпиталя контуженый сосед, муж тетки Катерины дядя Кеша. Один за другим, по двое-трое возвращались домой фронтовики. Самой счастливой по всей Якутии была мать пятерых братьев Соколовых из деревни Еланки, недалеко от Сашкиного села. Братья служили в одном орудийном расчете, и, как сообщил их комиссар в редакцию газеты, «…в одном только бою уничтожили роту немецкой пехоты, пять автомашин, штаб немецкого полка, две батареи, склад с боеприпасами и шестиствольный миномет…». И все пятеро, в орденах и медалях, вернулись домой![2] А мать из другого села не дождалась с войны пятерых сыновей. Много лет спустя на косогоре у дороги, куда женщина до самой своей смерти ходила высматривать своих мальчиков, ей поставили памятник…[3]
От отца с Ванечкой давно не было писем. Ни слуху ни духу. После вести о войне с милитаристской Японией Марья глухо выла весь вечер в дровянике.
Сашка одна собирала бруснику, у Марьи недоставало ни сил, ни желания. Сидели однажды на крыльце, чистили ягоду. Тетка Катерина пришла пожаловаться на мужа. Оглохший дядя Кеша, прежде спокойный – щенка с тропинки не сгонит, обойдет, – стал слабонервным и, подвыпив, буянил.
Послышался рокот мотора, напротив дома остановился военный грузовик и через несколько секунд развернулся и уехал, оставив в дорожной пыли странный, чем-то бугристым наполненный мешок. В открытую калитку Сашка увидела, что мешок шевелится… и вдруг сообразила: это человек, обрубленный почти наполовину. Замерла, узнавая… не узнавая…
Тетка Катерина ахнула:
– Марья! Иван… Твой Иван вернулся!
У матери отказали ноги. Катерина, плача, тащила ее с крыльца и кричала:
– Марья, что же ты, ну?! Ползи, Марья!
И мать поползла.
Отец тоже сделал встречное движение, но неловко завалился лицом вниз, обнял длинными руками землю перед домом, и мощные его плечи крупно затряслись.
Марья застопорилась в нескольких шагах от мужа и хрипло выдохнула:
– Иван, Ванечка где?!
Он приподнял к ней грязное лицо в светлых бороздках слез:
– Не знаю, Марья…
Она тонко, дребезжаще вскрикнула и тяжело уронила в песок седую голову. Так они и лежали на песчаной тропинке голова к голове, он – плотный, короткий, она – сухая и долгая, и только их руки тихо, будто нехотя, медленными змеями тянулись навстречу друг другу, пока не сплелись в один жалкий, серый, мосластый комок.
Кузнец из ближнего села смастерил отцу ловкие колесные салазки с рычажком тормоза и ременными креплениями. Отталкиваясь от земли ладонями, отец приноровился перемещаться довольно резво.
Его не взяли на ферму даже сторожем. Если в бытность разудалым Ванькой Кондратьевым он мог гужевать неделями и все ему прощалось за молодецкую удаль и веселую злость к работе, то теперь запои неугомонного калеки – пусть бывшего начальника, пусть фронтовика, – никто не хотел терпеть даже из душевного благородства. Госпособие по инвалидности отец умудрялся спустить в день доставки. Сашка отгоняла от отца собак, ожесточенно дралась с мальчишками, едва ей казалось, что кто-то смотрит на него свысока… Хотя свысока на него смотрели все, и сама она тоже.
Бражники облюбовали для сборищ пустующую избенку Мерина-Чичерина. Лесник из соседнего села, на которого после отъезда Ванечки был возложен уход за таежным участком, еле справлялся с дополнительным бременем, а чичеринское жилье с хозяйством вовсе забросил. Бегая туда за отцом, Сашка хорошо изучила ступени его стремления к беспамятству. Слегка заправившись, Иван Степанович рассказывал тем, кто не отказывался слушать, об освобожденных им городах и деревнях, читал отпечатанную на машинке партизанскую листовку. Он подобрал ее под Харьковом на лесной поляне у села Пересачного. Это было длинное стихотворное обращение к Гитлеру и вермахту, Сашке запомнились последние строки:
- Скоро мы вашу рать
- Заставим носом землю пахать,
- Места у нас хватит
- Вами болота гатить,
- Говорим серьезно:
- Смывайтесь, пока не поздно!
- По поручению пинских партизан
- Писал Солдатов Иван.
Налившись горькой до «ватерпаса», – так Иван Степанович сам называл критический рубеж опьянения, он насмехался над потугами председателя вырвать полуразрушенное хозяйство из лап нужды, поносил нынешнего заведующего фермой, бранил все колхозное руководство. Бред отца становился все неразборчивее, надоедливее, и Сашка, как боевая лошадка, увозила его домой. В пути он трезвел, скидывал внезапно ремни, соскользывал с салазок и по-пластунски полз назад, бойко вихляясь ополовиненным телом, царапая дорогу пальцами, пуговицами и медалью «За отвагу».
Сашка понимала: отец ненавидит свое удачливое довоенное прошлое и по-настоящему с войны так и не возвратился. Ночью он спал плохо, стонал – колени болят… Ох как же болят колени… жилы ноют… лодыжки…
Председатель все грозился снести «пьяный домик» Чичерина, но неожиданно, к всеобщему облегчению, лесник вернулся. Выпивохи сразу забыли протоптанную к месту дислокации тропу. Исхудалый, в длинной шинели, Иван Гурьевич встретился Сашке возле ее дома – показалось, что ниже стал ростом, или это она супротив него выросла.
– Саша? – не поверил Иван Гурьевич. – Ух какая стала большая!
Спросил о брате. Сашка объяснила – потерялся, ищут по запросу. Постояли молча. Иван Гурьевич сник лицом, оно было совсем старым, аж оспин не видать – в морщинах утопли. Сказал:
– Ищут, значит, найдут.
Развернулся и пошел обратно, ссутулившись, спотыкаясь по чистой дороге, хотя спиртным от него не пахло. Руки-ноги целые, даже не хромой…
Письма Ванечки Марья носила на груди в мягкой тряпке. Сашка углядела тряпичный пакет в предбаннике на полке с бельем, и, пока мать, ухая, охаживала себя за дверью березовым веником, быстренько развернула. Там они и лежали без конвертов, блокнотные листочки с расплывшимися буквами, истерханные оттого, что их часто доставали, целовали и прижимали к лицу. Сашка могла поклясться – Марья знает эти немногочисленные письма наизусть, и с неприязнью подумала: если б какой-нибудь колдун предложил матери поменять дочь на сына, она бы, наверное, согласилась, не колеблясь, и больше не вспоминала Сашку. С возвращением отца мать почти перестала ее замечать, за день Сашке обламывалось от матери несколько слов, и то в повелительном тоне: «Подай, принеси, сделай».
У Ивана Степановича начались трезвые дни. Обычно он сидел у печки, мял шкуры. Решил заняться сапожным делом. У него бы получилось – руки в роду Кондратьевых, все знали, были золотые.
Сашка занесла с улицы охапку дров, отец пожалел:
– Санечка, доча моя… Прости, что мужскую работу приходится тебе делать.
Марья заметила ласку, хмыкнула.
– Не сердись на нее, – шепнул он. – Мать у нас тронутая чуток, но хорошая…
Сашка присела рядом.
– Тятя, расскажи о войне.
– Что – война? – произнес отец с кривой улыбкой. – Неинтересная это штука – война.
– Но был же героизм…
– А как же, – кивнул он и вытер о культи вспотевшие ладони. – Страшный был героизм.
– Почему страшный?
Отец уставился на красно-серый пепел в открытой дверце печи, и набрякшее от попоек лицо его окаменело. Сашка уже думала – не ответит, а он заговорил. Медленно, трудно, будто слова выдавливались изнутри без всякого его желания.
– Сраженье было раз в украинском селе… Там один молодой солдат наш, пацан еще, отвоевался. Герой… Истинный герой… был. Кончился бой, и сидит он, помню, на бруствере, руки вперед вытянул – зовет… Маму зовет… Глазницы пустые… а глаза его, Санечка… глаза его, чисто бусины голубенькие… на жилках по щекам висят – взрывом вышибло…
Прикрыв лицо ладонью, отец дернул другой рукой рычажок тормоза и поехал к двери. Прихватил с лавки телогрейку, шапку, перебрался через порог, напустив в дом зимнего тумана… Ругая себя за праздные вопросы, Сашка хотела броситься за ним, и остановилась, потрясенная сдавленным окликом Марьи:
– Доченька!
В первый раз за всю свою двенадцатилетнюю жизнь услышала Сашка от матери это слово. Марья сидела на табурете с бледным, известковой белизны, лицом и простирала к Сашке руки, как тот ослепший солдатик.
– Доченька, – повторила мать, больно прижала Сашку к себе и разрыдалась.
Вскоре стало известно: Ванечка погиб в бою за польский город Калиш. Сашке о гибели брата сказал отец. Мать то ли сожгла письмо с известием, то ли так далеко спрятала, что больше бумагу не видели. Сашка, по крайней мере, не видела, как и шоколад с чудным нездешним запахом, в коричнево-алой обертке с иностранными буквами.
Дровяник не сотрясся от воя Марьи. Она, кажется, не поверила в смерть Ванечки и не плакала из суеверия – чтобы не накликать. Но взяла лучшую карточку сына и съездила в город заказать в фотоателье его портрет. Повесила потом над кроватью рядом с иконой Богородицы с маленьким Христом на руках и ярким рисунком в рамке, подаренным ей школьником Ванечкой, – синие цветы в небывалой красоты вазе.
В один из святочных дней Марья велела Сашке снести в проветренную после топки баню настольное трюмо. Отправилась туда к полночи, а любопытная Сашка уже ждала: легла на верхний полок и схоронилась под кучей ольховых веток. Марья прикатила кадушку, поставила ее на попа в углу и, взгромоздив трюмо, зажгла с двух сторон его створок белые свечи в медных подсвечниках. Сама села на низкую лавку и погасила коптилку, с которой пришла. Изумленная Сашка приподняла голову на локтях – острые глаза ее узрели в центральной части трюмо, поверх головы матери, уходящий вдаль коридор – высокий, с длинными черными стенами, но светлый, – весь в свечах, точно храмовый.
Заметно волнуясь, Марья кинула в прозрачный стакан что-то маленькое, блестящее. «Кольцо», – догадалась Сашка и вздрогнула от тревожно зазвеневшего голоса матери:
– Господи, прости мя, грешную, прости глупую… – Марья перекрестилась, кланяясь лицом кому-то невидимому в угол. – Иван Гурьич говорит, обшибка, видать, вышла с похоронной-то бумагой. Военные часто обшибаются. Живой, поди, Ванечка. Может, в плену был, а домой не пускают, и письмо написать нельзя. На пленных-то наши худо смотрят, не жалуют… и где теперь мой сыночек?..
Сашка оцепенела в своем тайнике, боясь пальцем шевельнуть. Тяжкая тишина сгустилась в бане, только сквозь клубящийся под потолком пар падали с прокопченных балок горячие капли. Через минуту напряженный слух стал улавливать непонятные шорохи, скрипы, мышиный писк; в висках застучало. Марья сидела неподвижно, вперив немигающие глаза в зеркальную бездну. Одна капля дзенькнула на днище кадушки перед стаканом.
– Где Ванечка? – всхлипнула мать.
И вдруг…
Забыв обо всем, ошеломленная Сашка протерла лицо ладонями: в сердцевине золотистого отражения смутным пятном проявился какой-то горб, темно-серый, как обтянутая дерюжной рубахой грудь лежащей женщины. Марья глухо вскрикнула и зажала рот рукой. Округлый горб сделался более отчетливым, проступил из глубины сияющего коридора, словно послушался чьего-то зова, двинулся наружу с потустороннего дна и, наконец, ясно обозначился холм… Не дерюжный. Земляной.
Замерцали свечи, трепеща огнями на неведомом ветру, из жерла каменки взвеялся жаркий пепел, и волосы Сашки поднялись дыбом от нечеловеческого рыка и рева. На пол и стены обрушился дикий грохот. Чудилось, банька, хлопая дверью, кривясь косым сиреневым окошком предбанника, заходила ходуном. В свете одной устоявшей свечи Марья, страшная, косматая, с разверстой в крике черной дырой рта на свирепом лице, колотила деревянными остатками трюмо о нижний полок, не замечая, что руки ее изрезаны и весь пол усыпан кровавыми зеркальными осколками.
Кто-то забарабанил в дверь снаружи. Медвежья тень матери метнулась в предбанник, и ветки ввером взлетели над Сашкой, – она выпрыгнула с полка, мать как раз пинком распахнула дверь, с щепой выдрав накинутый крючок… Салазки отца кувыркнулись с крыльца в сугроб. Выскочив из бани, Сашка понеслась по тропе, подгоняемая собственным визгом и жуткими воплями Марьи.
Дома на столе горела лампа, было тепло и как-то кощунственно уютно. Сашка сползла по стене, задыхаясь, посидела на корточках и снова вышла в сенцы. Луна светила ярко, в полную силу отраженного блеска, смотрела вместе с Сашкой на Марью, волокущую с задворок отца. Бешено елозя на салазках, он лупил ее по чему придется одним из крепежных ремней. Она тоже била его куда попало темными от крови руками, не делая попыток заслониться от ударов и голося монотонно, гулко, как в бочку:
– Мой сынок, о-о-о! Ванечка погиб… а ты-ы-и! Ты-ы… Заче-е-ем, за что, боже-е?!
– Дай подохнуть! – надрывно, со слезами кричал отец и обзывал мать такими гадкими словами, каких Сашка никогда от него не слышала. – Дай околеть спокойно! Ванька и мой сын, забыла? Или ты от Чичерина его родила?!
Покачиваясь, полоща воздух окровавленными ладонями, Марья внезапно расхохоталась с безумным подвывом.
– А-ха-ха-ха! Я! Я от Чичерина родила! Ха-ха-ха-ха! От скопца! Дивитеся, люди, баба в кои-то веки от бесснастного родила!
Хлестнув отца по щеке, она захлебнулась рыданием и с размаху уселась в сугроб.
– Безмозглая курица, я любил своего сына так же, как ты! – крикнул он, утирая с лица рукавом кровавую печать, и подал жене руку. – Вставай, замерзнешь… Вставай же! Господи, какого лешего я женился на этой дуре?!
Мать поднялась с его помощью, перехватила ремень и потянула отца к дому…
Иван Степанович с полным правом оплакивал сына почти месяц. Отметился в каждом дворе, дерзнул к председателю прокатиться, и тот не прогнал, поднес рюмку белой за помин.
К маю Марья тайком от мужа настояла в бане лагушок[4] браги со зверобоем. Утром девятого, в день рабочий, но с митингом, напекла капустных пирожков. Переоделась вечером в праздничный черный жакет, накинула черный платок и пошла на сельсоветскую площадь. Сашка ежилась, чувствуя неловкость из-за траура матери в принаряженной толпе, но ничего дурного не произошло, не одна Марья была в черном. Председатель прочел доклад, ему недолго хлопали, в нетерпении ожидая основной части мероприятия. Марью среди многих наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», подарили ордер на одежду, и Сашка за свой труд удостоилась грамоты с ордером.
Дома, почуяв неладное, мать поспешила в баню. Навстречу ей с бидоном нацеженной браги ехал отец.
– Смыться собрался, – загородила тропинку Марья.
– А то, – отец задиристо вздернул к ней виновато-испуганное лицо. – Нонче мой день!
Резко выдернув дужку из его ладони, Марье удалось завладеть бидоном.
– Дура-баба! – заорал Иван Степанович и безуспешно попытался поймать ее за летящий подол юбки. В кухне мать безмолвно водрузила бидон на буфет и спокойно достала с полки миску с ароматными пирожками. Перевалив через порог, отец из вредности придвинул к буфету скамью, два табурета и лавочку.
Марья готовила на стол, с мстительной улыбкой наблюдая за потугами мужа. Не выдержала, съязвила:
– Ох и посмеюся же я, когда ты лететь со своей каланчи будешь!
Иван Степанович в сердцах сплюнул на пол:
– Я уйду от тебя сейчас!
– Уходи! – закричала Марья. – Ужо от ярыжника[5] ослобонюсь!
– Вот и ладно, – зловеще скривился он. – Но не думай, я судиться буду. Здесь мое все!
– Твое?.. Ага, Ванька Кондратьев, твое! – Марья пошла на него, уперев руки в бока. – А не чичеринское ли? Не скопцовское ли? Или поблазнилось мне, что ты полдня план сочинял, как у Ивана Гурьича добро-то ловчее к себе прибрать?!
Стараясь держаться прямо, отец крутанулся на колесах салазок и увидел прижавшуюся к стене Сашку. Пробормотал в сторону:
– Хоть бы не при дочери на отца клеветала, кобыла старая…
– Я – старая? – зашипела Марья над его плешивой макушкой. – До молодух тебе слинять неймется? Да только кому ты нужен-то, полчеловека!
Щеки и шея отца налились свекольной краснотой. Оттолкнув жену, он мощным рывком перекинул себя с салазками к буфету и, не успела она опомниться, уперся в него спиной. Истошный крик Марьи потонул в лязге и дребезге посуды, вывалившейся из распахнутых дверок. Бидон весело проплясал к краю и, оросив кухню терпким мутным дождем, загремел по столу.
– Скотина ты-ы! Бык ты-ы-и! – Марья вцепилась в остатки отцовских волос.
– Выйди, Санька, не смотри! – сорванным заячьим голосом, словно дурачась, заверещал отец и сцапал мать поперек живота.
Вылетев во двор в платье, Сашка поняла, что скоро озябнет. На улице было ветрено и совсем еще светло. Залезла на чердак и зарылась в невыделанные шкуры, собранные по деревне так и не сбывшимся сапожником.
Где-то кричал мужчина – то ли отец внизу, то ли ветром с дороги принесло:
– Нале-во! Шагом… арш!
Сашка завернулась, как могла, в жесткую волчью шкуру мехом к себе и прильнула к пыльному чердачному окну.
– Ать-два, ать-два! – По дороге, уже просохшей от луж и не пыльной, кое-как поднимая больные колени, маршировала в солдатской пилотке тетка Катерина. Дядя Кеша шагал позади, приставив к затылку жены дуло охотничьего ружья. В лучах позднего солнца ярко сверкали на гимнастерке боевые награды. Сашке хорошо было видно сверху раскрасневшееся, довольное лицо пьяного соседа.
– Кру-гом! – скомандовал он. – Лечь! Встать! Лечь! Встать! Вста-ать, кому сказал!
Тетка Катерина становилась на карачки, тщетно силясь подняться, и раздавалась новая команда. После нескольких честных попыток исполнить приказ Катерина схватилась за поясницу и осталась лежать лицом вбок.
– Стреляй, вражина… – донесся ее осипший от плача голос.
«Учения» завершились. Поддерживая жену за пояс, дядя Кеша потащил ее, обезножевшую, домой.
Сашка прислушалась к звукам внизу. Подозрительная тишина заставила ее спуститься с крыши.
Родители мирно беседовали за столом, закусывая брагу пирожками. Весь дом провонял тошнотворным духом кислого сусла и перебродившего со зверобоем зерна. Сноровистая Марья умудрилась за короткое время прибрать разбитые тарелки, подтереть полы и сгонять с бидоном в баню. Сашку не удосужилась кликнуть, хотя наверняка видела, что дочь убежала в одном платье. Ощущая свою ненужность, Сашка тихо проскользнула в свою каморку и, не раздеваясь, легла в постель.
Почему-то вспомнилось, как Марья припрятывала для Ванечки конфеты, подвигала ему за столом вкусные кусочки. Покупала сыну городские рубашки, забывая о том, что обмалились Сашкины платья, пошитые из старья. «Ванечки не стало, кого теперь матери любить-то? – страдала Сашка. – Я ей лишняя, тятя – калека…» Плакала, жалея всех, особенно мать, и, противореча себе, мечтала, как вырастет взрослая и родит девочку матери назло… Тогда и дернулась слева в груди, болезненно затрепетала тонкая ниточка, – не оборвалась, слава богу, но будто бы попросила не теребить, не надсаживать сердце обидой.
В передней отец снова гневно возвысил голос:
– Дай, говорю!
– Нет, – громко отрезала Марья.
Сашка спрыгнула с кровати, подобралась в носках к занавеске и чуть приоткрыла с угла.
Марья, прямее некуда, сидела на табурете, отец слез зачем-то с салазок и, обхватив ее колени, пожаловался:
– Мне эта бражка как морю капля.
Выпростав ноги из кольца мужниных рук, мать встала к нему спиной у окна.
– Негде водки сейчас купить.
– Касьянчиха самогон продает, – встрепенулся он. – Недорого… Мать, ну не будь жмотиной, дай. Получу пособие, верну, ей-богу. Мать, ма-ать…
Марья гневно обернулась.
– Не смей называть меня так!
Отец откинулся к ножке стола.
– И впрямь, чего это я… Кому ты мать? Сашка… А где Сашка?!
– Спит давно, – презрительно усмехнулась Марья. – Залил зенки-то, да и проворонил, как к себе шмыгнула. А ее трудно не заметить, здоровая стала девка.
«Надо же, видела меня», – удивилась Сашка. Отец бухнулся в салазки и, подкатившись к Марье, запрокинул к ней умоляющее лицо.
– Мы с тобой помянули сына. Это правильно. Но пойми, я – солдат. Я защищал Родину. Дом свой защищал, тебя, дочь. Не один я, другие тоже, и те, кто погиб, защищали своих и землю нашу. Имею я право сегодня выпить за помин погибших товарищей?
Марья отступала от отца, пятясь, выдирая подол из его цепких пальцев.
– Нет, ты мне скажи, жена: имею или не имею?!
Остервенело выдернув из-под кофты, из лифчика бумажную купюру, мать выкинула ее в середину комнаты:
– На, бери, напивайся!
Отец подскочил на культях, взмахнув рукой, но словить деньги на лету не удалось, и рухнул на пол. Вывернувшиеся салазки швырнуло от толчка в порог и перевернуло. Искоса глянув на них, отец пополз к деньгам, бормоча:
– Прости, Марья, я виноват перед тобой… Всю жизнь тебе испоганил… Если можешь, прости… Зачем ты вышла за меня? Господи, лучше бы меня убили!
До вожделенной бумажки осталось руку протянуть, а он вдруг забился лбом об пол, с надсаженным стоном выталкивая из горла судорожные обрывки слов:
– По… че… не… у… би… ли… Гос… поди!
Мать упала рядом с ним на колени, прижала голову отца к своему животу и заплакала, замотала распустившейся седой косицей:
– Нет, Ваня, нет, нет, нет, нет, нет…
Сашке не спалось и ночью. Повертевшись на постели, она вышла, попила воды из ковша и, проходя мимо комнаты родителей, замедлила шаги.
– Дай, – просил отец.
– Нет.
– Ну дай…
Голоса были тихие. Сашка сначала подумала, что отец снова требует денег на выпивку. Но вдруг поняла…
– Не дам, – игриво сказала мать. И захихикала.
Прижав ладони к жарко полыхнувшим щекам, Сашка бросилась в каморку. «Боже, неужто они до сих пор… Такие старые… Как… отец же безногий!» Она нырнула в постель, сжала уши ладонями, чтобы не слышать шепота и скрипа в соседней комнате, а с мыслями ничего не могла поделать – они лезли к ней, стыдные, глупые, горячие, заставляя стискивать зубы, жмурить глаза, обливаться под подушкой слезами и потом.
…На следующий год, когда отменили карточную систему, а в стране опять случился неурожай, и в магазинах было шаром покати, но начали продавать водку, Иван Степанович отправился за ней зимой пьяный и поморозил одну из культей. Начался огневец, везти в городскую больницу стало поздно…
Дядя Кеша, славный плотник, выстругал соседу гроб в полный рост, с учетом несуществующих ног. На отца натянули купленные Марьей у спекулянтов брюки, набили их сеном и надели начищенные ваксой кирзовые сапоги. Сашка удивилась, каким, оказывается, он был высоким. Совсем не помнила его с ногами. Всю память о нем, довоенном, перебили салазки на колесах и мощные руки с каменными, несмываемо серыми запятками на ладонях.
Марья не плакала, но глаза ее запали и совсем потеряли свой яростный синий цвет. Сидя после поминок у печки, она, не курящая, вдруг задымила папиросой из оставшейся отцовской пачки «Беломорканал» и, с глубоким отвращением глянув на Сашку, проговорила:
– Как же ты на него похожа.
Сашка оскорбилась. Не потому, что действительно смахивала на отца внешне, а из-за того, что нравом – негибким, упрямым, самой себе обременительным в скрытном своем одиночестве, постылым и неизменчивым нравом – она походила на мать.
Временами Сашке стал сниться приземистый, широкоплечий отцовский силуэт, катившийся в салазках по песчаной дорожке встречь алому, как знамя, рассвету. А на дорожке больше не было дрожащих на ветру березовых теней в медовых пятнах. Марья срубила красивые березы в палисаднике, – сказала, что застят солнце, и под окнами вольно разрослись ядовито-зеленая, узорно вырезанная крапива и ушастые лопухи.
Сашка думала о странной связи живого и мертвого, что без конца перетекает одно в другое. Умерли Ванечка, отец и березы, и все умрут. Она, Сашка, тоже когда-нибудь исчезнет, а жизнь будет продолжаться, будет идти вперед к всеобъемлющему коммунизму и счастью. Появятся новые люди, не знающие войны… Все изменится, уже меняется, – на пасеку прилетели молодые пчелы, приручились и начали давать мед. Мать увлеклась пасечной работой, рассказывала о пчелах, как раньше Ванечка, радовалась: жимолость щедро зацвела, даст хороший взяток…
Иван Гурьевич редко выходил из своей избенки – болел очень. Руки-ноги целы, а живот, оказывается, был разворочен осколком снаряда. Марья ходила лечить Ивана Гурьевича, звала в большой дом, – принадлежавший ему по справедливости, по наследству от старых скопцов. Но Чичерин не захотел, так и умер в избенке. Марья горевала, что в конце жизни Иван Гурьевич перестал верить в бога. И в настоящего бога, и в своего неправильного, скопческого… А сама Марья каждый вечер стояла на коленях у кровати перед иконой Богородицы с Христом, портретом Ванечки и синими цветами в рамке.
Сашка знала, о чем молит мать Богородицу и Бога. Марья просила, пока она еще в силе, чтобы дочь поскорее вышла замуж и родила сына, а ей – внука.
По прозвищу Трансформатор
В деревне построили новую свиноферму, и Сашка пошла туда свинаркой. Дурного хавроньина запаха в чистом здании почти не ощущалось. Чушек мыли из шлангов, не то что прежде, когда от смрада щипало глаза и жижу выгребали лопатой. Подача пищи была автоматизированной, кормили животных неделю густо, неделю жиденько на обрате для переслойки сала мясцом. Работа Сашке нравилась, досаждали только здешние парни, избалованные молодайками. Однажды привезший обрат шофер ущипнул ее за ягодицу и, получив от души, весь день ездил с задранным кровоточащим носом. Этот шофер и придумал Сашке прозвище – Трансформатор, имея в виду устрашающий знак «Не влезай, убьет!». Таблички с таким предупреждением висели на опорах ЛЭП и дверях трансформаторных будок в райцентре, который недавно электрифицировался. Ну и пусть Трансформатор, думала Сашка, зато отстали.
Суровое поведение окутывало Сашку, как кокон зреющую бабочку, поэтому она была возмущена, когда председатель определил к ней на постой мужчину – городского агитатора. Общество «Знание» по просьбе совхозного парторга отправило его на лето в село для повышения политического и научного уровня сельчан. Вслух Сашка, конечно, негодования не высказывала. Единолично занимая большой родительский дом при нехватке жилых площадей, она понимала председательскую справедливость. А лектор при своем хрупком здоровье не мог ежедневно мотаться сюда по тряской дороге из города. Спасибо, что согласился провести разъяснительную работу в крестьянских массах, надеясь поправить слабый организм на свежих молочных продуктах. Очкастый шибздик – любой из парней походя щелчком перешибет, был он Сашке по брови, имя же носил, будто в насмешку, крупное, броское – Трудомир Николаевич Воскобойников.
В клубе открылся агитпункт. Трудомир Николаевич проповедовал против церкви, и активные школьники демонстрировали химические опыты, убеждая стариков в отсутствии ангелов на небесах. По словам агитатора, наука шагнула так широко – куда там богу, ученые изобрели даже негниющие стеклянные нитки – «стекловолокно» называются – и аппараты механического доения. Это новшество с помощью гидравлики помогало извлекать молоко одновременно из десятка и более коров. Слушатели смотрели агитатору в рот, как зачарованные. Казалось, в реку бы гурьбой двинулись на его голос, лишь бы не переставал пропагандировать за технический прогресс. В Сашкиной голове диковинным образом перемешались ангелы, домовые, атеистическая химия, гидравлика и Страшный суд, но от материного обычая креститься, садясь за стол, она таки избавилась.
Особенно рьяно Трудомир Николаевич ораторствовал перед кино. Парторг, раньше выступавший сам, помалкивал, и на хмуром его лице читалось чистосердечное раскаяние. Председатель тоже лишился возможности всласть побранить народ за срыв плана по госпоставкам. С изумлением и беззвучным гневом слушал председатель доклад о хлебном изобилии в стране: хлеб стал бесплатным в общественных столовых – это как? Деревня, значит, вкалывает, чтоб город задарма жрал?! В иных местах крестьяне все еще пашут ручными плугами, серпами жнут, а тут пришел дрыгалка и врет о фантастических агрогородах… Но начинала тарахтеть кинопередвижка, на простыне расцветали джунгли, в них запрыгивал Тарзан, и досада на шустрого болтуна забывалась.
После киносеанса Сашка шла с Трудомиром Николаевичем домой и краснела. Сзади доносился глумливый шепот: «Сашка, Сашка-Трансфоратор! Не влезай, убьет!» Видела, как трепещут занавески в окнах. Агитатор продолжал витийствовать перед сузившейся аудиторией, и в голосе чувствовались проникновенные нотки. Дома он вешал соломенную шляпу на косульи рога, мыл тщательно пальцы. Берег себя – мало ли какую заразу хранили в клубе вещи, к которым прикасался. За ужином спрашивал о прочитанной литературе, говорил о семенах разумного, доброго, вечного.
Сашка жила на свете двадцать два года с половиной, а серьезных книг читала всего две, и то в школе. Про неверную жену, которая мучилась-мучилась да и бросилась под поезд, и про парня, убившего старуху и тоже изрядно промучившегося. Ну, это не считая, разумеется, школьных сихов и рассказов-статей в разных журналах. Застыдившись, решила съездить в районный поселок, сходить в библиотеку и краеведческий музей для самообразования.
В библиотеке книг оказалось так много, что растерялась, какую взять. Подумала, может, неместным не дают, постояла немножко и ушла. По стенам музея висели живопись и графика местных художников. Цветные картины глянулись Сашке больше. Только вот женщины на двух рисунках были голые, как в бане, а ведь в музей мужчины ходят и даже школьники…
В магазине повезло попасть в очередь за голубым крепдешином в синюю крапинку. Удалось незаметно вынуть из лифчика кошелек, недавно бригада получила деньги сверх трудодней. В другом магазине Сашка купила легкие сандалеты из серой кожи, – не в кирзовых же сапогах щеголять при крепдешиновой обнове. После получился дивной красоты сарафан, светлое было Сашке к лицу.
На обратном пути ехала в кузове грузовика-попутки с молодой семьей. На коленях у мужчины сидела махонькая девочка, завернутая поверх плащика в байковое коричневое одеяло – будто сахарная пирамидка в вощеной бумаге. Женщина играла с ребенком в ладушки. Когда грузовик встряхивало на колдобинах, все трое вскрикивали: «Ой!» и смеялись.






