Хлеба и чуда (сборник) Борисова Ариадна
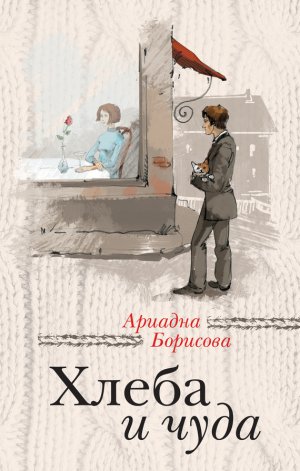
Сашке не нравились краснощекие деревенские младенцы с толстыми ручками-ножками в колбасных перетяжках, это же дитя было сущий стебелек: от пушистых волос шло сияние, ресницы посверкивали, как золотые остьица ячменя. И что-то странное в ней взыграло. Захотелось вдруг заиметь такое же теплое, нежное, которое целуешь, вдыхая родной запах, а оно щекотно лепечет в ухо и тонкими ручонками обнимает шею. Но чтобы непременно девочка была, не пацаненок. Сашка любила бы дочку так же, как мать брата Ванечку, погибшего на войне. Назло материнской нелюбви к ней, Сашке.
Захваченная расчетом улучшения разлапистой крестьянской породы, она ни на ком из парней не остановилась. Неширок оказался выбор: либо кряжистые увальни с мясистыми лицами, либо каланчи долговязые – Сашка сама была не из маленьких. Да чего от себя таиться! Ведь сразу пригляделась к постояльцу. Приметила под очками большие умные глаза цвета песчаного дна в речной тени, нос не картошкой кверху – пряменький, аккуратный, руки изящные. Холеные нерабочие руки с узкими ногтями…
Через неделю Сашка поняла: куда направится агитатор, туда бежит-торопится ее взгляд. Смотрела, слушала – любовалась. Слова слетали с губ Трудомира Николаевича округлыми стружками, тема отшлифовывалась обстоятельно, гладко, как Буратино… Вот только зря агитатор облачился в бордовый джемпер, опасаясь вечерней прохлады. Быкам же что бордовый, что рудый – все равно красная тряпка. Тем более Вахлаку, который свирепел даже при виде пионерского галстука. Быка держали на ферме в стойле, раз в день выводили гулять, а тут кто-то вольно выпустил. Сашка вовремя оглянулась на топот. Не растерялась, схватила агитатора под мышки и закинула на городьбу, а оттуда он сам выше на березу забрался. Покричал, пока Сашка на рогах у бугая моталась, лупя его в шею ногами, – помогите, помогите! Вахлак умудрился за юбку ее подцепить, когда она тоже на городьбу лезла. Чуть не умерла от стыда – юбка задралась, ляжки в трусах наголе! Случилось это, к счастью, близко от клуба, парни примчались мигом, навалились гуртом на бычину и сняли Сашку с рогов. Она – в кусты, спасители – в хохот, агитатор схоронился в ветках. Увели взмыкивающего Вахлака, и лишь тогда слез с березы. Подал руку, влажную от испуга: «Спасибо вам… Не поранились?..»
Не поранилась. Ссадины с синяками на спине остались, – Сашке с детства не привыкать, она такие мелочи ранами не считала. Больше думала, что опозорилась с трусами перед Трудомиром Николаевичем. Хорошо хоть не порвались у него на глазах. Спасибо нетеплому вечеру и материной юбке из крепкой диагонали, и что решила надеть ее со старым свитером. В сарафане-то плоше бы пришлось. Однако и тут не страшилась – не впервой лягаться с порозами[6]. Огромные хряки, быков не меньше, бывало, сбегали с летника, растелешатся на тракте и машин ничуть не боятся. Начнешь подымать хворостиной – норовят сбить с ног и кусаются не меньше собак. А Вахлак известный задира, но никого еще насмерть не проткнул…
В этот вечер растроганный Трудомир Николаевич необыкновенно разоткровенничался от благодарности. Рассказал о «закрытом» письме в обком со штампом «секретно» и о докладе Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС. Высокие партийные люди проголосовали за одобрение письма. Из-за него, из-за секретного послания ЦК, даже экзамен по истории в школах отменили.
Агитатор сам не понимал, зачем говорит это малосознательной девушке, но старался подбирать слова проще, у него был богатый опыт бесед с невежественными крестьянами. А Сашка сидела с сияющими глазами, с глуповатой улыбкой и почти ничего не слышала. Любовалась Трудомиром Николаевичем, какой же он красивый и как много знает.
– Человек взял на себя все руководство, – вещал он между тем. – Лично управлял всеми сферами советской деятельности, даже языкознанием. Мы были как крепостные в его частном владении. Теперь люди будто проснулись от тяжкого сна. С сельчан сняты налоги за каждого цыпленка, жизнь понемногу налаживается. Сталин…
– Сталин? – встрепенулась Сашка.
– Так я же о нем вам минут десять толкую, – удивился он с легким укором.
– При Сталине хорошо было, – сказала она. – Цены в магазине быстро падали.
Вспомнила, что и водка год от году дешевела. Отец-инвалид, приученный на фронте к «наркомовскому» спирту, от той подешевевшей водки и помер.
– Хороший был Сталин, но и Никита Сергеевич хороший. Паспорта нам скоро обещали выписать.
Агитатор был разочарован. Верно говорят, что какая бы тоталитарная власть над народом ни довлела, все она ему хороша. Нехороша, получается, только тем, кто сам хочет стать властью, эти и баламутят.
Глубоко вздохнув-выдохнув, он прогнал из головы крамольную дурь. Доужинали в молчании.
Храбрая, конечно, девушка, размышлял агитатор, – будто женщина из знаменитого некрасовского стиха, но дремучая. На редкость темная. И с чего вдруг на него нашла исповедальная проруха?..
А Сашка в это время думала, как его обольстить, да так ничего и не придумала. Никогда же охмурением мужиков не занималась. Трудомир Николаевич – мужчина культурный, женатый и по натуре интеллигент, не бабник. Не особо на нее смотрел и обращался все на «вы» с вежливыми «извините-спасибо-пожалуйста». Поэтому Сашка просто пришла к нему ночью и легла рядом в тоненькой батистовой сорочке. Вот тут-то с него вся культура и слетела, как осенью листья.
Собственные действия пошатнули Сашкино лучшее о себе мнение, но поступить иначе она уже не могла. Во-первых, поздно, вовторых, надо. Агитатор же, забыв обо всем, совершал свою мужскую работу добросовестно и со знанием дела. Сашка одновременно ругала и хвалила свое нахальство. От испачканной сорочки и самого акта ей стало стыдно, противно до тошноты. Побаливало в укромном месте. Тем не менее, досадуя на неопрятность человеческой природы, мылась Сашка под утро осторожно, чтобы ненароком не смыть агитаторское семя.
Больше она в агитпункт не ходила, и Трудомир Николаевич явственно охладел к ораторскому искусству. В кино перестал оставаться, спешил домой. Ночи близости казались Сашке священными, и попривыкла она к нелекторскому усердию постояльца. В каждой артерии и малой венке, каждой каплей крови ощущала льющиеся в нее семена. Ждала, когда закрепится в лоне одно, освоится, пустит корни, как ячменное зернышко, и взрастет дивным плодом – крохотной девочкой с нежным запахом и вспархивающими золотыми ресницами. И в одну прекрасную ночь зернышко закрепилось. Сашка сразу это поняла по впервые испытанной щемящей дрожи, унесшей ее тело высоко-высоко на небесных качелях. «Счастье», – подумала тогда Сашка.
К отъезду квартиранта она чисто-начисто отскоблила все наросшие к нему чувства. А он как раз созрел до объяснения.
Агитатор с сожалением покидал покладистую хозяйку. Здоровая, юная, она словно вернула ему часть собственной молодости. Готовила много и вкусно. Но супружеский долг, пулей засевший в сердце, требовал возвращения к варенным всмятку яйцам и протертым супам. Не мог Трудомир Николаевич морально идти против того, за что агитировал людей. Не мог нарушить великую советскую идею семейных ячеек, прочными сотами связывающих государство в единое, нерушимое целое. Сашка вкусно пахла подсолнечными семечками и свежим березовым веником, но законная супруга все же была фундаментом агитаторского существования. Она руководила крупным товароведческим ведомством, имела какой-то тайный побочный доход, – в детали Трудомир Николаевич из партийной брезгливости не вдавался и уважал в жене делового человека. В общем, возможности у нее были большие. Жена презирала других за то, что они видят яблоки по штуке в год в детском подарке, и Трудомир Николаевич слегка это презрение разделял, когда ел редкие фрукты чаще, чем остальные мясо. Да и мясо… тонко прокрученные котлетки на пару, полезные телячьи отбивные… Самое же главное – центральное отопление, водопровод и санузел. А здесь что? Примитивная изба с русской печкой. Деревня от слова «дыра». Дыревня…
Но был, чего перед совестью юлить и прятаться, был момент, когда чуть не отказался от благоустроенной жизни. Чуть не вздернулся, как влюбленный сопляк: «Бери меня, я – твой!» Застопорился, слава богу. Бог ни при чем вообще-то, просто фигура речи. Распрямившись, Трудомир Николаевич нашел в себе силы сказать:
– Извините, пожалуйста, Александра Ивановна, я при всем желании не могу у вас остаться.
В первый раз ее назвали полным именем-отчеством, Сашка аж вздрогнула. А он, оправдываясь, принялся объяснять, что все понимает, но видите ли… институт брака и семьи… пятнадцать лет жизни с женой… Пятнадцать лет – это целая эпоха общих интересов, поездок, друзей, эти годы не забыть, не выбросить… и тэ-дэ, тэ-пэ. Обычное красноречие, к собственному изумлению, едва ему не изменило, и голос мгновенно охрип.
Хозяйка сидела тихо, погруженная в себя. Вид у нее при этом был странный, словно не рвались навсегда отношения, а на какой-нибудь курорт человек ненадолго собрался. Или там на охоту-рыбалку. Трудомир Николаевич не без ужаса ожидал слез, крика, фальшивой гордости – что еще в таких случаях извлекают женщины из своего арсенала? Но Сашка ответила на агитаторскую тираду с обидно естественным безразличием:
– Езжайте, я же не прошу вас остаться.
Грех с виноватой души агитатора был как бы снят, но ответ действительно обидел. Даже потряс. Трудомир Николаевич сильно напрягся, готовясь достойно встретить некрасивые женские эмоции и красиво настоять на своем, поэтому колющую боль обиды почувствовал сердцем. Если б он в этот момент смотрел в лицо Сашки, он бы, наверное, совсем оскорбился в своих переживаниях, потому что лицо ее было ликующим. Но смотреть он не смел и не подозревал на ее лице такого упоенного выражения, а спрашивать, о чем думает женщина, не входило в его привычки. Трудомира Николаевича обуревали свои чувства, ее – свои, и особых новаций в Сашкином настроении, кроме некоторой заторможенности, он не заметил. Впрочем, и не понял бы тех разноцветных капроновых лент, кружев, оборок и сверкающего ячменного счастья, что радужно искрилось и реяло в ее умиротворенной душе.
– Что ж, прощайте, Александра Ивановна, – сказал агитатор. Фраза почему-то прозвучала вопросительно, и его внутренне перекосило от недовольства собой.
Отбывал он, раздираемый противоречивыми чувствами, недоумевая, как могла случиться с ним эта дурацкая смесь агитации и блуда. Заставлял мысли работать в унчижительном направлении. Сущая деревенщина, ни культуры, ни интеллекта. Тщетно пытался достучаться до любопытства к науке, к технической революции, все мимо ушей. Таких не образовать, сколько ни сей семян мудрого, доброго… «Молодая, ядреная, а лежала подо мной бревно бревном», – и как только мысли подчинились правильной линии, сердцу полегчало.
…Трудомир Николаевич пока не знал, что в душном ночном аромате болгарского розового масла – любимых жениных духов – его в скором времени начнут преследовать примитивные запахи семечек и березового веника. Что будет он в томительной неудовлетворенности ворочаться в постели рядом с супругой, а она с невинным самодовольством станет воспринимать его сердечные муки на свой счет.
Позже, вспоминая большое застенчивое тело Александры Ивановны, агитатор обвинял себя в том, что не сумел разбудить ее для настоящей любви. Иногда думал, с кем же эта Ева доедает свое недокушенное яблоко, и, дивясь налетавшему урагану ощущений, умирал от ревнивых всполохов. Ненадолго взыгрывала шальная мысль съездить к ней. Остаться, может быть… Но нет… нет! Центральное отопление и санузел держали крепко.
Несколько лет спустя Трудомир Николаевич все-таки побывал в памятном селе. Машинально проговаривая текст, шарил по толпе глазами в надежде высмотреть румяную молодую женщину со змеящейся по спине, круто плетеной косой. К концу лекции утвердился в мысли развестись с супругой. В молодые годы она не хотела рожать, а когда такое желание возникло, выяснилось, что зачать больше не в состоянии. Трудомир же Николаевич еще мог, еще полон был тяжелого меда для создания цельной ячейки в сотах советского общества. В идее продолжения рода он с Александрой Ивановной оказался тождествен, но не предполагал, что разошелся с ней в сроках.
После лекции агитатор отозвал председателя в сторону и, волнуясь, спросил, проживает ли по-прежнему в большом своем доме Александра Ивановна Кондратьева.
– Это еще кто? – озадачился председатель. – Кондратьевых у нас много… А-а! – хлопнул себя по лбу, – Сашка, что ли? Да, Сашка Трансформатор! Вы ж у ней одно лето квартировали! Так уехала она. Почти сразу, как вы тогда отчитались, уехала, а дом соседу продала.
– Почему… – пробормотал Трудомир Николаевич. – Почему Трансформатор?..
Председатель засмеялся.
– Ну так она ж недотрога была! Ребята сказывали, чуть щипни ее – могла со всей силы врезать. Одному нос сломала… Дикая. Потому и Трансформатор – «Не влезай, убьет!»
Гостинец для Терешковой
Сашка не думала о себе как о женщине фригидной, она и слова такого не знала. Его тогда вообще мало кто знал, в основном узкие специалисты, чей звездный час еще не наступил. Людям было не до секса, люди строили к 80-му году коммунизм, который в результате неустанного труда обещал удовлетворить каждого по потребностям.
Независимо от личного прошлого и общего будущего Сашка втиснула свои плотские желания так глубоко, что взойти обратно они не смогли бы, – так не может подняться к доброму хлебу скисшая опара в квашне. Вложенные природой в Сашку телесные позывы сконцентрировались в летнем месяце сожительства с постояльцем – городским агитатором, этого ей оказалось достаточно. Правда, было раз во сне, что кто-то большой и сильный (не агитатор) властно принялся мять ее ослабевшее от удовольствия тело, и Сашка взлетела на невидимых качелях вверх, вверх до звездного свиста в ушах. То же чудесное чувство полета она испытала однажды в «агитаторскую» ночь и считала это прекрасное мгновение знаком свыше – моментом зачатия. Теперь-то к чему, если уже беременная? Сашка сказала призрачному мужчине: «Ишь ты!», скинула его с кровати и пошла попить воды. Выпила во сне полчайника, а в туалет приспичило наяву. Проснувшись, Сашка рассердилась на себя за то, что ей хотелось досмотреть сон с мужчиной, и поклялась никогда, никогда… Клятвы она держала крепко. После искусительного наваждения ее женское естество оцепенело и спустя годы, никем больше не употребленное, засохло.
Как ударнице, Сашке одной из первых вручили «серпастый-молоткастый». Когда живот полез вперед, она продала дом соседям и уехала в районный центр. Сняла комнату у тихой старушки, устроилась уборщицей в библиотеку. Читала, читала, наверстывая упущенное, да недолго. Выяснилось, что тихая старушка пьет. Не без просыху, нет, но страдает запоями и скандалит в нетрезвые дни. Пьянства Сашка не выносила. Водка угробила отца, сосед по веселой лавочке жестоко гонял жену, а последнее Сашкино терпение иссякло из-за печального случая на свиноферме.
…В магазине продавался питьевой спирт, но деньги за трудодни выдавали редко и мало, остальное зерном, поэтому почти в каждом доме варили брагу на зерне, картошке и карамели. Подмешивали для крепости зверобой, жженым сахаром добивались прозрачности, кое-кто и самогон гнал. Так бы оно продолжалось, не поступи год назад в сельсовет распоряжение из райкома прекратить домашнее изготовление алкогольных напитков. Председатель учредил ежемесячные рейды. Комсомольская дружина во главе с участковым обшаривала в поисках зелья бани и сараи. Ездили на телеге с бочкой и чохом сливали в нее всю добычу, а чтобы не пропадала зря, хозяйственный председатель велел подмешивать продукт в корм хрякам на свиноферме. У них от такого «взбадривания» увеличивался аппетит. И как-то раз новая работница по ошибке налила сборной бурды в пищеблок маткам. Те недавно опоросились и, опьянев, передавили половину поросячьего поголовья. Пожрали…
Загоны подчистили, суматоха улеглась, когда Сашка пришла на смену и увидела в одном углу крохотную ножку. Бескровную белую ножку с просвечивающим копытцем, как обломок парафиновой свечи. Поскользнувшись на покатом стоке, Сашка угодила сапогом в ручеек с бражными остатками, и почудилось ей, что ядовитая жидкость, хищно чавкнув, разъела подошву сапога, проникла в ступню, в кровь, в самую душу. Внутренности тотчас же вывернулись наизнанку, Сашку стошнило над стоком бурно, до потемнения в глазах. С тех пор она, будто мусульманка какая-то, свинины не ела, а от хмельного запаха ее начинало мутить.
Пусть бы сгорело на земле все алкашное питье синим пламенем, прости, господи. И зачем только гонят и гонят преступный градус, превращая в отраву доброе зерно… Не послушала Сашка конфузливых уговоров старушки хозяйки. Надумала рвануть в город, чтобы затеряться в его толпах, благо паспорт есть, и деньги от продажи дома сохранились. Опасалась только ненароком встретить агитатора, но решила, что он ее не узнает в нынешнем положении, с пигментацией на щеках. Может, и не вспомнит. Оставила до времени сундук с вещами, завязала необходимое в мешок и отправилась в неизвестную жизнь.
Ни родных, ни близких в городе не было. На работу без прописки не брали. Издержав большую часть денег в гостинице, Сашка стала ночевать в автовокзале. Уборщицы за мытье зала ожидания разрешили ей спать в подсобке и делились бутербродами. Метельная зима обернулась против Сашки, но к холоду она привыкла с детства, и ребенок в ее теплоустойчивом теле не мерз. Обедала горячим супом в столовой, на ужин собирала подсохшие корки с раздачи, стыдясь косых взглядов. Агитатор не соврал, – хлеб в местах общественного питания действительно оказался бесплатным. Рассчитать и растянуть остатки денег еще на месяц-полтора было несложно, но вот в том, чтобы рассчитывать наперед жизнь, Сашка оказалась неумехой.
Ее в конце концов приметила пожилая буфетчица. Покормила однажды пирожками, разговорила, поохала, а на другой день отвела к своей подруге – заведующей детского сада. Та согласилась взять бездомную истопницей, пока учреждение еще не благоустроили. Поселила временно Сашку в кладовке под лестницей.
Здание немаленькое, требовалось обслужить пять печей – кухонную и четыре круглые, обитые железом «голландки». Сашка колола-заносила дрова, следила за топками, вечером закрывала вьюшки. Мыла полы в кухне и фойе так, что хоть носовым платком проведи по углам – ни пылинки. Заведующая хвалила. Если в садик заявлялась комиссия из гороно или контролеры из санэпидстанции, заполошно успевала сообщить о проверке. Сашка прятала вещи в мешок, мешок в бочку из-под капусты и на всякий случай уходила гулять по городу.
Дыша чистым морозным воздухом, говорила ребенку:
– Вот вырастешь, съездим в мое село, узнаешь, как зрелые хлеба пахнут. У пшеницы запах густой, особенно если солнце пригреет. Увидишь поля красивые. Они и зимой красивые, белые-белые, будто кто простыни постирал и сушить расстелил… – Она вздыхала. – Соскучилась я за деревней, да вернуться не к кому, и не судьба. Твое семя другое – культурное, городское, имя я тебе тоже не нашенское придумала… Ну, погодим пока с именем. Что сказать-то хочу: ты – косточка нежная, не крестьянская, а я что? А я – для тебя, мне лишь бы с тобой, потому что я твоя мама.
Сашка была уверена – дитя в ее животе все слышит и понимает.
В родильный дом она прибежала сама. Мчалась в схватках, пуча глаза и задыхаясь, как переевшая опасного кипрея кобыла. Осмотрели – и сразу на кушетку.
– Такая лошадь здоровая и тужиться не умеет, – ворчала акушерка в кобылью тему, веля санитаркам давить на живот скрученной в жгут простыней. Стесняясь обделаться, Сашка тужилась мало, физиологический процесс на людях угнетал ее сильнее, чем боль. Что – боль? Она – терпение, а терпение все равно чем-нибудь заканчивается. Чуть не погубила свою девочку, у которой уже началась асфиксия.
С перевязанным розовой лентой свертком в руках, словно просто в магазин зашла и вышла с покупкой, Сашка выписалась в никуда. Побродила, наливаясь молочным жаром, и снова потопала в садик, в успевшую захламиться техническим барахлом каморку.
Заведующая и сочувствовала, и ругала себя за жалость. Нелегальное присутствие раздражало воспитателей. Эта младенческая колоратура, эти сохнущие за печами пеленки… На второй месяц сотрудницы не выдержали, и заведующая, вздыхая, поставила вопрос о Сашке на профсоюзном собрании.
Чего там ставить? Негодующий кворум загалдел: гнать надо, у нас не собес, не ночлежка, родители узнают – жалобу настрочат, и прощай… Заведующая дрогнула, слишком хорошо понимая, на кого тогда перекинется злободневный «прощай».
За выдворение Сашки из сада проголосовали все, кроме двоих воздержавшихся. Позвали ее, прислонилась к стене у двери. Женщины воинственно уставились на виновницу возмущения, на ребенка, а Лилечка повернула к ним личико, улыбнулась и звонко взгулила. Впервые. Собрание растерялось, стихло, момент был решающий, и заведующая почуяла слабину:
– С этим голосом как, будем засчитывать?
Воспитательницы совсем смутились, опустили глаза. Послышался чей-то размягченный вздох, и как прорвало – по-другому раскудахтались: куда их, если некуда… куда?.. однако не в холод же, на улицу… хороший хозяин даже собаку… что мы – не люди?!
И тут закряхтел, привлекая к себе внимание, поднялся со стула в углу единственный мужчина – сторож летней детсадовской дачи. За все время он не сказал ни слова, но воздержался в голосовании вместе с заведующей. Правда, назвать мужчиной белоголового, как копна брошенного в снегу сена, старика можно было с большой натяжкой.
– Вот чё, – сказал он задумчиво. – Спина у меня болит, – и замолчал. Такая манера разговаривать у человека, неспешная. Собрание ждало продолжения и тоже молчало, поерзывая на стульях. Он постоял, еще покряхтел, подумал и расчесал бороду пальцами. – Получается вот чё… Пора мне, стало быть, на покой, к внукам.
Женщины поняли, заволновались:
– Сможет одна-то, с грудничком?
– Далеко, вокруг только дачи…
– До автобусной остановки полкилометра!
– Смогу, – кивнула Сашка. – Я и в деревне одна жила.
– А ребенка кто… аист принес?
Заведующая шикнула на своих – совесть имейте! Но Сашка ответила спокойно и правдиво:
– Агитатора ко мне подселили. Красивый был, я и захотела от него.
Воспитательницы поняли, повздыхали. Как женщинам не понять любовь. Единодушным голосованием определили Сашку в сторожи дачи.
Домик был крохотный, вмещал впритык печь, стол и кровать. Сашка купила санки, ездила с Лилечкой на автобусе получать зарплату и в магазин. В начале лета протапливала отсыревшие корпуса, подготавливала к житью и садила картошку за усадьбой. Брала на семя сорт лорх – клубни белые, крупные, круглые, как на подбор. Вскапывала сбоку грядки с огородной мелочью. На даче становилось шумно, весело, к осени опять тихо. Но нисколько не скучно. Лилечка заговорила рано, сразу вопросами.
– Смотри, доча, снег идет.
– Почему – идет? Где у него ножки?
– Про то, что движется, говорят «идет». Или плывет, если по реке.
– А птица летит?
– Летит. Про снег тоже можно так сказать. Падает на землю, ложится.
– Спать ложится?..
Снег падал, шел, летел, плыл по воздушной реке. К Новому году мама с дочкой отливали игрушки из подкрашенного льда в формочках для песочницы. Увешивали звездами и шариками сосну во дворе. Весной в хлынувшем солнце, синеве, птичьем щебете запускали кораблики на ближнем озере.
К пяти годам Лилечка научилась читать. Сашка выписала до востребования на почтамт журнал «Веселые картинки». Не стало ничего милее для нее, чем слушать Лилечкино чтение вслух. Любовалась, замирая от благоговейного трепета, – русый мой стебелек, семя нежное, интеллигентское, цветок белый… Господи, матерь Божия… За что мне такое счастье?!
Проблемы начались, когда дочь пошла в первый класс. Сашка на санках отвозила Лилечку к остановке, укутывая поверх пальто в телогрейку, из школы забирала сама с той же телогрейкой и санками. Анемичная девочка часто хворала, дважды лежала в больнице. Врачи неделями не могли сбить температуру. Сашка боялась обезвоживания, страшных осложнений, мысленно нападала на врачей с упреками, – случись что… о чем невозможно подумать, разметала бы к чертям всех… и мысленно же благодарила, когда Лилечку выписывали в удовлетворительном состоянии.
В ту трудную зиму и влетела в жизнь маленькой семьи космонавтка Валентина Терешкова. Случилось это орбитальное действо не во сне Сашки, но, конечно, и не перед глазами въяве. Просто в оставленном кем-то на даче журнале «Крестьянка» обнаружился адрес Комитета советских женщин, а председателем его оказалась Валентина Владимировна.
Сашка ночь не спала. Думала, думала… Под утро написала в Комитет письмо с обращением к знаменитой женщине. Обыкновенное письмо, как если бы открыла подруге мечту свою номер два – о комнате в общежитии. О мечте номер один – укреплении слабого здоровья Лилечки – не упомянула, хотя одно здесь вытекало из другого: жили бы в теплой городской комнате близко от школы, не мерзла бы дочка, и было бы у нее и здоровье.
Не особо Сашка надеялась на ответ. Занятой Валентина Владимировна человек, ей в работе, поди, и чаю попить некогда. Но вдруг прикатила на дачу детсадовская дворничиха с письмом на адрес детского сада «Кондратьевой Александре Ивановне». Сашка, не веря, распечатала длинный конверт. Прочла отпечатанное на бланке горсоветовское приглашение: такого-то числа в такое-то время ждем вас…
В горсовете ее не то чтобы ругали, но говорили и допрашивали строго: кто написать надоумил? сама сочиняла-жаловалась или под диктовку? Сашка перепугалась – никто… сама… не жаловалась…
А потом!.. Потом чуть в обморок не рухнула: вручили ей ордер и ключи от квартиры! От двухкомнатной квартиры в благоустроенном каменном доме – таким витиеватым образом знаменитая на весь мир покорительница Вселенной стала для Сашки поистине космическим другом, облеченным властью исполнять мечты.
… Впоследствии заведующая, имевшая связи в начальстве, рассказала, что из-за Сашки в горисполкоме поднялся настоящий сыр-бор. Вернее, из-за послания, поступившего из Москвы, с подписью В. В. Терешковой, космонавта и председателя Комитета советских женщин. Непосредственные участники переполоха решили сперва поискать дерзкой мамаше комнату в каком-нибудь ведомственном общежитии. Сашка, разумеется, и тогда бы рада была до небес, ведь мечта ее номер два не смела двинуться шире комнаты. Но в послании горсовету говорилось именно о квартире – «достойном жилье, квартире для советской труженицы». Комитет мог предпринять проверку задания, и себе выходило дороже. Пришлось экстренно отодвинуть на одного человека квартирную очередь – ладно… не в первый раз… не в последний.
Счастливая Сашка отправила в Комитет благодарственную открытку, а в душе свербило: еще бы что-то послать, нужное, существенное… Не придумала что.
Сидящие на скамейке у подъезда старухи, словно тоже перенесенные сюда космическим ветром из дворов ветхих бараков, обсмаковали невзрачный Сашкин переезд. Прощупали вострыми глазами несколько баулов, дощатый стол, два табурета и два матраца – большой и маленький. Зашептались за спиной:
– Двухкомнатную квартиру дали одиночке… Разве таким двухкомнатные дают?
– Знать, чем-то горсоветского председателя подмаслила…
– Эта-то?! Ни рожи ни кожи…
Сашка заполыхала щеками. Хотелось повернуться и крикнуть: «Почему вы такие злобные? Почему?! Мечта сбылась у меня, а вы!..» Сделала вид, что не услышала нарочно громкого шепота.
Перезнакомившись со старухами позже, Сашка поняла, что вовсе они не злобные. Им на первых порах просто разговаривать было не о чем. Сами еще приглядывались друг к другу, а под сурдинку обсуждали недостатки и пожитки новоселов.
Как завороженная бродила Сашка из прихожей в кухню со встроенными полками и белой газовой плитой, из зала в детскую, прикасалась к теплым батареям, к никелированным кранам и эмалевой ванне. Чудо что за квартира, космическая квартира – мечта номер один большей части неблагоустроенной и трети бездомной страны.
Приученная на всем экономить, удивлялась послушной воде. Зачем такая трата? Сашка любила воду, знала восторг взлета на ребристых гребнях реки, но в привычной своей неприхотливости умела помыться вся и в шаечке, начиная с густых волос, заканчивая большими ступнями. Жаль было хорошей продезинфицированной воды, льющейся из всех кранов города. Потом эта использованная масса с химией, мылом, нательной грязью, всякой другой пакостью попадает обратно в реку. Какой-то неправильный круговорот…
Ходить по-большому в квартирном туалете Сашка долго не могла. Само наличие, извините, сральника в пяти шагах от обеденного стола представлялось ей чем-то странным, вроде звездолета в дикой природе, пусть этот сральник и чистейшей голубизны. Кому рассказать – не поверят, чуть психическая боязнь не образовалась у Сашки на почве домашней дефекации. Пока не привыкла, справляла крупную нужду в садике, где все было по-человечески: дети – по горшкам, взрослые – в уборную на улице.
Сашку приняли в нянечки. Коллектив сада в полном составе пришел к ней на новоселье со своими стульями. Заведующая сказала прочувствованную речь о том, как «…дружеская рука великой Терешковой протянулась к нашей Александре Ивановне сквозь мировые пространства…» и так далее. Сказала вообще о дружбе, взаимовыручке и сострадании между советскими людьми. Добрая заведующая была благодарна воспитателям за то, что они в свое время не выдали тайну убежища бесприютной мамочки в государственном учреждении. Проговорив следующие поздравления разной степени искренности, коллектив вручил Сашке люстру с четырьмя матовыми плафонами и… проигрыватель! Последнему она особенно обрадовалась, он значился в списке ее вещевых мечтаний – давно присматривалась в отделе «Мелодия» книжного магазина к пластинкам со сказками для Лилечки.
Все на работе с того вечера стали называть Сашку Александрой Ивановной, как агитатор когда-то. Потом некоторые незаметно упростили имя-отчество в Санну Ванну, что не очень ей нравилось, и соседи так звали, только для деревенских осталась она Сашкой по прозвищу Трансформатор. Это прозвище с намеком на опасное для жизни влезание в трансформаторную будку дал Сашке приставучий шофер, которому она двинула по носу.
Александра Ивановна съездила в районный центр за сундуком. Будучи Сашкой, она несколько месяцев до переезда в город снимала в поселке угол у пьющей пенсионерки. Старушка за девять лет мало изменилась, так же тихо пила и громко скандалила, но сундук бывшей жилички сберегла в полной целости. Кое-как довезла его Александра Ивановна домой на попутном грузовике и собственными силами доперла до своего четвертого этажа.
Лилечке любопытно было узнать, чем заполнена старинная укладка с фигурной скважинкой замка и обитыми резным железом торцами. Вечером сели рядом, Александра Ивановна по одной доставала дорогие сердцу вещи, вспоминала и рассказывала. Тихонько плакала…
Из утвари там находились, один в другом, три древних туеса с клеймами, шитые лучшей «берестяной» искусницей – прабабушкой Сашки. Основательница рода Кондратьевых, она дождалась рождения первенца у младшего внука Ивана и преставилась с легкой душой. Баланс с противоположной стороны сундука поддерживал тульский, в бляхах-медалях, дедовский самовар, теперь генерал в отставке, годный разве что кухню украсить. Ну и как память…
Два альбома с фотографиями – семейный кондратьевский и материной родни – Александра Ивановна отложила, тут просмотр потребует отдельного времени. Развернула камчатый платок – выпала размахренная пачка военных писем.
– Их тоже как-нибудь после почитаем, Лилечка…
О платке ничего не сказала. Эту узорчатую красоту отец подарил матери в пору страсти и умыкания ее, чужой невесты, из-под носа у хорошего человека, тезки Ивана Чичерина. В жестяной коробке из-под чая лежали отцовские и чичеринские боевые награды. Мать сблизилась с несостоявшимся женихом после смерти отца… История не для детских ушей.
Из кипы пожелтелых простынь с подзорами Александра Ивановна извлекла портрет старшего брата и выцветший рисунок под стеклом в деревянной рамке. Синие цветы в вазе Ванечка школьником нарисовал в подарок матери. Картинка была яркой при ее жизни, а ушла мать – словно увяли васильки…
– Мой брат Ванечка, я тебе о нем говорила. Погиб в Польше.
– Похож на тебя.
– Нисколько не похож. Красивый был.
– Ты тоже красивая.
– Да ну.
Александра Ивановна вынула последнюю вещь, закутанную в любимую шерстяную шаль. Вот шаль нисколько не потеряла яркости, по-прежнему алы цветы и сочен цвет зелени. Только от нафталина простирнуть…
– А это что? – спросила Лилечка.
– Икона.
Дочь всмотрелась в темную от времени деревянную досточку.
– Такая… хорошая. Мама с мальчиком.
– Богородица.
– Жаль, нельзя икону на стену повесить.
– Жаль, – согласилась Александра Ивановна.
Туесы она распределила по встроенным полкам, самовар закрасовался на подоконнике. Сосед помог пробуравить стену в зале для Ванечкиного портрета и рисунка. Александра Ивановна поставила под ними сундук, накрыла матрацем, одеялом, на сундуке и спала. Ноги не помещались, приходилось сворачиваться калачиком, и так потом привыкла к этой позе, что не могла иначе уснуть. А Лилечке с сэкономленных зарплат купила раскладное кресло.
С доброй руки заведующей в комнатах появились списанные детсадовские вещи. Александра Ивановна отремонтировала шкафчики и стулья, выкрасила их глянцевой эмалью. Плотная, габаритная, как женщина кисти художника Дейнеки, ходила среди лилипутского «гарнитура» очень довольная собой. Ну и пусть она, сундук и тульский «генерал» выглядели некомплектом ко всему остальному, включая хрупкую Лилечку, кого это смущало? Не сочетаясь внешне, люди и вещи в квартире радостно дополняли друг друга, а со временем миниатюрная мебель, сменившись высокой, была роздана знакомым по дачам.
Летом Александра Ивановна подменилась с другой нянечкой на три дня и пустилась с Лилечкой до райцентра на автобусе, затем в деревню где пешком, где на телегах с сенокосчиками. Шла по деревне и улиц не узнавала. Сколько новых изб! Клуб двухэтажный! Лилечка впервые увидела близко стадо, прижалась к матери: «Коровы, как большие собаки…» Огорчилась Александра Ивановна – совсем городской ребенок. Она-то в Лилечкином возрасте доила коров и кормила, телятники на ферме чистила, носила зимой воду потемну…
Вот и дом родной. В нем теперь жил женатый сын бывших соседей. Глаза не поверили: в палисаднике, как в детстве, сплетясь ветками, поднимались к небу две тоненькие березки, и солнечные пятна проливались в их тенях на песчаную тропку к калитке, словно капли густого меда.
«Тетка Катерина велела березы посадить», – благодарно подумала Александра Ивановна, вспомнив, как соседка кручинилась, когда мать ни с того ни с сего срубила деревья.
Обняла тетку, приковылявшую навстречу на больных ногах, и почувствовала себя прежней Сашкой. Катерина расплакалась на плече, по плечо и была ей теперь, – «вниз начала расти», как говорят о стариках. Дядя Кеша чистил во дворе сети и еле признал Сашку в молодой женщине с высокой модной прической.
– Ты в гости или как?
– В гости, по землянику.
– Ага, ее нынче навалом, хоть жопой ешь! – радостно прокричал дядя Кеша, глуховатый еще с войны, и осекся, увидев Лилечку.
Хозяева захлопотали. Дядька спустился в подпол, заметал на стол грибы-варенья, нашинкал в салат огурцов с помидорами. Катерина принесла из летней кухни блюдо с утрешними карасями заморить червячка людям с дороги, затеяла на вечер булки и сладкий пирог. Два часа сидели за чаем. Счастливая Сашкиным приездом, тетка всю деревню с другого краю перебрала, выкладывая сплетни застарелые и новые. Пригорюнилась, что сын попивает, косясь на мужа:
– Есть в кого… Сам-то небось завязал глыкать, как сердце ослабло…
– Ага, ага, – кивал дядя Кеша, мало что слыша, и ласково посматривал на Лилечку. Сашку он в детстве любил, Лилечка же привела его в восторг умными вопросами и нездешним видом – нежная, беленькая, как сахар-рафинад…
Пошли вдвоем кормить телят болтушкой. Углядев хозяина с ведрами, смышленые телята поскакали к нему, а Лилечка – от них. До дома далековато, побежала к уборной и заперла дверь на крючок.
– Ты чего? – испугался дядя Кеша. Подумал, что понос девчоночку прохватил от непривычной пищи.
– Отец ее тоже коров боялся, – грустно сказала Александра Ивановна.
Проницательная тетка Катерина, смекнув, хлопнула себя ладонью по щеке:
– О-ой, Сашка… Агитатор, что ли?..
Разговаривали до полночи. Гостья Катерине доверилась, рассказала и о прекрасном человеке заведующей, и о космической квартире, и про всех добрых людей. Пожаловалась:
– В душе будто долг остался. Так хочется порадовать чем-нибудь Валентину Владимировну, а чем – не знаю.
– А ты ей варенья пошли, – посоветовала тетка Катерина. – Завтра соберем земляники, вот свари и пошли. У них-то в Кремле навряд ли свежее дают.
Утром прихватили булки, бутылки с забеленным чаем – и в тайгу. Душистой ягоды впрямь высыпало невиданно – красным-красно на полянах.
К городу спелая земляника опала в эмалированном ведре, обводнилась, но варенья все равно вышло много – трехлитровая банка Валентине Владимировне и две по литру Лилечке на зиму.
А на почтамте брать банку отказались. Не по правилам отправлять в стекле.
Удрученная отошла Александра Ивановна от окошка. Впихнула гостинец обратно в сумку, и кто-то дернул за рукав:
– Вас там приемщица зовет!
– Не расстраивайтесь, – сказала женщина в окошке. – Можно в грелке послать. Солдатские матери в грелках все жидкое в армию посылают, даже топленое масло.
Купленную в аптеке медицинскую грелку Александра Ивановна выстирала с хозяйственным мылом до визжащего скрипа, ополоснула в нескольких водах и под конец выдержала в кипятке. Все три литра поместились в резиновой таре. Пробка завинтилась так, что без помощи ножа не откроешь. В письме к посылке объяснялось, почему гостинец не в банке.
«…хитрость с грелкой подсказала мне хорошая приемщица на почте. Не побрезговайте дорогая Валентина Владимировна моим вареньем. Поклон Вам до самой земли за квартиру благо устроеную, до сих пор в нашу радость не вериться. Желаю Вам тоже больших радостей в жизни обчественой и личной и крепкого здоровья».
В этот раз Александру Ивановну в горсовет не вызвали, и по адресу, собственному и законному, она ответа не дождалась. Наверное, совсем недосуг было Терешковой тратить драгоценное время на незначительные отписки. Но живо представлялось Александре Ивановне, как государственная женщина, отодвинув деловые письма, устало улыбается своим помощникам: «Не урвать ли нам, ребята, пять минут времечка на чай с земляничным вареньем?» От живописной этой картины становилось так тепло и приятно, будто сама Александра Ивановна видела и слышала Валентину Владимировну. Спасибо тетке Катерине – надоумила, и понятливой приемщице спасибо.
И мечтала уже Александра Ивановна о будущем лете. Вот поедут они с Лилечкой в деревню на весь отпуск, привыкнет дочь к коровам и научится доить… Снова соберут землянику и отправят варенье в Москву… А если зарядят дожди и ягода не уродится, пошлют Валентине Владимировне соленые грузди в провощенной бумаге. Для лучшей сохранности можно еще пропитать бумагу комбижиром. Самолеты быстро летают, не должны грузди попортиться, и человек на почтамте теперь есть знакомый – возьмет…
Ты все знаешь
В шестом классе близорукой Лилечке выписали очки. Обескураженная Александра Ивановна, у которой зрение оказалось стопроцентным, заказала очки в мелкой пластмассовой оправе, чтобы шли к гладкокожему, нежному лицу дочери. Они и шли, будто сроду сидели на ее аккуратном носу. Александра Ивановна тихонько вздыхала, глядя на Лилечку. Во всем, что не касалось учебы, та была неухватистой и, честно сказать, какой-то блаженной. От матери унаследовала только русый, почти белый с легкой золотистостью, цвет волос.
Кого корить? Такой был социальный заказ. Ведь сама Александра Ивановна в бытность свою деревенской девчонкой Сашкой захотела ребенка от интеллигентного очкарика, тонкого внешне и внутри.
По жизни умненькая Лилечка шагала весело и бесхитростно. Мечты в ее светлой голове роились тоже светлые – о прекрасных межгалактических городах, персональных летающих аппаратах и мире во всем мире. А непосредственно окружающий мир словно специально для Лилечки был создан, все в нем чудилось ей сквозь очки изумрудно-ласковым, как на курорте или в сказке, и ничего дурного она не видела, подрастая в чистоте мыслей и квартиры, надраенной матерью до блеска. Так о Лилечке думала по крайней мере Александра Ивановна и довольна этим была, и тревожилась о том, что мир может нечестно с девочкой поступить. А дочь посмеивалась над Александрой Ивановной, гоняющейся с тапкой и дустом за проникшим от соседей тараканом: «Ты ему, мама, наверное, кажешься тиранозавром!» Долго объясняла по книжке, кто он такой, этот тирано… и другие завры, и археоптериксы, и прочие неандертальцы с кроманьонцами.
Лилечка много читала, любила наполненный мудреными словами и книжной пылью воздух библиотеки. Окончив библиотечный институт, стала работать там, где ей нравилось, – читальный зал, тихое место, коллектив женский, как в детском саду. Специфика труда не располагала к созданию семьи. Люди же приходят в библиотеку романы читать, а не крутить. Александра Ивановна опасалась, что дочь останется в старых девах. Одновременно страшилась явления в дом незнакомца с предложением Лилечке руки и сердца. Но должно же это случиться? По возрасту Лилечка далеко опередила короткий марьяжный период матери. Соседка Лизавета научила Александру Ивановну раскладывать карты. Гадание показывало червонного короля, и хорошо, ведь как ни тяжка была Александре Ивановне мысль отдать лелеемый цветок чужому человеку, отдала бы, не колеблясь. Вручила бы, закрыв глаза, и убежала, чтоб не пытаться выдернуть Лилечку обратно с рукоприкладством.
Пока дочь порхала на работу и домой в коротких юбках и узких брючках, ни разу к ужину не задержавшись, Александра Ивановна от всей материнской души мечтала о серьезном, спокойном и скромном женихе для Лилечки. Пусть будет радиотехник, например, или инженер, только с условием, что без очков. Одного очкарика в семье достаточно. Не вытерпела, сказала о пожелании дочери.
– Серьезный, спокойный, скромный радиотехник? – засмеялась Лилечка. – Мама, это же СССР!
– Что – СССР? – удивилась Александра Ивановна.
– Аббревиатура, – дочь прямо заливалась, – серьезный… ха-ха-ха! Спокойный! Скром… Где ты таких радиотехников видела?
Александра Ивановна обиделась.
– А тебе, конечно, несерьезные нравятся…
– Мам, ну не сердись. Я же с таким паинькой от скуки умру… Зачем мне муж, мамочка? Нам с тобой без них, скромных, вдвоем хорошо.
Пугаясь, что дочь заведет старый разговор о своем отце – кто он, где, с кем, Александра Ивановна смолкла.
…Уму непостижимо, каким образом попал в простодушное сознание Лилечки вирус любви. Да к кому! Не такого, не этого желала мать жениха. Мысль же о Генке Петрове, соседе из второго подъезда, была не от души, а с душком. Огромная разница, причем даже не мысль, нет, – устойчивое мнение, как о неисправимом балбесе. Сформировалось оно где-то лет пятнадцать назад, когда юный Генка торчал во дворе вечерами в компании длинноволосых стиляг, а ночью свистел у Лилечки под окном. И вот этот соловей-разбойник, взрослый уже мужик, но все равно явный шалопут, встал у двери перед Александрой Ивановной, как сыть перед травой, с большущим арбузом в руках – люби и жалуй…
Лилечка защебетала:
– Мама, это Геннадий Афанасьевич, мой друг. Гена, это моя мама. – Поцеловала мать в хмурое лицо, подхватила арбуз и побежала накрывать на стол.
В упор не видя протянутой для знакомства ладони, Александра Ивановна мрачно буркнула:
– Знаю вас давно, и вы меня знаете.
Горючим жаром исходила душа. Неужто Генка Петров и есть червонный король?! Приперся, нежданный гость хуже татаро-монгольского ига, угощать свистуна еще…
За столом он вел себя как СССР. В смысле, как скромный радиотехник. Но был, разумеется, не радиотехником, куда ему. Прояснил вопрос:
– Работаю в милиции.
Значит, все-таки изменился за столько-то лет. Александре Ивановне немного полегчало, а едва улегся душевный жар, вся похолодела от Лилечкиных слов:
– Геннадий Афанасьевич – начальник колонии. Раз в месяц я рассказываю заключенным о книжных новинках и привожу им заказанные книги.
Закравшийся в сердце холод страха неумолимо приближал Александру Ивановну к всемирному оледенению.
– А директриса?
– Что директриса?
– Отпускает?
– Она меня и отправила. Это важная галочка в плане библиотечных мероприятий – наставлять людей на путь исправления, – усмехнулась Лилечка.
– Но это же тюрьма, доча, – еле проговорила Александра Ивановна замороженными губами. – Там преступники, зэки… убийцы…
– Не волнуйся так, мама! Геннадий Афанасьевич сам возит меня в колонию, и конвой вокруг, а среди узников, как ни странно, встречаются вполне порядочные люди. Правда, гражданин начальник? – Лилечка с непонятным прищуром взглянула на Генку Петрова.
– Правда, – подтвердил он и сосредоточился на котлете.
После арбузного десерта младшая хозяйка с зэковским гражданином перешли в комнату, о чем-то беседуя. Старшая помыла посуду и заново выскоблила абсолютно чистую духовку. Привычные движения утешали Александру Ивановну и не давали ей прислушиваться к тому, что делается в бывшей детской, а то сильно хотелось.
Уходя, Генка Петров поклонился, склонив голову, и даже как будто щелкнул каблуками ботинок:
– До свидания, Александра Ивановна.
– Счастливо, – выдавила она кривоватую улыбку («до свидания» – это, получается, опять притащится).
Проводив гостя, дочь села рядом, легкая, почти воздушная, – старый диван и не скрипнул. «Худышка, – привычно вздохнула Александра Ивановна. – А когда я сажусь, диван скрипит, и вмятина остается от задницы, как на взрытой грядке».
– Мам, ты опять сердишься… да? Гена не понравился?
– Кто он мне, чтоб нравиться. Не детей же с им крестить, – затаила дыхание.
– Ох, мама, – тихо засмеялась Лилечка. – Гена просто мой друг, я не собираюсь за него замуж.
– Ага. Видали мы таких друзей. Девушки с мужчинами не дружат.
– Почему?
– Потому что имям от девушек не дружба нужна.
– Не «имям», а им, – поморщилась дочь. – В твоих словах, мамочка, постоянно прорывается деревенский диалект.
– Что им, что имям – один хрен, и друг твой шалопут, – проворчала Александра Ивановна.
Ночью проворочалась без сна. Обидно было за Лилечку – куда хорошие парни смотрят? Красавица, умница, одевается модно, распустит волосы – белое золото льется по плечам. И человек она – золото, вокруг нее воздух и свет. Вот только здоровье подкачало… Все на свете цветы нежные. Хрупкие…
Вообще-то дочь была по-своему стойкой и с детства не плакала от боли. Бывало, упадет, маленькая, ссадит коленку и не хнычет, даже не куксится. А от чтения – плакала. То лев в книжке из-за собачки умрет, то, позже читала, негритянский раб, – плачет Лилечка.
И тут как-то зашла Александра Ивановна к ней в комнату – лежит дочь с книгой и ревет. Очки запотели, нос красный… Как можно страдать над придуманными историями?
– Герои в романах разные, есть редкие, самоотверженные, я о таком сейчас читаю, – всхлипнула Лилечка, – и подлые есть… Книги, мама, как люди, у каждой свое содержание – судьба, свой стиль – характер. Если разобраться, люди тоже похожи на книги. Один человек интересный, открытый и «читается» увлекательно, а второй не хочет, чтобы его прочли, хотя не менее интересен. Среди людей встречаются очень любопытные экземпляры, и жаль, что некоторые остаются непрочитанными.
Александра Ивановна поджала губы. «Должно быть, и зэкам так говорит. Читают они, как же, держи карман и караул кричи». Вслух ничего не сказала, а Лилечка вдруг вскочила и, ящеркой скользнув мимо матери, хлопнула дверью туалета. Донеслись звуки рвоты.
– Что с тобой? – встревожилась Александра Ивановна. – Опять собачьих чебуреков наелась?
Библиотекари скидывались на обед и брали всякую непроверенную снедь в киоске поблизости, где продавали кавказцы. Соседка Лизавета слышала и Александре Ивановне передала, что все мясное «хачики» делают из бродячих собак.
Лилечка выбежала с ладонью у рта, не взглянув на мать, и пронеслась в ванную. Включила кран… Александра Ивановна ждала в коридоре. Дочь показалась наконец с посвежевшим умытым лицом и совершенно буднично известила:
– Токсикоз у меня, мама.
Александра Ивановна машинально прошла на деревянных ногах в кухню и опустилась в любимое кресло у окна. Лишь тогда окаменела. Сидящая статуя на фоне синего вечера, скульптор Столбняк.






