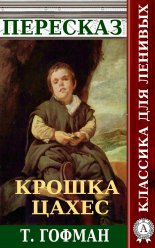Жена авиатора Бенджамин Мелани

– О. – Я отпустила рычаг после того, как он взялся за него.
Тоном, не допускающим возражений, Чарльз велел мне взять подушки с двух задних сидений и обложиться ими, что я и сделала.
– Я посажу нас вон там, – он указал на поле с более длинной взлетно-посадочной полосой, чем то, с которого мы взлетели, – нам нужно дополнительное пространство.
– Хорошо.
Я была спокойна. Он тоже. Воздух внутри самолета внезапно обрел вес, вдавливая меня в сиденье, и наши голоса зазвучали глухо у меня в ушах. Мне все еще не было страшно. Я доверяла Чарльзу Линдбергу, мужчине, который покорил небо, и не сомневалась, что он сможет вернуть меня обратно на землю в целости и сохранности.
Мы сделали над взлетной полосой несколько кругов, спускаясь все ниже и ниже. Несколько человек выбежали из соседнего здания, чтобы посмотреть на нас. Они махали нам, и я помахала в ответ.
– Они делают нам знаки, чтобы мы не приземлялись, – на лице Чарльза застыла жесткая усмешка, – заметили, что у нас нет колеса.
– Их ожидает интересное зрелище! – Я продолжала махать фигурам, которые бешено прыгали внизу.
– Соберитесь, и, как только мы остановимся, немедленно расстегните ремень, и выскакивайте из самолета. Если дверь не будет поддаваться, выбивайте окно и вылезайте наружу. Потом бегите как можно дальше от самолета. Можете это сделать для меня?
Его последние слова лишили меня спокойствия. Они проникли куда-то внутрь, под ребра, и я кивнула, крепче ухватившись за подлокотники. Земля стремительно приближалась, и я инстинктивно вдавила голову в плечи, чувствуя, но не видя, как самолет коснулся земли. Какое-то мгновение мне казалось, что все прошло успешно, но потом я услышала, как что-то треснуло внизу под нами.
– Колесо, – проговорила я, а может, Чарльз. Это было единственное слово, которое произнес один из нас или мы оба.
А потом все перевернулось вверх ногами.
Когда самолет остановился, я все еще находилась вверх тормашками, потом перевернулась обратно. Я услышала треск и звук рвущейся материи. Вспомнив его слова, я протиснулась в иллюминатор, вылезла наружу, спрыгнула вниз и побежала, как велел Чарльз, прочь от самолета, который лежал вверх колесами, и пропеллер все еще вращался, как детский флюгер.
Наконец я остановилась, и мой бок пронзила боль. Но я знала, что это только потому, что я запыхалась. Мы сделали это! Я сделала то, о чем он меня попросил, и со мной все в порядке, с ним все в порядке…
Но так ли это? Где он? В панике я оглянулась вокруг. Поблизости были люди – те самые, которым я только что махала так беспечно, и они спешили ко мне. У фермеров были вилы, совсем как в кино, но Чарльза я нигде не видела. Я позвала его по имени, не услышала ответа и побежала обратно к самолету, но вдруг почувствовала, что кто-то сжал мою руку и потянул назад. Я оглянулась – это был он. Растрепанный, на щеке кровоточащая царапина и широкая улыбка на лице. Глупо улыбаясь, мы смотрели друг на друга, пока нас не окружила толпа. Люди толкали нас, спрашивали, все ли с нами в порядке. Чарльз вздрогнул и отошел от меня. Только теперь я заметила, что он поддерживал правой рукой свой левый локоть.
– Вы ранены? – спросила я, испытывая желание дотронуться до него, но непонятная сила не давала мне ступить ни шагу.
– Думаю, я немного ушибся, – на лице появилась гримаса боли, – но это пустяк.
– Вам надо немедленно ехать к доктору, – начала я, но была прервана криками: «Это он! Чарльз Линдберг собственной персоной! Счастливчик Линди!»
И вскоре большая толпа людей устремилась к нам. Откуда они взялись, я не знала. Все хотели потрогать его, потрясти, спросить, все ли с ним в порядке. Несколько человек направились к самолету, но Чарльз резким, грубым голосом крикнул им, чтобы они не приближались. Кто-то заметил и меня и стал спрашивать мое имя.
– Мисс Морроу, – твердила я в оцепенении. У меня не было ни царапины, одежда не была порвана – и вскоре они снова обратились к Чарльзу, который пытался организовать несколько человек, чтобы помочь перевернуть самолет.
– Как мы доберемся домой? – крикнула я сквозь шум и суматоху, ухватив его за рукав здоровой руки. Начинало темнеть, и я внезапно вспомнила про брата. Дуайт начнет беспокоиться, если я не вернусь домой к ужину.
– Я позвоню Гарри, – прокричал Чарльз в ответ, – он приедет и заберет нас. Надеюсь, что в его доме на ферме есть телефон.
Наконец я пробралась сквозь толпу и села на пень, стоявший так удобно, как будто кто-то спилил это дерево прямо для меня. Никто меня не беспокоил, и я почувствовала себя странно обособленной от всего происходящего. Самолет, все еще перевернутый вверх дном, лежал как черепаха на спине и казался каким-то огромным непонятным чудовищем. Единственное, от чего я не могла отвести глаз, была стройная фигура Чарльза, который поспешно двигался вокруг самолета, давая указания. Временами он останавливался и смотрел в мою сторону, и на лице его выражалось беспокойство, как будто он боялся потерять меня. Тогда мое сердце совершало скачок, как в то мгновение, когда я впервые поднялась в воздух.
Через некоторое время меня начало клонить в сон. Вероятно, я даже заснула, но почувствовала, как кто-то тормошит меня за плечо.
– Мисс Морроу, мисс Морроу!
Я открыла глаза, зевнула и, взглянув вверх, увидела некрасивого мужчину примерно на десять лет старше Чарльза. У него были гладко зачесанные назад волосы, как у банкира, и искренняя улыбка летчика.
– Пойдемте со мной, – сказал он, и я послушно подчинилась, поскольку внезапно появился Чарльз, который тоже последовал за ним. Мужчина довел нас до сверкающей черной машины, представившись мне как Гарри Гуггенхайм.
– Вы из тех Гуггенхаймов, которые занимаются горным делом? – Я подавила зевок.
– Да. Я знаком с вашим отцом.
– О.
Когда мы удалялись от летного поля, все фермеры и их родственники махали нам на прощание так сердечно, как будто мы только что побывали у них в гостях. Чарльз соорудил из своего шарфа повязку и не показывал вида, что ему больно. Сидя на переднем сиденье, он весело рассказывал Гарри наши приключения, а я сидела сзади. Я поймала свое отражение в оконном стекле и улыбнулась. Гарри Гуггенхайм увидел это и тоже расплылся в улыбке.
– Мне очень приятно было познакомиться с вами, мисс Морроу, – проговорил он, когда мы подъехали к его поместью, где стоял автомобиль Чарльза, «Форд Родстер» кремового цвета, – надеюсь, что мы встретимся снова при менее экстремальных обстоятельствах.
– Я тоже на это надеюсь.
Чарльз распахнул передо мной дверь, и я вышла из машины.
– Прости, что так получилось с самолетом, Гарри, – проговорил Чарльз, хотя в его голосе я не услышала никакого сожаления, – я его починю.
– Не волнуйся, старина. Я рад, что с тобой все в порядке.
И они оба пожали друг другу руки с неподдельной искренностью.
В полной тишине мы с Чарльзом уселись в его машину и так же молча пустились в путь в сгущающейся темноте. Он включил фары и поехал – каким-то образом ему удавалось переключать передачи и вести машину одной рукой – еще более спокойно и хладнокровно, чем раньше; никто из нас явно не спешил добраться до места назначения.
Постепенно мы разговорились. Впервые это действительно было похоже на настоящий разговор. Адреналин все еще бродил в нашей крови, превратив двух стеснительных людей в болтливых сорок.
Чарльз делился со мной надеждами на будущее авиации; своим чувством долга обеспечить это будущее, убедить простых американцев, что летать теперь не более опасно, чем ездить в автомобиле, может быть, даже безопаснее.
Он также рассказал мне о полетах, которые планировал совершить; он мечтал проложить самые короткие маршруты не только между городами, но и между континентами.
– Вы можете вообразить перелет в Австралию, который займет меньше недели? – в ответ я могла только удивленно покачать головой.
– Я люблю путешествовать по морю и океану, – призналась я, – это очень успокаивает.
– Согласен. После приземления в Париже лучше всего мне спалось на судне, на котором я плыл домой. Они не позволили мне лететь обратно на самолете, хотя я хотел это сделать. Тогда я впервые понял, что моя жизнь принадлежит не только мне.
– Не могу представить этого чувства.
– Безусловно, это было необычно. Я никогда не думал об этом аспекте моих поступков. Я все время был сосредоточен только на полете. И первоначально единственное, о чем я думал, – это доброта и участие множества людей – моих спонсоров, а также моих помощников, конструкторов и механиков, которые построили самолет. Но почти сразу же после приземления я понял еще одну вещь – появилось ужасное сознание того, что теперь меня никогда больше не оставят в покое. Люди всегда хотят от меня того, чего я не могу им дать. Ведь я всего лишь перелетел через океан.
– Как вы узнали, что сможете это сделать – долететь до Парижа? Когда так много ваших предшественников потерпело неудачу, откуда вы знали?
Он кивнул, очень серьезно.
– Я произвел расчеты. На самом деле я никогда не рискую без необходимости. Обратите внимание: никто никогда не думал о том, чтобы лететь в одиночку, – все считали, что это занятие для двух пилотов, из-за длительности перелета. Но я понял, что если лететь одному, то можно взять гораздо больше топлива и получить больше шансов, даже если собьешься с курса. К тому же я лучший летчик из ныне живущих, я это знаю.
Его уверенность в себе была так очевидна, но выражена так скромно и с таким достоинством, что я могла лишь восхищаться ею. В отличие от людей, которые нуждались в поощрении, он не говорил громко, ничего не преувеличивал. Он просто был.
– Вы полетели бы через океан, если бы знали, что за этим последует – все это внимание, шум в прессе?
– Да. Это слишком важная задача, ее надо было осуществить. К тому же я все еще надеюсь, что они оставят меня в покое.
– Кто «они»?
– Да все: пресса, публика, старые школьные приятели, всякие назойливые незнакомцы. Дельцы, которые налепили мое имя на все, начиная от курток и кончая песнями и танцами.
Я покраснела, радуясь, что наступившая темнота скрывает мое лицо. Еще недавно в колледже я старательно разучивала танец под названием «Линди Хоп».
– Даже киношники, – возбужденно продолжал Чарльз, и мне показалось, что он почти благодарен, что есть слушатель, которому он может все это высказать, – Уильям Рэндольф Хёрст[16]предложил мне миллион долларов за то, чтобы я сыграл себя в художественном фильме или хотя бы появился в кадре, но я отказался. Когда я сказал «нет», он не поверил, сказал, что каждый имеет свою цену. Но у меня нет цены. И он все продолжает осаждать меня предложениями – меня теперь все одолевают просьбами.
– Но вы не можете тратить на них свою жизнь.
– Свою жизнь я могу тратить только на себя. Забавно, но я действительно чувствую бремя ответственности. Слишком много людей обращает на меня свои взоры.
В замешательстве я отвела взгляд от дороги. Хотя было темно, я пыталась по глазам Чарльза прочитать, что у него внутри. Они больше не сверкали. Теперь его уверенность граничила с высокомерием. Видя сухую тонкую линию его рта, стальной взгляд и уверенную руку на рулевом колесе, я впервые почувствовала темную сторону славы.
– Ну да, теперь все пользуются своим влиянием. Но вы ведь знаете, что «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно» – так говорят.
– Что? Что это за высказывание такое?
– Это больше всего любит цитировать лорд Эктон[17]. Вы не слышали? Впрочем, это неважно.
Я запнулась, заметив, как застыло его лицо, и поняла, что после его трансатлантического перелета не так уж много людей осмеливалось возражать ему или поучать его.
Однако я не могла забыть те долгие месяцы, когда он не удосужился написать мне хотя бы пару строк, поэтому выпалила:
– Я считаю – опасно признавать, что все на вас смотрят, даже если так оно и есть. Не обязательно придавать этому такое большое значение. Это может изменить человека, знаете. Сделать его более жестким.
– Вы так думаете?
– Да.
– Думаете, я жесткий?
– Ну, не совсем.
Я не жалела, что обидела его. Он спросил мое мнение, и я его высказала.
Некоторое время мы оба молчали. Потом он что-то пробормотал и кивнул, внимательно взглянув на меня. Дальше мы опять ехали в молчании.
– Боюсь, что я один говорил все время, – наконец вырвалось у него, и я втайне обрадовалась, что он первым почувствовал необходимость прервать молчание. Я доказала ему, что мы на равных, хотя бы в упрямстве. По сравнению с другими молодыми людьми, которых я знала, он почти ничего не рассказал о себе. Я не узнала ничего ни о его семье, ни о детстве, словно он начал жить только после перелета через Атлантику. Но, вероятно, так оно и было – непрестанный шум в прессе, сходящая с ума публика, кинохроника, манифестации и чествования. Теперь все это стало частью его жизни, с которой он – с радостью или без – должен был смириться.
– Не беспокойтесь, – уверила я его, – мне все очень понравилось. Весь этот день, даже отвалившееся колесо.
– Немногие женщины сказали бы это, – он одобрительно улыбнулся, и я выпрямилась на сиденье, чувствуя себя гораздо выше своих пяти футов, – расскажите мне что-нибудь о себе, Энн. Чем вы собираетесь заниматься?
– Это сложный вопрос.
– Да нет, это простой вопрос на самом деле. Что вы хотите делать? Есть та одна-единственная вещь, о которой вы не можете не думать? Для меня это был мой перелет.
Во время всех тех долгих часов, когда я перевозил почту, я не мог заставить себя не думать о нем, ломал голову над этим вопросом, пока не нашел выход. И когда я понял, что надо делать, то сделал это. Итак, что вы хотите делать?
Увидеть пирамиды. Сделать так, чтобы мой брат стал здоровым и счастливым. Выйти замуж за героя – так много мыслей, из которых надо выбирать одну, так много идей, копошащихся в голове… Надо их как-то собрать воедино перед тем, как что-то произнести.
Чарльз Линдберг продолжал терпеливо ждать ответа; я видела это по его поднятому вверх подбородку с ямочкой, по спокойному взгляду. Провести вместе целый день – сначала в небе, а потом и на земле с таким храбрым, замечательным человеком! Впервые ощутить себя женщиной, а не школьницей – я чувствовала, как внутри распускается что-то незнакомое. И я произнесла то, в чем боялась признаться даже себе:
– Мне бы хотелось написать великую книгу. Только одну. И я была бы удовлетворена. С помощью слов помочь людям увидеть то, что вижу я, вернее, постараться это сделать.
Чарльз молча изучающе смотрел на меня, его лицо было бесстрастно. А потом мужчина, который пересек океан только благодаря силе своей воли и веры, произнес:
– Вы это сделаете.
Неужели все так просто? Я откинулась на сиденье, глядя на дорогу, бегущую впереди; мы приближались к городу, впереди уже сверкали уличные фонари и толпились группы зданий. Неужели все так просто – поставить перед собой цель, а потом добиться ее? Всю жизнь я боролась со страхами и сомнениями; я не была так красива и изящна, как Элизабет, не была мальчиком, как Дуайт, не была такой искрящейся весельем хохотушкой, как Кон. У меня были блестящие энергичные родители. Я всегда чувствовала себя в их тени, и, должна признаться, отчасти меня устраивало это положение, потому что избавляло от необходимости принимать решения и позволяло лишь предаваться раздумьям каждую минуту каждого дня. Теперь мне нужно было просто перестать так много думать и начать строить планы или еще лучше начать действовать. Именно так, как я поступила сегодня после того, как самолет перевернулся.
Просто появился тот, кто не позволил мне бездействовать. С ним я стала другой. Лучше, умнее.
Наконец мы въехали на подъездную дорогу нашего дома. Я почувствовала прилив теплоты и духовной близости – и чуть не заплакала при виде знакомых зеленых ставней, сказочного фасада с украшениями, похожего на пряничный домик, широкой галереи с каменными колоннами, обитой коленкором плетеной мебели, так уютно расставленной. Вскоре мы все покинем этот дом и переедем в новый, который уже почти закончен в другой части Инглвуда. Но здесь, в этом уютном домике, незримо присутствовало мое семейство и ждало меня, хотя разум и твердил мне, что внутри только один Дуайт. Именно эта реакция была такой естественной и сильной для меня – нахлынуло и накрыло с головой внезапное, всепоглощающее чувство дома.
Я повернулась к Чарльзу, желая разделить с ним это счастье, ведь у него было мало родных. Мысль, что он уедет обратно в полном одиночестве, один перед всем миром, пронзила меня.
– Не хотите ли… – начала я, но остановилась.
Он смотрел на меня так пристально, что я невольно вздрогнула. Он изучал меня, изучал, стараясь найти что-то важное. Я могла только отчаянно надеяться, что он найдет то, что искал.
– Есть еще одно обстоятельство, – проговорил он, и голос его не звучал столь же уверенно, как обычно, – довольно неожиданное.
– Да? – Я подумала о своем поведении; неужели я его чем-то смутила?
– Возможно, вам неизвестно – да, конечно, неизвестно. В последнее время я кое-чем занимаюсь. Поставил перед собой задачу – найти ту, с которой смог бы делить свою жизнь. – Он замолчал, как будто ждал, что я что-нибудь скажу.
Но я лишь молча смотрела на него. Он кашлянул и продолжал:
– Одиночество… Мне было очень одиноко последние несколько месяцев. И я подумал, что будет лучше иметь рядом того, кто разделит со мной… все это. С того дня, как мы встретились в Мехико, должен сознаться, я думал о вас. Что касается сегодняшнего дня, то вы все сделали очень хорошо. Как настоящий летчик.
– Спасибо, – ответила я серьезно, понимая, что это, наверное, самая большая похвала из его уст.
– Также есть еще одна вещь, – проговорил он со странной болезненной улыбкой, – я никак не могу выбросить ее из головы. Когда мы сегодня были там, наверху, я впервые испугался. Не за себя – я никогда не боюсь за себя. Я всегда знал, что со мной все будет в порядке. Странная вещь, но я испугался за вас. Испугался, что вы получите какую-нибудь травму. Должен вам сказать, что я никогда раньше не испытывал такого чувства. Честно говоря, сначала я даже не понял, нравится ли мне оно, – он засмеялся, – но теперь знаю, что нравится – не то, что вы находитесь в опасности, а то, что у меня появилось сильное желание вас защищать. И это кое-что значит.
– Что именно?
– Это означает, что я должен спросить, не согласитесь ли вы выйти за меня замуж, – тихо ответил он.
– Вы шутите! – вырвалось у меня, я рассмеялась и тут же испугалась, увидев, как дрогнули его ресницы, и поняв, что для него это серьезно.
Я взглянула на свой дом, дом моего детства. Дом, который всегда давал мне приют. Я не знала никакого другого мира, кроме того, который предлагали мне мои родители. Я не знала всего даже про собственную семью. Твердо я знала только одно: мне следует много работать и учиться, готовя себя – к чему? А вот это никто не удосужился мне объяснить.
Да, никто не подготовил меня к этому моменту. Мне и в голову не могло прийти подобное – брак с таким человеком, как Чарльз Линдберг, который совершенно не похож на тех, с кем я была знакома: всех этих банкиров, адвокатов, преподавателей. Умный, смелый, энергичный – эти качества я в нем знала. Но было еще много качеств, о которых я и не подозревала. Впрочем, они наверняка не такие важные.
Это был спокойный, дисциплинированный человек. Очень ответственный. Человек, который нуждался в партнере, чтобы больше никогда в одиночку не летать через океан.
Самый знаменитый мужчина в мире, который увидел меня, стоящую в тени, и каким-то образом понял, что я смелее, чем кажусь с первого взгляда. И я совершила полет на аэроплане, потому что он поверил в меня. Чего же еще мне ждать?
– Мне хотелось бы подумать, – сказала я серьезно, понимая, что он не одобрит, если мой ответ будет слишком скорым. Внезапно все наши месяцы врозь наполнились смыслом. Он строил планы, готовился к этой встрече так же тщательно, как к своему перелету через Атлантику. Я никогда не пойду на неоправданный риск, сказал он мне. Я не сомневалась, что в отношении своих сердечных симпатий он поступал точно так же.
Чарльз кивнул, его лицо было непроницаемо. Затем он вышел из машины, обошел ее вокруг, открыл мою дверь, подал руку и проводил меня до крыльца. И именно этот жест – трогательный галантный жест, этот знак ухаживания – обеспечил успешный результат его предложения, хотя в тот момент я ничего ему не сказала.
Он поцеловал меня на прощание, абсолютно целомудренно; его губы скользнули по моим, но не задержались, хотя я почувствовала, когда его худое тело оказалось близко от моего, что он хотел этого поцелуя. И я почувствовала, что это начало всего. Всего, что я ждала всю мою жизнь.
Чарльз отказался от моего приглашения войти внутрь, ссылаясь на свою травму. Я сказала ему нежно-ворчливым тоном женщины, которая имеет на это право, что ему надо пойти к доктору. Он усмехнулся моему тону и обещал сходить.
Я смотрела, как он спускается по ступенькам и идет к своей машине. И только после того как он уехал, я повернулась и вошла в дом моего детства с таким чувством, как будто захожу сюда впервые. Отчасти так оно и было, потому что впервые я переступила этот порог, став взрослой.
Остальное случилось позже, гораздо позже, после писем и телеграмм и поспешной поездки к моим родителям, тщательно составленного пресс-релиза и последовавшего за ним взрыва удивления и восторга всех газет в стране. После того как я научилась скрываться от прессы, покидая свой дом, научилась засыпать ночью под ослепляющие вспышки фотокамер, проникавшие даже сквозь плотно сомкнутые веки…
После того как мне пришлось уволить слугу, который продал репортерам несколько моих писем, и я поняла, что больше никогда не смогу сказать ни слова и написать ни строчки втайне от всего мира и что мне придется пробираться в город поздно ночью, чтобы примерить свое свадебное платье. И, несмотря на все предосторожности, увидеть свое приданое, включая подвязки и пеньюары, со всеми подробностями воспроизведенное на первых страницах «Нью-Йорк таймс» вместе с информационным бюллетенем выпускников Смита. И наконец, этот волнующий день в гостиной нового дома моих родителей, названного Некст Дей Хилл! Священник объявляет нас мужем и женой, и я чувствую, что сердце готово выскочить из груди, несмотря на плотный шелковый корсаж. Муж целомудренно целует меня в щеку, и все наши друзья и родные хлопают…
Я вижу себя на пороге, глядящую на удаляющегося от меня Счастливчика Линди, Одинокого Орла – нет, нет, моего жениха, – и не могу поверить, что из всех женщин на земле он выбрал меня…
Это было тогда. И только после того как моя прежняя жизнь изменилась так бесповоротно, что я никогда бы не поверила в нее, не будь реальных вещественных доказательств – фотографий, карт, паспортов и вырезок из желтых газет, – только тогда я поняла, что ни разу в тот вечер ни один из нас не произнес слово «люблю».
Но нам это было не нужно, уверяла я себя. Когда два сердца испытывают друг к другу такие сильные чувства, нет смысла говорить об этом вслух. Все слова слишком сентиментальны и глупы, Чарльз для них слишком необыкновенен. А теперь и я стала такой же.
Мы оба были слишком необыкновенными. Для обычных слов, произносимых обычными супружескими парами.
* * *
1974
Когда через сорок семь лет мы пересекаем страну, летя первым классом, я не могу не думать о том, что он это ненавидит.
Чарльз всегда считал, что первый класс – это самое плохое, что случилось с авиацией, хуже всего, что сделали коммерческие авиалинии, хуже, чем энергичные стюардессы в своих слишком смелых юбках, хуже, чем пилоты, спрятанные за шторой или дверью; хуже, чем упорные усилия заставить пассажиров вообще забыть, что они летят высоко над землей. Как будто бы тебя закрыли в консервной банке, любил говорить он. Перекрыли все входы. Снабдили питьем. Велели расслабиться. Люди могут опустить жалюзи на окнах и вообще забыть, что находятся на высоте тридцати тысяч футов[18]над землей.
Я бросаю взгляд на его лицо. Оно совсем прозрачно, лишено красок. Его глаза закрыты. Он настоял на том, чтобы мы сидели открыто, пока входят другие пассажиры, хотя имелась штора, предусмотрительно предоставленная авиалинией, скрывающая нас всех – доктора, няню, детей, меня. Он лежит на носилках, установленных на нескольких сиденьях первого класса. К его руке – очень тонкой, похожей на ветку молодого деревца, – прикреплена бирка. На нем брюки цвета хаки и спортивная рубашка с короткими рукавами.
Несмотря на свою слабость – когда его вносили на борт, мы все окружили его, как будто заслоняя от здоровых, – он сидел, выпрямившись, и жестом ответил на приветствие первого и второго пилотов, которые стояли на верху трапа и смотрели на него со слезами на глазах.
Даже этот легкий жест обессилил его. А теперь он спит.
Я открыла свою сумочку и смотрю на письма. Мне хочется безжалостно бросить их ему в лицо, хочется потребовать, чтобы он прочел их вслух, чтобы наконец услышать от него хоть что-то честное и правдивое, идущее от сердца. Даже если эти письма написаны не мне – и почему они написаны не мне? Или достаточно того – как всегда было достаточно, – что он поставил меня на первое место; выбрал меня теперь, чтобы быть рядом с ним?
Я с треском захлопываю сумочку; конечно, я не могу этого сделать; не могу заставить его читать эти письма вслух в присутствии моих детей.
Поэтому я молча сижу рядом с ним – преданная жена, как скажет каждый, преданная помощница в этом его последнем перелете. Мы достигли требуемой высоты, и бодрое «дин-дон» прозвучало, разрешая нам вставать и ходить, если мы этого захотим. Скотт несет вахту; он сидит через проход от своего отца, вглядываясь в его лицо. Я не знаю, о чем он думает, что вспоминает. Я только знаю, что у него из всех моих детей был самый тяжелый путь к всепрощению.
Джон молча смотрит в окно. Он вырос молчаливым, еще более молчаливым, чем его отец. Но в отличие от него Джон не чувствует себя непринужденно в воздухе. Его дом – море, его страсть – населяющие море существа.
Лэнд вылетел накануне и встретит нас в Гонолулу; его задача организовать транспортировку в отдаленный конец острова Мауи, чтобы Чарльз был ближе к дому, который построил для нас. Хороший, послушный Лэнд; если страсть его отца – небо, брата – вода, то его страсть такая же, как его имя – земля. Почва. Крепкий уроженец запада, фермер.
Девочки сейчас со своими семьями – Рив в Вермонте, Энси во Франции. У обеих маленькие дети, и они не могут сопровождать нас в этом последнем путешествии, поэтому попрощались раньше.
Как я люблю своих детей! Как я благодарна им за все, что они мне дали: радость, разочарования, надежды; повод, чтобы жить дальше, когда я думала, что не имею такового. А теперь и внуков. Но достаточно ли этого? Достаточно, чтобы спасти эту семью, когда – если – я обнародую то, что знаю?
Я дотрагиваюсь до мужа, еле-еле, как в самом начале, когда не могла даже поверить, что имею на это право. Только теперь вместо молодого бога – старик, находящийся на краю смерти. Он вскоре должен уйти, но память о нем останется. Я хотела в эти последние дни вспомнить все самые лучшие мгновения нашей жизни вместе, которые были невероятно прекрасны.
Разве не это должна вспоминать жена, когда муж лежит на смертном одре? Разве она не должна забыть все плохое и, главное, простить?
Но он еще раз отнял у меня права жены. Из-за писем в моей сумочке я никогда не смогу забыть годы, когда я скучала по нему, хотела его, недоумевала, почему он может находиться со мной только несколько дней, а потом начинает мерить комнаты большими шагами, подолгу смотреть в окна и снова строить планы надолго улететь от меня. Мой собственный секрет не кажется мне теперь таким важным, ведь его нельзя даже сравнить с тем, что он скрывал от меня.
Я смотрю, как он лежит – странно спокойный, до неузнаваемости худой – рот приоткрыт, челюсть отвисла. Впервые он не приказывает никому из нас, что надо делать, думать или чувствовать.
И я понимаю, что предательство сильнее прощения. Еще одна вещь, которой Чарльз научил меня за целую жизнь уроков, лекций и наставлений.
Глава четвертая
Май 1929-го
Предельный уровень. Газоизмещение. Размах крыльев. Дроссельный клапан. Подъемная сила. Технические термины, которые мне нужно понять и запомнить, определения, которые я должна заучить наизусть, как часть моей новой роли.
Хорошо прожаренный ростбиф. Никаких соусов. Овощи, доведенные до точки безнадежности. Куски белого хлеба в добавление к каждому блюду. Еще один не менее важный список, жизненно необходимый для моей новой роли в новой жизни.
Посещала ли я когда-нибудь университет? Имеется ли у меня вообще образование? В первые недели брака с самым знаменитым человеком в мире (таким знаменитым, что я сотнями получала письма со следами слез от молодых девушек, обвинявших меня в том, что я украла у них будущего мужа; таким знаменитым, что вместо того, чтобы как невеста принимать традиционные поздравления, я слышала за спиной завистливый шепот; таким знаменитым, что кинозвезды приглашали нас на медовый месяц в свои поместья и режиссеры хотели снять фильмы о нашем бракосочетании), я не могла в это поверить. Ведь мне еще так многому предстояло научиться.
Хотя я по-прежнему очень мало знала о моем муже, от меня теперь ожидали, что я знаю о нем все. Его вкусовые пристрастия и антипатии, его требования к гардеробу – просто сшитые костюмы из коричневого твида, накрахмаленные белые рубашки, однотонные галстуки и всегда одни и те же потрепанные коричневые ботинки, которые он носил еще с тех пор, как перевозил почту. Также от меня требовалось знать его планы на каждый день – таинственным образом, интуитивно, начиная с самого первого мгновения нашей совместной жизни.
В то первое утро я проспала. Уставшая от всех приготовлений, постоянного напряжения от необходимости уклоняться от встречи с прессой – мы провели неделю перед свадьбой, уехав открыто, а потом петляли по окрестностям, чтобы сбить их со следа, – я проспала.
К тому же я была вымотана своей первой брачной ночью. Не проявляя желания целовать меня публично, за закрытыми дверями мой муж оказался очень пылким любовником. Его руки – сильные изящные руки, которые так восхитили меня в Мехико, – оказались ненасытными и любопытными: сначала они исследовали, а потом предъявили права на каждую часть моего тела, вызывая во мне одновременно удовольствие и боль. Но больше удовольствие.
Это удовольствие повторилось несколько раз за ночь, и поэтому в то первое утро я проспала. Мы решили провести наш медовый месяц, катаясь на пароходе, когда весь мир будет пялиться в небо в поисках «счастливых и отважных небесных новобрачных». Пароход тихо покачивался, побуждая меня проснуться. Я сопротивлялась, цепляясь за сон. Мне снилась моя сестра Элизабет. Ей двенадцать, а мне десять лет, и она спрятала мою любимую куклу и не говорит мне, где она, смеясь над моими слезами.
Прежде чем я совсем проснулась, я разозлилась на нее, угрожая рассказать все маме; когда же снова погрузилась в дремоту под лучами солнца, проникавшего в нашу каюту, я вспомнила. Мне было не десять лет, и я не злилась на мою сестру, но она не выходила из моей головы все эти последние несколько недель.
Сначала эта путаница на следующий день после нашего неудачного приземления, когда газеты сообщили, что полковник Линдберг и мисс Элизабет Морроу чудом избежали гибели, когда их самолет при взлете потерял колесо.
– Не могу понять, – твердила Элизабет, позвонив мне домой на следующее утро; я слышала шелест газетных страниц у нее в руке, – с чего они взяли, меня ведь даже не было в Нью-Джерси?
– Там была я, – сказала я и объяснила, что произошло, – просто я твердила, что я мисс Морроу. Я не сказала им, как меня зовут.
– Ты? – повторяла она снова и снова, вызывая мой гнев и раздражение. – Ты? Полковник Линдберг пригласил тебя? Он полетел с тобой?
– Да, – повторяла я, испытывая непреодолимое желание сказать ей и все остальное, но понимая, что не должна это делать, пока Чарльз не поговорит с мамой и отцом.
А потом, когда я получила возможность сказать ей все до того, как папино министерство напечатало краткое сообщение, что полковник Линдберг женится на мисс Энн Морроу, дочери посла, газеты снова все переврали. Они продолжали сообщать, что невеста – Элизабет (а не я), которая «на сегодняшний день является самой прелестной девушкой в мире и которую галантный Линди решил сделать своим вторым пилотом в жизни».
Папино министерство напечатало еще более краткое заявление, опровергающее газетное вранье. И тогда наконец газеты удосужились вспомнить, что у посла Морроу имеется еще одна дочь.
Когда мы с Элизабет наконец встретились вскоре после объявления о моей помолвке с полковником, я бросилась к ней с извинениями.
– О, Элизабет, какая ужасная путаница в этих газетах! Мне очень жаль, что они сделали такую ошибку. Они заставили тебя выглядеть, как…
– Брошенная невеста? – Она легко рассмеялась, покачав головой, но я успела увидеть боль в ее голубых глазах.
– Нет, нет, конечно, нет, это просто…
– О, Энн, я не обращаю внимания на прессу! Честно, ни капельки! Просто… просто…
– Что, что?
Элизабет схватила меня за плечи, глядя мне в лицо полными слез глазами, и прошептала:
– Я так хочу, чтобы ты была счастлива! Ты должна мне верить!
Она бросилась в свою комнату и заперла дверь. С того самого мгновения между нами возникла какая-то неловкость; наши роли поменялись так внезапно, что ни одна из нас не знала, как себя вести. Элизабет всегда была единственной золотой девочкой. Я же довольствовалась тем, что находилась рядом.
За одну ночь я превратила Элизабет, красавицу, предмет всеобщих желаний, в старую деву. Брошенную старую деву к тому же. Хотя она никогда не обвиняла меня, я это чувствовала. У нее в голове имелись мысли, которые она хотела мне высказать, но не могла; это становилось очевидным каждый раз, когда она резко меняла предмет разговора или отводила глаза, если Чарльз находился в комнате.
Но все же она пришла на мою свадьбу, даже проверила, на месте ли бутоньерка у Чарльза, и ослепительно улыбалась в течение всей церемонии.
Так что не муж, а сестра занимала мои мысли, когда я окончательно проснулась в то первое утро своей замужней жизни. Чувствуя незащищенность, ранимость, я внезапно вспомнила, что под моим пахнущим плесенью, царапающимся шерстяным одеялом я совсем голая. Вспомнив, почему на мне ничего нет, я улыбнулась и потянулась к мужу, но обнаружила, что рядом со мной пусто.
– Чарльз! – Я осмотрела крошечную сырую каюту, примыкавшую к такой же крошечной сырой кухне в поисках какой-нибудь одежды; заметив незнакомый фланелевый халат, не думая, кому он принадлежит, я закуталась в него, надела теннисные туфли и по узкой лесенке поднялась на палубу.
Мой муж стоял, наклонившись над столом, дочерна загорелый и необыкновенно красивый в толстом белом рыбацком свитере и голубой морской фуражке, чувствуя себя в море так же непринужденно, как и в воздухе. Взглянув с восхищением на его руки, завязывающие узлы на толстом белом канате с уверенностью бывалого моряка, я покраснела; мое тело все еще хранило память об этих руках, ласкавших меня.
– Поздно встаешь, – сказал он, и его пронзительные голубые глаза скользнули по мне, вобрав всю меня; халат неплотно прилегал к телу, и я плотнее запахнула поношенную материю, но Чарльз все равно покраснел. Потом улыбнулся.
– Извини.
Я подошла к нему и на какое-то мгновение растерялась, не зная, что делать. Надо его поцеловать? Обнять? Сумеречная близость прошлой ночи, казалось, испарилась при свете дня, и он больше не был моим мужем, моим любовником, который вскрикивал в темноте, снова и снова; это опять был Чарльз Линдберг, Одинокий Орел.
Я все еще не привыкла к тому, что имею право находиться рядом с ним.
Но все же решилась нежно погладить его по руке, в ответ он так же нежно погладил меня по плечу, и мы оба облегченно вздохнули. Я подумала, что мы не всегда будем так неуверенны друг с другом, и захотела сказать ему об этом, но не могла найти нужных слов. Молчание, начинала понимать я, постепенно постигая негласный курс обучения, являлось ответом, наиболее удобным для моего мужа.
Мы оба повернулись, чтобы обозреть отрывавшийся вид. Мы находились примерно в четверти мили от берега. Шлюпка, в которой мы подъехали к прогулочному судну, была закреплена на корме. Небо сплошь затянули облака. Стоял конец мая, и воздух еще не был наполнен влажностью летних штормов. Ни одного дуновения ветерка.
– Что у тебя по расписанию? – Я повернулась к мужу с озорной улыбкой – ведь это был медовый месяц. Не могло быть никакого расписания, только поздние завтраки (для лежебок), ужины при свечах – и много ночей, похожих на вчерашнюю. Я даже захватила несколько своих стихотворений, которые хотела ему показать; я представляла, как он читает их вслух в сумерках при свете свечей.
– Я собирался выйти в море в восемь тридцать. Но ты спала, так что мы вылетели из графика. На камбузе есть консервы, можешь приготовить завтрак. После того как приберешься – тебе придется драить палубу каждый день, – мы сможем поднять якорь. Я планирую добраться до Блок-Айленда к половине первого. Самолет уже ждет нас, так что нельзя задерживаться слишком долго.
– Но… – моя голова закружилась от количества информации; я не могла ее сразу переварить, – Блок-Айленд? Что мы будем делать на этом Блок-Айленде? Я знаю здесь один прекрасный маленький ресторанчик, и мы могли бы…
– Никаких ресторанчиков. Нас обнаружат. Нам надо сделать остановку, чтобы заправиться и взять запас еды.
– Но я… я не умею готовить. В колледже я ходила на курсы по домоводству, но это было так давно. Я не уверена, что знаю, как…
– Научишься. В любом случае ты должна научиться для наших совместных полетов.
– Но я думала, что мы…
– Найди яйца, бекон, сухое молоко и кофе, – Чарльз кивком указал на лестницу, ведущую в камбуз, – когда мы тронемся в путь, я возьму книги и морские карты, и мы начнем.
– Начнем что? Какие книги и морские карты? Чарльз, пожалуйста, немного помедленнее и более конкретно. – Мой голос задрожал, я была озадачена и даже разочарована. Что происходит с моим медовым месяцем?
Мой муж вздохнул, и угол его рта дернулся вниз.
– Ты незамедлительно начнешь учиться летать и, кроме того, освоишь навигацию. Я планирую путешествие на Восток, чтобы нанести на карту маршруты пассажирских полетов. Самолет, естественно, буду вести я, но ты тоже должна уметь это делать. Ты будешь выполнять работу штурмана.
– Я… я – штурманом? – Какое ужасное слово. Магеллан был штурманом. Колумб тоже был штурманом. Как я могу делать такую работу? – Ты уверен? – спросила я взволнованно, завязывая пояс халата потуже. – Ты уверен, что хочешь этого?
– Конечно! Чего еще я могу хотеть? Кому еще я могу доверить все это, кроме тебя, моей жены? А теперь я хочу, чтобы ты приготовила мне на завтрак яйца.
Я могла лишь молча смотреть на него, ошеломленная всем тем, что теперь требовалось от меня. Прошлая ночь – меня осенило – была всего лишь началом. Чарльз Линдберг выбрал меня; само по себе, это было почти невозможно осмыслить, и я пока не могла это сделать. Но теперь я начала понимать, что это означало на самом деле. Я должна стать не только его женой, но и вторым пилотом. Я буду не только варить ему яйца, но и выполнять работу штурмана во время полета на Восток. Я хотела сказать: «Я постараюсь», но вовремя остановилась, поняв, что слово «постараюсь» для него неприемлемо.
Вместо этого я сказала:
– Конечно. Как мне их приготовить?
– Просто свари.
– Прекрасно. Я тоже так люблю.
Я не любила вареные яйца, но поняла, что лучше об этом умолчать.
Ну вот, я усвоила еще один урок. И так быстро.
На Блок-Айленде нас сразу же обнаружили. Как только мы сошли на берег, чтобы пополнить запасы еды, какой-то мужчина сказал:
– Эй, а вы не тот парень Линдберг? И его новая невеста?
Я напряглась, готовая броситься бежать. К моему крайнему удивлению, Чарльз просто почесал нос и сплюнул, чего я раньше за ним не наблюдала.
– Тот парень Линдберг? Не-а. Что ему тут делать? Я слышал, они вроде бы полетели в Мэн.
– А, точно. Я теперь припоминаю, что тоже слышал по радио что-то в этом роде.
Чарльз повернулся и подмигнул мне, и я подавила улыбку. Я почувствовала его радость, его озорное удовольствие от своей проделки по тому, как он впервые на публике схватил меня за руку. Он крепко сжал ее и продолжал держать, пока мы неторопливо передвигались по маленькой рыбацкой лачуге, затариваясь яйцами, зерновым хлебом и кофе. (Сегодня утром мне пришлось сделать три попытки, чтобы приготовить приемлемый кофе, и даже тогда Чарльз крякнул и зажмурился, когда пил его.)
Это были мгновения, когда я почувствовала себя действительно замужем. Даже прошлая ночь не заставила меня ощутить твердую почву под ногами. В памяти сохранялся ледяной взгляд Чарльза, когда я встала на цыпочки, чтобы получить от него свадебный поцелуй; я испытывала неловкость, позируя фотографам в дни, предшествовавшие нашей свадьбе, когда Чарльз ни разу не прикоснулся ко мне, ни разу не улыбнулся, ни разу не повел себя как влюбленный.
Но здесь, в этой бедной лачуге, мой муж потянулся ко мне, крепко обнял, и все напряженные недели на публике, предшествовавшие нашей свадьбе, исчезли из моей памяти. Мы вновь пережили любовную магию того вечера, когда он попросил меня выйти за него замуж. Мое сердце совершило сумасшедший скачок, как самолет, попавший в воздушную яму, и я не смогла скрыть улыбку. Я даже потерлась лицом о колючую ткань его свитера, как кошка о руку своего хозяина. Думаю, он был удивлен и растроган.
Мне не хотелось уходить из этой лачуги, не хотелось прерывать очарование этого удивительного и одновременно самого обычного мгновения, когда муж и жена обсуждают достоинства кукурузных хлопьев по сравнению с крученой пшеничной соломкой. По-моему, я уже тогда понимала, что такие мгновения в нашей семье будут очень редки.
Как я это поняла? Может, ощутила по запаху, как животное чует опасность? Или услышала, как животное слышит опасность в звуке треснувшей ветки? Ведь мы были животными, Чарльз и я, окруженные, затравленные; как только мы вышли из лачуги, все еще прижимаясь друг к другу в легком тумане нашей изумительной, дразнящей близости, нас окружила толпа зевак, репортеров и фотографов.
– Это они! – крикнул кто-то, и мы отпрыгнули друг от друга, как будто пойманные за чем-то противозаконным. Почему? Я не знала. Я чувствовала только шок от смущения и вины. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, колени дрожали.
– Чарльз! Чарльз Линдберг! Полковник! Энн! Миссис Линдберг! Энни! Посмотрите сюда! И вот сюда! Как замужняя жизнь? Смогли отдохнуть вчерашней ночью?