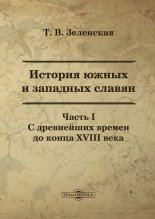Три влечения. Любовь: вчера, сегодня и завтра Рюриков Юрий
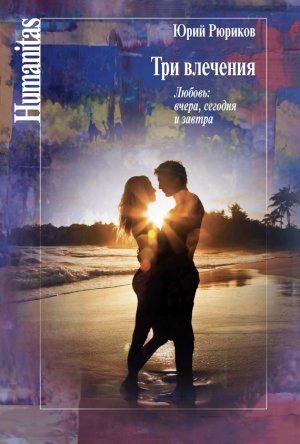
Отчуждение пола от человека – это попытка расчеловечить его, превратить в неестественное существо. В Средние века такое отчуждение пола было «ангелизацией» человека. Сейчас это выглядит как «машинизация» человека, превращение его из организма в механизм, в колесико и винтик. И если пол человека – часть его индивидуальности, то отчуждение пола – это отчуждение личности, усечение и обкрадывание ее.
Тень человека
Кое-что о родовых свойствах человека
Чехов как-то задумался: почему любовь дает человеку меньше счастья, чем он ждет? Потому, что она – умирающее чувство и у нее все позади? Или потому, что она только еще рождается и у нее все в будущем?
Следы этих мыслей остались в его записной книжке. «Любовь, – писал Чехов. – Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь»[49].
И правда, где сейчас, в последней трети XX века, такая любовь, как раньше? Где любовь Леандра, который каждый день переплывал Геллеспонт, чтобы увидеться с Геро? Где любовь-подвиг Петрарки, трагическая любовь Вертера, великое самоотречение кавалера де Грие, любовь-страдание Анны Карениной, полыхающая любовь Маяковского? Неужели в эпоху разума, которая пришла на смену векам стихийных чувств, нет и не будет больших страстей?
Дети недоумевают, почему от луны остается вдруг тоненький серп месяца. Луна сломалась, горюют они; они не знают, что луна кажется месяцем только потому, что она освещена с одного края. Может быть, так же и с любовью? Может быть, она освещена с одного края, а мы думаем, что она на ущербе? И если бы лучи освещали ее всю, мы видели бы, что она такая же, как и раньше? Может быть, здесь есть вина (и беда) наших писателей, которые проходили мимо великих историй любви, не могли поразить нас их величием?
Наверно, тут есть доля истины. Но может быть, не только часть диска освещена лучами, а и сам этот диск подтаял, стал меньше?
Человеческий прогресс всегда идет с какими-то утратами. Вместе со старыми формами жизни угасает и то неповторимое, что в них есть, и диалектика приобретений и потерь до сих пор была постоянным законом жизни. Ягода убивает цветок – это закон жизни, сквозное противоречие прогресса; оно действовало на всех ступенях истории, и вполне возможно, что оно повлияло и на человеческую любовь.
В эпоху логики, в эпоху плана, учета и расчета роль любви в жизни общества и в жизни каждого человека снизилась и уменьшилась.
Прошло время, когда человеком двигал один стимул – стимул, на котором сосредоточивались все силы его души и который превращался от этого в страсть, в мощный пучок энергии, направленный в одну точку.
Мы живем сейчас в эпоху многих стимулов, духовная жизнь усложнилась, в нее вошли и осознались как главные – экономика, политика, рабочая обязанность, материальные и идеологические интересы, творческие тяготения. Любовь отошла назад, потеснилась, уступила им часть своего места среди пружин индивидуальной жизни.
Потому-то, наверно, и нет сейчас того фанатизма в любви, который сметал с ее пути все преграды. Великая и необыкновенная, любовь стала превращаться в обыкновенную. Она сошла с арены общественной жизни и сделалась частью быта.
Эти перемены в жизненной роли любви ярко видны по тому месту, которое она занимает в искусстве. Много столетий, вплоть до прошлого века, она была осью мировой поэзии, стояла на авансцене драмы, прозы. В нашу эпоху она потеснена, отодвинута на второй план мирового искусства.
Это падение роли любви – большая общечеловеческая потеря. Но ничего не поделаешь: нет эволюции без потерь, такова современная жизнь, в которой нет гармонии, нет многостороннего развития человека.
Любовь – как бы внутренняя тень человека, ее очертания повторяют очертания его характера, и то, какая она, зависит от того, какой он. Любовь – и тень тех условий, в которых живет человек, и как жизнь ростка зависит от почвы, в которой он сидит, так и жизнь любви зависит от ее почвы, от ее «среды».
И если так вот подходить к любви, то и нынешние и будущие судьбы ее могут стать яснее и понятнее.
Человек – как родовое существо – отличается от всех других существ тем, что он – личность, индивидуальность. Личностью его делает то, чего нет у других родов жизни, – мышление, труд, эстетическое отношение к жизни, способность перестраивать себя и мир по законам необходимости и по законам красоты.
Чем слабее в человеке личность и чем сильнее безликость – тем дальше он, видимо, от родового состояния, тем меньше он человек.
Нынешний человек еще не стал родовым существом, он только идет к своему родовому состоянию. Ибо человеческая природа – это не то, что вынес человек из животного царства. Он вынес оттуда предчеловеческую природу, и история человечества – это путь от не-человека к человеку, путь постепенного развития в людях родовых человеческих свойств, постепенного вызревания истинной человеческой природы.
Теперешний человек – существо как бы «видовое», не родовое, ибо человечество далеко не стало единым родом; оно разделено на «виды» – нации, классы, социальные группы, отряды, которые занимаются только физическим или только умственным трудом, только производством или только управлением. В этих условиях в людях больше развиваются «видовые», чем родовые свойства, сильнее звучат классовые, национальные, профессиональные, чем общечеловеческие качества.
Но истинная, идеальная сущность человека – в его родовой, а не в его «видовой» принадлежности, в том, что он представитель всего человечества. Не классовые, не национальные, не профессиональные свойства – главное в человеке, – не то, что отделяет его от других людей, возводит между ними барьеры. Все эти «видовые» свойства – исторически вынужденные и преходящие, так как, объединяя людей внутри одного отряда, они отъединяют их от других отрядов и превращают человека в однобокое существо.
Появились эти социально-видовые деления вместе с разделением труда и собственности, вместе с рождением классов. Они были исторически неизбежны и, как обычно в истории, играли двоякую роль: они развивали человечество, были рычагом прогресса, но часто делали это бесчеловечно, через подавление одних человеческих групп другими. И так же исторически, как родились, они, наверно, и умрут – когда умрут классы.
Впрочем, о связях родового и видового в человеке стоит поговорить подробнее. «Чисто» родовым существом – причем первобытно родовым – человек был, наверно, недолго: на заре родового строя, до того, как его жизнью стало править жесткое разделение труда. Потом человек стал сплавом родовых и видовых свойств. Родовое часто жило в нем в видовой форме. Но, пожалуй, не реже видовое было слабо наущено родовым и даже противостояло ему.
Главные свойства человека, – именно как человека, как родового существа – это его общечеловеческие, родовые свойства. Маркс говорил об этом, что только человек, который «относится к роду как к своей собственной сущности», и есть «сознательное родовое существо»[50]. С ходом времени родовые свойства людей станут, видимо, нарастать, а «видовые» – гаснуть. Человек наших идеалов, человек коммунизма, и будет, видимо, таким родовым существом, общечеловеком. В этом – суть всех предвидений и мечтаний о будущем человеке, с которыми выступали мыслители утопического и научного социализма. При этом, конечно, стоит помнить, что есть классовость передовая, социалистическая, и именно она движет человечество к его высшим идеалам, к родовому состоянию. Такая классовость – мост к родовому состоянию, его союзник.
Впрочем, угаснут, видимо, не все видовые деления, а в основном социально-классовые. Биопсихические различия (мужчина – женщина, взрослый – ребенок, холерик – флегматик), конечно, не могут исчезнуть. Но эти различия не враждебны родовым свойствам людей: они несут их в себе, служат их естественным воплощением.
Другое дело – те социально-видовые свойства, которые противостоят родовым, сужают человека, не дают ему стать разносторонним. Такие свойства исчезнут, когда человечество станет единым родом, когда его социальная однородность будет стирать нынешние социальные, профессиональные и другие барьеры.
Что такое общечеловеческие, родовые свойства людей? Наверно, не только любовь, не только гуманизм, не только тяга к творчеству, свободе, красоте, к дружескому общению с другими людьми. Наверно, это и стремление к универсальности, к полноте жизни, к многостороннему и цельному развитию своей личности, к многостороннему и цельному союзу с другими людьми.
Разносторонняя жизнь разума и чувств, разностороннее развитие способностей и насыщение потребностей, разностороннее и свободное общение между людьми, – в этом, наверно, и состоит смысл жизни, это, наверно, и есть высшая точка человеческих идеалов. И это же, видимо, и есть родовые свойства человека, его общечеловеческие качества, идущие от самой его общественной природы.
Об этом давно – со времен Древней Греции и Древней Индии – думают философы. Чем ближе к нашему времени, тем больше говорят они, что полнота и разносторонность – это идеал истинно человеческой жизни и человеческого существа. Особенно стояли за это социалисты-утописты и мыслители Возрождения и XIX века.
Фейербах, например, так говорил о родовых отличиях человека от животного: «Человек не есть отдельное существо, подобно животному, но существо универсальное, оно не является ограниченным и… эта универсальность захватывает все его существо». «Истина, – утверждал он, – в полноте человеческой жизни и существа»[51].
О родовых свойствах человека не раз писали Маркс и Энгельс.
Маркс называл «самоцелью», то есть высшим идеалом человека, «целостность развития», «абсолютное выявление творческих дарований человека», жизнь, при которой «человек воспроизводит себя не в одном каком-нибудь определенном направлении, а производит себя во всей целостности…»[52]
В эпоху классового разделения труда человек не может быть целостным и разносторонним. Классовое разделение труда создает неравенство, превращает людей в односторонние и флюсообразные «видовые» существа, на всю жизнь приковывает их к одному занятию.
Это замыкание человека в ярмо одного дела глубоко античеловечно, оно уродует человека, противно самой его природе. Впрочем, классовое разделение труда и видовая флюсообразность способствовали той профессионализации, без которой не было бы цивилизации.
И сейчас еще они движут человечество вперед, но уже давно стало ясно, что еще больше они сдерживают его, тормозят рождение его идеальной – родовой – природы. В свое время Август Бебель так говорил об этом:
«Одна из потребностей, глубоко коренящаяся в человеческой природе, состоит в стремлении к свободе выбора занятий и их разнообразию»[53]. Ежедневно и однообразно повторяющаяся работа «отупляет и ослабляет» человека, уродует его, ведет к противоестественному, одурманивающему рабству.
«Вместе с разделением труда, – писал Энгельс, – делится на части и сам человек. Развитию одной какой-нибудь деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности. Это калечение человека возрастает в той же мере, в какой растет и разделение труда»[54].
Первобытный человек был по-своему «всесторонним»: каждый человек умел делать все, что делало человечество, каждый мог и охотиться, и собирать плоды, и готовить еду, и сражаться с врагами.
Когда появилось разделение труда, у людей, занимающихся разными видами труда, стали развиваться и разные способности: у охотников – нужные для охоты, у земледельцев – для земледелия, у вождей и жрецов – для руководства и умственной работы.
Человек все больше становился частичным, общество все больше дробилось на клеточки – по профессиям, внутри классов, внутри социальных групп. Число способностей, которые мог развивать каждый человек, все больше сужалось, и к XX веку это сужение дошло до предела. Специализация, которая углубляла раньше способности человека, стала античеловеческой. Ее дробящее, рассекающее влияние все больше проглядывает во всех действиях, мыслях, чувствах человека, во всем образе его жизни – в том числе и в любви.
Она и развивает и разрушает личность, ведет к ее утончению, углублению – и к ее уничтожению, распаду. Чем больше атомизируется общество, тем однообразнее и серийнее делаются связи человека с другими людьми – и тем больше человек превращается в винтик, в безликое существо. Но дробящаяся специализация и изощряет, усложняет его, и это особенно видно в тех слоях человечества, которые занимаются духовным трудом. Правда, и там это изощрение идет рядом с обезличиванием, с превращением человека в серийную, словно сошедшую с конвейера, фигуру.
Будет ли человек личностью или стандартным существом, будет ли он частичным или универсальным – это вопрос жизни и смерти для человечества. Еще сто лет назад именно так говорил об этом Маркс. Именно так – как о вопросе жизни и смерти – он говорил о замене «частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции» – «всесторонне развитым индивидуумом»[55].
В конвейерный период, начавшийся с империализмом, становится невиданно стержневой роль машины для человеческой жизни. Появляется новый глобальный вид разделения труда – разделение труда между человеком и машиной. Индустриализация главных видов труда и быта рождает новую первичную клеточку социального организма, новый социальный тандем – «человек – машина». Общение человека с машиной пропитывает все области жизни и делается одним из главных фундаментов человеческой повседневности. И это рождает совершенно новые противоречия, новые двигатели жизни.
Дробное и конвейерное разделение труда делает человека резко частичным, обезличивает его труд. Оно превращает человека в придаток машины, в робота, который совершает на станке одну-единственную операцию. Обезличивание человека в труде доходит до предела, человечество входит в зону огромного кризиса, и развивать в себе личность люди могут только вопреки этой узкой специализации.
Отчуждение личности, ее расчеловечивание становится как никогда острым. Человек механического труда начинает как бы уподобляться машине, действовать, как она, – выполнять дробные, расчлененные, узкоспециальные операции. Машина как бы накладывает на человека свои свойства, заражает его «машинностью», стремится уравнять с собой.
Собственнические отношения не могут спасти от этого людей. Они еще больше превращают человека в машину, в колесико и винтик общественного механизма. Только социалистические отношения равенства и свободы могут вывести человечество из социальных и технических кризисов, в которые его ввергает XX век.
Но сами по себе общественные отношения не могут избавить человека от частичности, от дробной специализации. Только в союзе с машиной можно победить машину (в том числе и общественную).
И человек встает на встречный путь: он начинает создавать абсолютно новый – кибернетический – тип машин, учит машину действовать, как он сам, – считать, помнить, совершенствоваться, принимать решения, руководить другими машинами. Человек как бы заражает машину человеческими – разумными – свойствами, вкладывая в нее свой интеллектуальный облик, свой отпечаток.
Против омашинивания людей он выдвигает очеловечивание машины. Он начинает передавать машине «низшего человека», человека стандартного, не личность – как раз такого, какого стремятся сделать из него машины. Думающие машины имитируют стандартного человека, они как бы вбирают его в себя. И это дает человеку невиданную возможность – выделить из себя этого «низшего человека» и избавиться от него.
Человекоподобные машины помогут освободить землю от машиноподобного человека, помогут человеку выбросить из себя все обезличенное, все механически типовое. Но только помогут – не больше, – потому что главную роль здесь играют не машины, а человеческие отношения, которые создаются с их помощью, – отношения общественные, социальные.
Очеловечивание этих отношений – главное средство против омашинивания человека. Очеловечивание гражданских отношений и очеловечивание машины – два фундамента того нового мира, который начинает рождаться в нашу эпоху.
Жизнь подходит сейчас к таким рубежам, когда, видимо, будет технически возможно дать обществу новый промышленный фундамент, принципиально новую машинную базу. Кибернетика – впервые в истории – дает техническую возможность создать систему машин, которыми непосредственно управляют не люди, а другие машины – очеловеченные автоматические устройства.
Нынешний тип машины называется в теории машин трехзвенным. В ней три блока: рабочий инструмент – передаточный механизм – источник энергии (мотор).
Четвертое звено в этой цепи – человек. Это звено, управляющее машиной и в то же время управляемое ею: потому что именно от машины зависит, что именно производит на ней человек, в каком ритме он работает, какие способности ему нужны, чтобы управлять машиной.
Что будет, если в трехзвенную машину добавить новое – умное – звено: блок управления? Возникнет четырехзвенная машина, в корне непохожая на все старые. Она сама будет управлять своей работой, и это освободит человека от нынешнего прямого участия в производстве.
Система человекоподобных машин может взять себе весь безликий труд и оставить человеку только индивидуальный труд, только творческую работу. А это значит, что в самих технических основах труда произойдет огромная революция – ибо если стандартный труд обезличивает людей, то индивидуальный труд развивает в них личность.
Это в корне изменит разделение труда между человеком и машиной и позволит – технически – избавиться от старого разделения труда между людьми. Начнет уходить в историю дробная специализация, пожизненное распределение разных видов труда между разными людьми. На свет может явиться новое разделение труда – не пожизненное, не узкочастичное. Смена занятий и сочетание их сможет, видимо, стать законом, и тогда работа будет развивать не узенький сектор, а весь круг способностей человека.
Если эта машинная база будет создана, на смену «видовому» человеку может прийти «родовой» человек – с новыми чувствами, новыми отношениями, новой любовью.
В нем уже не будет тех видовых свойств, которые делают его частичным, сужают до двухмерной односторонности. Видовое-частичное, видимо, умрет совсем. Останется только то видовое, которое будет не врагом родового, а его «разновидностью»; в нем, видимо, будут прямо – но, конечно, в каждом «виде» по-своему, – выражаться главные родовые свойства людей – тяга к универсальности, к полноте жизни, к свободному и разностороннему развитию своей личности, свободному и разностороннему общению с другими людьми.
А те видовые свойства, которые принадлежат только «виду» (материнская любовь и детская психология, эмоциональность поэта и рациональность математика), не будут, видимо, противостоять родовым свойствам, не станут сужать человека до узкой однолинейности.
Общее (родовое) и особенное (видовое) не будут, наверно, воевать в отдельном (в личности), хотя, наверно, тишь да гладь никогда не наступят, и стычки между ними, пожалуй, всегда будут неизбежны. Но, наверно, чаще они станут содружествовать и пропитывать друг друга.
Видовые отличия всегда будут, и всегда будут какие-то виды человеческого неравенства – психологического, нравственного, эмоционального, умственного. Но они, видимо, не будут рождать неравенства в пользовании благами и не поведут к «профессиональному идиотизму».
Конечно, человекообразные машины сами по себе не смогут быть здесь палочкой-выручалочкой. Они – только один конец той волшебной палочки, которую создает сейчас человечество. Другой ее конец – и главный, решающий – это общественные отношения, – во всей их сложности, во всех разветвлениях – от экономических связей до быта, от отношений между классами до системы воспитания. Никакая техника не может освободить человека сама по себе, ибо не сама техника лепит человека, а общественные отношения лепят его в союзе с техникой.
«Ты идешь к женщине? Не забудь плетку!»
Конвейерная эпоха с самого начала резко повлияла на отношение людей к любви. Крайние течения искусства, которые обычно первыми схватывают сдвиги в жизни, стали эстетизировать превращение человека в машину. Основатель героической ветви футуризма итальянец Маринетти провозгласил поход против любви.
Мафарка, герой романа Маринетти «Футурист Мафарка», заявил: «Мы презираем страшную и тяжкую Любовь, которая тормозит ход человека и мешает ему выйти из своей человечности».
Мафарка – рупор идей Маринетти о переделке человека, о создании новых людей – титанов-героев. Идеи эти стали потом фашистскими, и сам Маринетти тоже стал фашистом. «Я убил любовь, – говорит Мафарка, – заместив ее возвышенным сладострастием героизма… Вот новое сладострастие, которое освободит мир от любви, когда я осную религию экстериоризованной Воли и повседневного Героизма».
Вместо любви к человеку он прославляет любовь к машине. «Мы любим красное, – говорит он, – и, с отблеском топок локомотивов на щеках, мы воспеваем растущее торжество Машины». Мы «прославляем любовь к машине, пылающую на щеках механиков, обожженных и перепачканных углем. Случалось ли вам наблюдать за ними, когда они любовно моют огромное мощное тело своего локомотива? Это кропотливые и умелые нежности любовника, ласкающего свою обожаемую любовницу»[56].
В этой предфашистской утопии человек полностью расчеловечивается и делается механтропом. Такие теории, такие взгляды на любовь были только крайними веточками того отношения к любви, которое в XIX–XX веках порождала жизнь во многих людях. Любовь без любви – так можно назвать множество любовных связей этого времени. Чехов писал свои слова о любви как раз в то время, когда эта любовь без любви воцарялась в жизни, когда пришло время декадентского эротизма, гипертрофированной чувственности.
Прекрасные женщины исчезают, превращаются в самок, в приспособление для любовных услад. Саша Чёрный, сатирик начала века, писал об этом:
- Как наполненные ведра,
- Растопыренные бюсты
- Проплывают без конца —
- И опять зады и бедра…
- Но над ними – будь им пусто! —
- Ни единого лица!
Люди как бы стали безликими, типовыми, выродились в серийное олицетворение похоти; как два удара одних часов похожи они на Сладострастие из флоберовского «Искушения святого Антония».
Это – разрушение высшего человеческого достижения – индивидуальной духовной любви, прыжок назад, в далекий провал времен, в голую типовую чувственность.
Такой отход от личностного к типовому заметили еще многие философы и теоретики XIX века, особенно германская плеяда мизантропов и женоненавистников – Шопенгауэр, Гартман, Ницше, Нордау, Вайнингер.
Знаменитый философ-пессимист Артур Шопенгауэр так излагал коренные основы тогдашней любовной морали: «Женская честь несравненно важнее мужской, так как в жизни женщины половые отношения играют главную роль. Женская честь заключается во всеобщем мнении, что девушка не принадлежала ни одному мужчине, и что замужняя женщина отдавалась лишь своему мужу».
Шопенгауэр довольно точно говорит здесь о положении женщины своего времени. Женщина в этой морали – не человек с массой потребностей, не личность, а частичное существо, для которого главное в жизни – «половые отношения». И поэтому так узка и однолинейна здесь женская честь, которая целиком сводится к канону девственности для девушек и канону верности для женщин.
«Женский пол, – продолжает Шопенгауэр, – требует и ждет от мужского всего, что он желает, и в чем нуждается; мужчины же требуют от женщин прежде всего и непосредственно лишь одного. Следовательно, надлежит устроить так, чтобы мужской пол мог получить от женского это одно не иначе, как взяв на себя заботы обо всем, и в частности о рождающихся детях; на этом порядке покоится все благополучие женского пола».
«Ввиду этой цели, – заканчивал он, – первая заповедь женской чести заключается в том, чтобы не вступать во внебрачное сожительство, дабы каждый мужчина вынуждался к браку, как к капитуляции»[57].
Отношения мужчины и женщины тут – настоящая сделка: женщина дает мужчине наслаждение, а он обеспечивает ее всем необходимым. Делается ли это с любовью или без любви – не играет никакой роли. Конечно, ни о каком равенстве, ни о какой свободе, ни о какой человечности тут нет и речи. Женщина – только инструмент для удовлетворения мужских потребностей. Она должна воевать с мужчиной, принуждать его к капитуляции, браку, – это продажная цена ее девственности…
Для Ницше любовь – это тоже война, яростная война двух противников, низшее из человеческих чувств. Великий романтик, гремящий обличитель филистерства, он сам был заражен его ядами, и его мрачные инвективы поражали и античеловеческое и человеческое в людях.
И для него женщина – не человек, не самостоятельная личность, а аппарат для деторождения. «Все в женщине загадка, – говорит он, – и все в женщине имеет одну разгадку: эта разгадка зовется беременностью»[58].
Женщина Шопенгауэра была только женой, женщина Ницше – только родительница. «Мужчина для женщины – только средство: цель – всегда дитя», – говорит он.
И он призывает: «Пусть женщина станет игрушкой, чистой и нежной, подобной драгоценному камню, осиянному добродетелями какого-то еще не существующего мира»[59]. Не человеком зовет он сделать женщину, а игрушкой, которой будет наслаждаться ее господин. Ибо женщина для него – существо, которое стоит ниже мужчины.
«Если ты раб, – возглашал он, – ты не можешь быть другом. Если тиран ты, ты не можешь иметь друзей.
Слишком долго скрыт был в женщине раб и тиран. Поэтому женщина еще неспособна к дружбе: она знает только любовь.
… Еще неспособна женщина к дружбе: женщины все еще кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы»[60].
Конечно, и тут есть правда; века рабства – общественного и домашнего – сделали такими многих женщин. Но слово «еще», которым пользуется здесь Ницше, совсем не указатель на возможность другого будущего. Это просто оборот стиля, ибо в философии Ницше у женщины нет будущего. Все будущее он отводит мужчине, его сверхчеловек – это сверхмужчина. Сверхженщины у него нет, ибо женщина для него – недочеловек.
И он говорит:
«В любви женщины всегда есть несправедливость и слепота ко всему, что вне любви ее. Даже в сознательной любви женщины всегда есть засада, молния и ночь рядом со светом»[61].
И кончается это презрительным, свистящим ударом:
«Ты идешь к женщине? Не забудь плетку!» – так говорил Заратустра[62].
Не один Ницше считал женщину рабыней. «Настоящая женщина, – говорил англичанин Джон Рёскин, – слуга мужа своего в доме его: в сердце же его она – царица»[63].
Свобода для него состоит в рабстве, в повиновении, в подчинении. «Я не знаю, – говорит он, – настанет ли когда-нибудь день, когда познается сущность настоящей свободы и люди поймут, что повиноваться другому, работать на него… – не есть рабство. Часто это лучший вид свободы – свобода от забот»[64].
И Ницше говорил то же самое: «Восстание – это доблесть раба. Вашей доблестью пусть будет послушание»[65].
Конечно, Новое время – время парадоксов, но если рабство – лучший вид свободы, то почему бы ненависти не быть лучшим видом любви, ползанью – лучшим видом полета, а смерти – лучшим видом жизни?
* * *
XIX век, начало XX века были временем, когда у многих людей любовь все больше мельчала, все глубже принимала в себя отпечаток царивших тогда нравов. Жорж Дюруа у Мопассана, Берта и Бюбю с Монпарнаса у Шарля-Луи Филиппа, Санин у Арцыбашева были как бы символом этого превращения любви в рычаг – рычаг преуспеяния, пропитания, наслаждения.
И как противовес этому в поэзии опять появляется тяга к идеальной, неземной любви. Вспомним хотя бы знаменитую блоковскую Незнакомку из его стихов и пьесы – неземное, небесное существо.
Любовь Блока – это не просто возрождение боготворящей рыцарской любви, хотя в ней есть что-то и от нее. Блок хотел настоящей любви, которая как наводнение захлестывает человека и несет его в своих сверкающих потоках. И уводя Прекрасную Даму на небеса, Блок хотел уберечь ее от земной грязи. Он видел, что любовь, которая стала пряным лакомством для одних и поденной каторгой для других, губит настоящую любовь.
Так и случилось в пьесе «Незнакомка», когда звездная любовь Блока спустилась с неба. В Незнакомку проникают токи и яды земной любви, и она уходит с первым поманившим ее господином – как заурядная панельная проститутка.
Падучая звезда Блока падает второй раз – с небес идеальной любви на землю пошленькой любви. Гений чистой красоты оказывается мимолетным виденьем. Нет больше любви на земле, тоскует Блок; даже самое прекрасное, самое чистое, самое неземное чувство попадает в капканы и топи земной пошлости.
Весь Блок поэтому – звенящая и пронзительная тоска по звездной любви. И гениальные чары блоковской щемящей печали рождены этой нестерпимой тоской.
Не только в России родилась тогда тяга к неземной любви трубадуров. У многих поэтов Европы виден этот порыв к возрождению рыцарской любви Средневековья, и особенно грустно и элегически он звучит у Ростана. Трагическая любовь Сирано де Бержерака, полная тоски и боли; самоотверженная любовь принца Жоффруа к принцессе Грёзе, любовь-подвиг, которая бросает его в смертельное путешествие и осеняет его смерть, – романтическая печаль по такой любви насквозь просвечивает все творчество Ростана.
И не случайно, конечно, что именно в начале XX столетия Жозеф Бедье реконструировал «Тристана и Изольду», знаменитую повесть XII века. Земные дурманы, проникавшие тогда в любовь, толкали поэтов на страстные поиски рыцарской любви.
Психология современной любви
Двуречье любви
Искусство, как и наука, всегда идет дорогой открытий, и эти открытия нужны человеку не меньше, чем открытия науки. Ибо искусство постоянно открывает человеку его самого. Оно все глубже проникает в человека, в жизнь его чувств и разума. Оно все время открывает новые типы людей, новые виды человеческих связей, и там, где нет этих открытий, нет и искусства, – есть только мимикрия под искусство, изготовление подделок и эрзацев.
Первой большой вехой в истории любви была Античность; она как бы открыла людям внутренний огонь, сжигающий их, вселяющийся в их душу и не дающий им покоя.
На грани Средних веков и Возрождения поэты нового сладостного стиля (Кавальканти, Джанни и другие), Данте и особенно Петрарка открыли нам индивидуальную духовную любовь Нового времени, со всеми ее сложностями и противоречиями. Это было великое открытие, равное любым другим великим открытиям эпохи.
Ко временам Петрарки любовь начинает чуть ли не безраздельно царить в поэзии. Сотни поэтов писали о ней, но почему-то никто из них не стал Петраркой, хотя многие и приближались к нему.
Вспомним «Витязя в тигровой шкуре», который был создан раньше петрарковских сонетов. Любовь для Руставели – вселенская сила, движущая миром, и в цепи всех сил жизни она стоит чуть ли не на первом месте.
«Жизнь моя – самосожженье и тысячекратный стон», – говорит у него влюбленная. «Опаляемый любовью, в пламени ее горю», – говорит влюбленный. «Исступленный» и «влюбленный» – у арабов то же слово, – говорит о них Руставели.
Любовь у него – титаническая страсть, которая низвергается на человека и погребает его под собой. В его поэме нет филигранного плетения психологии, нет жизни сердца, нет чувствований души. Любовь для Руставели – стихийный поток, в котором нет струй и течений, нет радуги чувств с ее многоцветностью. Один цвет царит в любви Руставели, один цвет окрашивает всю поэму – цвет полыхающего пожара.
Чтобы стать Петраркой, нужен был другой взгляд на любовь. Нужно было ощутить ее не как гремящий водопад, а как плавную равнинную реку, – и только тогда можно было понять, из каких потоков она состоит.
Весной 1327 года Петрарка увидел Лауру в церкви – и до самой ее смерти любил ее. Любовь к ней заполняет все пространство его души, вытесняя оттуда все остальное.
Но это – неразделенная любовь, и Петрарка поет не радости любви, не ее гармонию, а ее горести, тяготы, ее сложность. Одиночество, рожденное безответной любовью, замыкает его в себе, обращает его взгляд внутрь – и позволяет глубоко проникнуть в скрытые уголки своей души, разглядеть там такие оттенки чувств, о которых до того и не подозревали.
Он разорван в противоречиях, душа его разъята на контрасты, и он как бы застыл, раздвоенный полярными чувствами:
- Страшусь и жду; горю и леденею;
- От всех бегу – и все желанны мне.
Он пристально смотрит на себя, он поражен двойным ликом любви. Он видит, что любовь «целит и ранит», видит, что она необыкновенно усложняет его внутреннюю жизнь, делает необъятно богатым мир его сердца.
Любовь к Лауре стала центральным средоточием всей его жизни. У него даже появился свой календарь, свое исчисление времени. Он мерит жизнь от момента встречи с ней («вот год прошел», «вот десять лет прошло», «пятнадцать лет кружится небосвод с тех пор, как я горю, не угасая»), – как будто жизнь распалась на две эпохи, на две эры – до рождества любви и после ее рождества.
Петрарка увидел двуречье любви, постиг ее многоликость, сложнейшую вязь ее потоков. Он увидел, что в любовь входит восторг и тоска, радость и мука, надежда и печаль, и все это слагается в особое настроение, особый сплав чувств – accidia, тоскливая радость, как ее называли. Но он не разглядел еще струек, из которых состоит каждый этот поток, не увидел, как они переливаются, незаметно переходя друг в друга.
По сравнению с Античностью это была уже совсем другая любовь, другая по всему своему складу: она перестала быть монолитной, сделалась психологически утонченной и разветвленной, далеко опережая здесь эллинистическую любовь.
Но собравшись вокруг одного духовного полюса, любовь его, как и у трубадуров, перестала быть цельной, утратила телесную жизнерадостность, чувственное изобилие. Петрарка сам говорил, что любит в Лауре не плоть, а бессмертную душу, и поэтому будет любить ее и после смерти, – ведь душа ее останется, не умрет. Здесь и лежит разгадка, почему он любил ее двадцать лет после ее смерти – или внушал себе, что любил, ибо в письмах сознавался, что смерть погасила в нем последние остатки любви к ней[66].
Герой Петрарки – человек переходного времени. Он выламывается из пут старого мира, но в своей любви, которая стыдится земных порывов, он еще по пояс стоит в Средневековье.
Так сложно – с потерями и приобретениями – менялись в веках психология любви и сама любовь. И дальше, с ходом времени, это психологическое усложнение любви делалось все больше.
Двуречье и дельта
У Фета есть шутливое стихотворение о любви. Нудный педагог объясняет в нем ученику, что глаголы делятся на два вида – глаголы действия и глаголы состояния.
- Он говорит, что любить есть действие – не состояние.
- Нет, достохвальный мудрец, здесь ты не видишь ни зги.
- Я говорю, что любить – состоянье, еще и какое!
- Чудное, полное нег!.. – Дай бог нам вечно любить!
Любовь-состояние, любовь-чувство несет в себе целый мир огромных психологических ценностей. Само начало любви – громадное – и незримое – изменение в человеке. В нем совершаются таинственные, неясные нам внутренние сдвиги, мы видим только их результат, а какие они, как текут, – мы не знаем.
… Вот Анна, после первой встречи с Вронским, едет в поезде.
Она читает книгу, она увлечена ею, и вдруг ей отчего-то сделалось стыдно. Она стала перебирать свои вчерашние впечатления, вспомнила бал, знакомство с Вронским, свое поведение. Стыдного ничего не было, «а вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось». «Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыхание и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее».
На вокзале Анну встречает муж. «Ах, боже мой! Отчего у него стали такие уши?» – подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы.
Едва зажегшись, искорки неясного ей чувства уже начинают неуловимо перестраивать мир ее души, крупицу за крупицей менять весь строй ее ощущений.
«И сын так же, как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарование».
Анна не понимает, почему она по-новому видит близких, хорошо знакомых ей людей. Она не понимает, что в ней начинает «переворачиваться» все ее мировосприятие, она не чувствует, что она изменилась, и именно поэтому другие кажутся ей не такими, как раньше.
Влюбление еще со времен Античности всегда казалось чем-то мгновенным. С тех пор любовь с первого взгляда, неожиданно поражающая человека, заполонила собой все искусство. Мгновенно влюблялись эллины и рыцари, герои древнеиндийского романа и драмы, персонажи «Тысячи и одной ночи» и Руставели, герои Возрождения и поздних эпох.
Любовь у Толстого – не мгновенный удар, а постепенная перестройка всей внутренней жизни человека, переход ее – звено за звеном – в новое состояние. Раньше любовь начиналась, как вспышка молнии, тут она начинается, как созревание цветка. Новое для человека ощущение, едва начиная входить в ряд его привычных чувств, уже меняет их одно за другим, просвечивает через них – как капли краски, вводимые одна за другой в воду, сначала неуловимо, а потом все явственней меняют ее цвет.
Этот подход к любви, как к революции в человеке, эта «диалектика души», тотальная связь всех душевных движений человека, взаимное слияние всех ручейков, из которых состоит поток его внутренней жизни, – то новое, что приносит в понимание любви XIX и XX век и что ярче других писателей выразил, пожалуй, Лев Толстой.
В начале XX века спектр любви стал исключительно сложным, и любящий взгляд состоит теперь из многих эмоций.
«В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову – какая-то ласкающая нежность, и пристальность, и беспокойство, а еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души».
Так видит глаза любимой юный Ромашов из купринского «Поединка», и тут как бы просвечивает вся многослойность теперешнего любовного влечения, вся его непростота. Чувства, из которых оно состоит, лежат в разных психологических измерениях, а где-то в глубине, под этими еще различимыми чувствами таится что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души.
Любовь у Куприна – глубинная эманация души, она истекает из подсознания – большой и важной области человеческого существа, которая скрывает в себе много загадок. Оттуда начинаются многие сотрясения, там таятся силы, которые диктуют чувствам человека, его душевным движениям.
Многое в этих движениях не воспринималось, не осознавалось раньше. В XX веке забеспокоились, стали улавливать эти новые потоки. Приближаясь к сознанию человека, они вспыхивали, как вспыхивают метеоры в небе, и только в эти моменты их можно было заметить. Но какой путь они проделали до этого, из каких глубин они вышли – оставалось тайной.
Вспомним Петрарку. У него чувства любящих ясны, отграничены друг от друга, они блистают как лезвия – восторг и тоска, радость и мука, наслаждение и печаль. Между ними нет никакого тумана, сплетения их ясны, переходы рельефны, зримы.
Теперь любовь не просто состоит из нескольких чувств. Двуречье любви превратилось в дельту из многих потоков, каждый из которых разбит на мельчайшие струйки эмоций, настроений, душевных движений – мимолетных, неуловимых, переливающихся одно в другое, вспыхивающих и мгновенно гаснущих, загорающихся в другом месте.
Это было совершенно новое, рожденное XX веком представление о любви. Это было открытием нового – и очень сложного типа человеческой психологии, и вместе с тем нового типа эстетического восприятия.
Конечно, речь идет здесь о высших точках любви, о ее психологических вершинах, рядом с которыми много провалов и равнин обычной жизни. И в сочетании этих взлетов и провалов резко выразилась двойственность частичного человека, расколотость мирового развития: углубление личности шло рядом с ее обезличиванием, утончение каких-то ее свойств достигалось за счет притупления других свойств.
И чем более частичными делались люди во всем строе своей жизни, тем контрастнее становился разлад между их обезличиванием и усложнением их личности, часто рафинированным, чрезмерным. И усложнение любви, дробление ее на мельчайшие внутренние крупицы идет рядом с падением ее силы, ее безоглядности, цельности, ее роли в самой жизни. Утрата ее внутренней мощи и чувственного изобилия делается все более и более явной, нерасторжимость потерь и приобретений все больше бросается в глаза.
Новые диапазоны психологии
Уже давно замечено, что в XIX и XX веках искусство стремится дать как бы посекундный дневник любви, следит за малейшими биениями сердца, схватывает исчезающе малые движения души.
Жизнь общества и жизнь каждого человека сейчас невероятно усложнилась, и тут – как и везде – есть свои темные и свои светлые стороны. И усложнение жизни, и ее обесценение, которое принесли с собой мировые войны и лавиноподобный рост населения земли, – все это резко поднимает в глазах людей ценность каждой ее крупицы, заставляет человека все больше дорожить самой мелкой ее искоркой. Большую роль играют здесь и перевороты в творческом сознании, быстрое движение вглубь, к первоэлементам жизни, которое идет во всех областях знания. Физики забрались в глубины атомного ядра. Биологи проникли внутрь клетки – атома живой природы. Генетики работают с генами – элементарными частицами наследственности. Физиологи бьются над тайнами нейрона – нервной клетки человеческого организма, хотят понять секреты паутинных биений психики.
Мир микровеличин все больше завладевает умами человечества, ибо он дал открытия, которые потрясают устои всех наших представлений. И стремление понять микропроцессы обычной жизни делается сейчас, может быть, одним из главных человеческих стремлений.
Мир бесконечно малых величин создает новый тип человеческой психологии, который, возможно, станет преобладать в будущем. (Впрочем, может быть, эта настроенность на микровеличины пройдет, восприятия человека опять станут крупными, цельными, и психологию подробностей заменит психология простых и цельных чувств – как во времена Античности. Это может случиться, если наступит упрощение жизни, если процессы синтеза, которые сейчас начинаются, возобладают над усиливающимся дроблением и специализацией.)
Предвестия этих психологических перемен появились еще в XIX веке. В те времена стало резко меняться общее состояние мира, начал рождаться новый уклад бытия. Внутренне ветвящаяся жизнь рождала внутренне ветвящегося человека. Быстрый темп жизни убыстрил, видимо, психические реакции, сделал более тонкой способность человека откликаться на мельчайшие уколы жизни. Гигантская острота жизненных противоречий, невиданное напряжение социальной борьбы, дробящееся разделение труда – все это были пружины того скачка, из которого человек вышел более сложным, чем входил в него.
В последние годы в нашей жизни резко поднялась и роль макромира, мира гигантских величин. Мир космоса и глобальные события земли начинают все больше вторгаться в нашу личную повседневность. К жизни каждого из нас протягивается все больше ниточек от массы процессов, текущих в разных углах планеты. С двух сторон эти миры как бы входят в сознание теперешнего человека. К «средним волнам», на которые была настроена психика старого человека, как бы добавились короткие и длинные волны. Они расширили диапазон волн, на которых мы общаемся с миром, открыли нам новые области в этом мире, которые мы раньше не могли видеть.
Эти сдвиги в жизни меняют склад ощущений, строй мышления – всю психологию современного человека. Чувства людей утончаются, растет их филигранность, непростота их сплетений. Все ясней делается ценность малейшего движения души, весомость мельчайшего «атома» психологии.
Конечно, ни на секунду нельзя забывать, что все это идет рядом с дроблением человека, с растаскиванием его личности, с суживающим его давлением частичной жизни. Это утончение и это «упрощение» – как бы две стороны медали, два рельса, по которым идет развитие нынешней психологии человека. И усложнение этой психологии – прямой ответ на обезличивающее давление конвейерной эпохи.
Не последнее место в таком усложнении человека занимает и любовь. Вспомним хотя бы Фета, знаменитые его стихи, написанные сто двадцать лет назад.
- Шепот, робкое дыханье,
- Трели соловья,
- Серебро и колыханье
- Сонного ручья.
- Свет ночной, ночные тени,
- Тени без конца,
- Ряд волшебных изменений
- Милого лица.
- В дымных тучках пурпур розы,
- Отблеск янтаря,
- И лобзания, и слезы,
- И заря, заря!..
Возможно, сейчас эти стихи могут показаться психологически незатейливыми, но в них есть и подспудная непростота, которая в свое время сделала их хрестоматийными.
Человек, который говорит это, любит, и, наверно, поэтому он так обостренно видит красоту малейших биений жизни. В удивительном единстве сливается здесь цельность и «точечность» восприятия. Для него дорог каждый блик ручья, каждый перелив трели, каждый шорох веточки, каждая тень на лице любимой.
Именно любовь открывает ему ценность этих мимолетных трепетов жизни. Каждый из них – крупица радости, каждый сопричастен к его счастью, и поэтому каждый полон радостного смысла и значения.
Любовь как бы пробуждает в человеке массу его скрытых сил, делает сверхвосприимчивым его глаз, слух, скачком повышает проницающую силу интуиции. Человек как бы переходит в новое психологическое состояние – «состояние губки».
Пороги его восприятия круто снижаются, и через них, как через опущенные ворота шлюзов, в него вливаются изобильные потоки впечатлений. «Взрыв восприятий», «половодье впечатлений» захлестывают человека, как будто в нем рождаются новые воспринимающие органы.
Такая насыщенность жизни, такая сила микровосприятия чаще, наверно, бывает в искусстве, чем в жизни.
Сейчас так, как в искусстве, человек живет только в немногие минуты взлетов – в моменты опасности, вдохновения, любви, в моменты открытий, новых впечатлений, драматических переломов, – то есть в моменты скачка, сдвига, качественного перехода. Таких минут в жизни людей куда меньше, чем минут пустого существования.
В искусстве каждое действие людей несет с собой качественные перемены, качественную новизну. Качественных сдвигов в жизни персонажей искусства куда больше, чем количественных, – в сотни, а то и в тысячи раз.
В обычной жизни дело обстоит как раз наоборот – количественные слои ее в сотни, в тысячи раз больше качественных. В ней много пустынных секунд, много топтания на месте, механического растрачивания. И изменить это положение людям вряд ли удастся, пока в их труде и в быту много механического однообразия, пока весь уклад их жизни состоит из ежедневного повторения все тех же однообразных операций на работе, все тех же однообразных действий дома.
Стремление жить так же насыщенно, как живут люди в искусстве, жить по законам красоты, законам перемен и разнообразия, – это еще одна человеческая утопия, и все искусство – стихийное, неосознанное воплощение этой иллюзорной, но естественной тяги людей, которые хотели бы максимально насытить новым смыслом каждую секунду своей жизни.
Может быть, это одна из тех подспудных, никем не сознаваемых утопий, которые станут играть гигантскую роль в жизни будущих поколений. Может быть, она приведет к тому, что в человеческую жизнь войдут совершенно новые мерила ее ценностей, и эти мерила перестроят все мироощущение людей, весь строй их отношений к себе и к миру.
В воплощении этой утопии роль искусства – особенно Нового времени – незаменима. И так же незаменимо здесь – и так же огромно – влияние на людей любви. Она стремится насытить каждую пустую или полупустую секунду человеческой жизни, сделать ее полной, набухшей, чреватой смыслом. И здесь мы наталкиваемся на одну очень интересную вещь.
Четвертое измерение жизни
Многие, конечно, замечали по себе, что в разные моменты жизни бывают совсем разные ощущения времени.
Особенно резко меняет чувство времени любовь. В часы любви время исчезает – исчезает почти буквально, его не ощущаешь, оно перестает быть. Об этом странном чувстве писал Роллан – в сцене свидания Кристофа с Адой. И вместе с тем каждая секунда насыщена такими безднами переживаний, что время как бы останавливается, и от одного удара пульса до другого проходит вечность.
Время любви как бы состоит из бесконечных внутри себя мгновений – но эти бесконечности мгновенны, вечности молниеносны. И эта вечность секунды и эта мимолетность часов сливаются друг с другом, превращаются друг в друга и порождают друг друга.
В горе, тоске секунды тягучи, расстояние между ними невыносимо велико, и сквозь них продираешься, как в ночном кошмаре. Вспомним, как тягостно Джульетте, которая разлучена с Ромео и для которой от заката одной секунды до восхода другой проходит вечность:
- … В минуте столько дней,
- Что, верно, я на сотни лет состарюсь,
- Пока с моим Ромео свижусь вновь.
И тут время делается долгим, но каторжно долгим, секунда набухает вечностью – но не радостной и сверкающей, а тоскливой и тусклой. Мгновение тоже останавливается, но оно умирает, и муки этого умирания невыносимы.
Законы, управляющие человеческим ощущением времени, – это законы парадокса: если человеку хочется, чтобы время шло быстрее, оно идет медленнее. Если человек хочет, чтобы время шло медленно, оно начинает бежать. Горестные, «отрицающие» чувства замедляют время, радостные, «утверждающие» – убыстряют его. Дух противоречия – это, наверно, главный дух, который управляет ощущением времени.
И здесь лежит явное несовершенство нашей психики. Вместо того чтобы медленно впивать секунды радости, мы опрокидываем их оглушающим залпом. А отрава горя сочится в нас медленно, падает с тяжелой расстановкой.
И получается, что страдания жизни мы часто видим увеличенными, как в бинокле, а радости – уменьшенными, как в перевернутом бинокле.
Эти свойства человека с давних пор были источником пессимистических теорий. Еще во времена эллинизма греческие философы говорили, что в жизни людей страданий больше, чем наслаждений, и поэтому счастья у людей быть не может. Громко звучали такие ноты в философии прошлого и начала нынешнего века, особенно в немецкой.
Горестные ощущения сильнее действуют на человека, чем радостные, говорили многие тогдашние мыслители; в жизни человека их больше и они острее. Сто лет назад, в 1869 году, Эдуард Гартман заявлял, что даже в любви страдания переживаются сильнее, чем радости, и поэтому люди должны отказаться от любви – любым путем, вплоть до кастрации.
Уже в наше время психологи и физиологи установили, что «перевернутое» ощущение горя и радости рождено самой нашей природой. В минуты радости, говорят они, в человеке царят процессы возбуждения, они ускоряют все ритмы нашего организма, и время от этого бежит быстрее. В минуты горя возбуждение пригашено, царят тормозные процессы, ритмы организма замедляют свой ход, и время идет медленно[67].
Горе и радости видятся так только в настоящем времени, только в тот момент, когда они переживаются. В наших воспоминаниях действует обратный закон – как бы закон «красного смещения»: горести забываются, исчезают из памяти, а радости остаются и занимают почти все ее пространство. Поэтому прошлое и вспоминается всегда так радужно. К сожалению, человек больше живет чувствами, чем памятью чувств; для наших ощущений есть только настоящее время, а прошлое воспринимается больше всего мыслью, разумом, – хотя и памятью чувств тоже.
Такое ощущение времени – вещь органическая, и оно, наверно, всегда будет утяжелять жизнь людей. Впрочем, может быть, кое в чем сумеет помочь здесь микропсихология, которая сейчас рождается. Может быть, она не просто научит нас ценить каждую крупицу радости, каждую ее секунду, а как бы и раздвинет ее просторы, увеличит ее вес – и смягчит этим несовершенство человеческой психики. (Впрочем, микропсихология может точно так же увеличить и размеры горестей, их вес, их остроту – и тогда «перевернутое» ощущение горя и радости может сделаться еще разительнее.)
Относительность человеческого времени чувствовали многие писатели и философы. Ее ощущали Толстой, Достоевский, о ней писали Платон, Спенсер, а совсем недавно о ней много и по-новому говорил Хемингуэй.
Вспомним еще раз Роберта Джордана. Ему осталось прожить семьдесят часов, которые до краев полны любовью к женщине и борьбой с фашистами. И он знает, что от всей жизни ему остались эти последние семьдесят часов. Он беспощадно трезв, он смел перед собой, и он думает: «Наверно, за семьдесят часов можно прожить такую же полную жизнь, как за семьдесят лет».
Его жизнь измеряется теперь секундами, и каждая секунда вырастает до огромных размеров, каждое дыхание, каждый толчок пульса делается гигантски насыщенным. В жизнь человека врывается новая цена времени, и – как под огромным микроскопом – пылинка времени вырастает в гору.
И Джордана охватывает горькое чувство человека, который потерял то, что не успел найти. Он ощущает, что ему остается только одно, и сводит свои ощущения к глубокой и мужественной формуле: «Наверстать в силе то, что не хватает твоему чувству в длительности».
Тут и лежит, наверно, ключ к его любви: наверстать в силе то, чего не хватает в длительности.
И Роберт Джордан стремится прожить целую жизнь за три дня, и оттого, что счет их любви идет на секунды, каждая из них делается громадной, и в душу человека входит иллюзия ее медленности. Они с Марией наслаждаются каждой этой секундой, они любят друг друга с такой силой, что эта сила как бы возмещает им краткость их любви. Закат времени – вот о чем говорит Хемингуэй, и оттого, что время идет к концу, ценность каждой его секунды резко разрастается. Секунда для Роберта Джордана – не просто двухсотмиллионная часть жизни, как для любого человека. Ее удельный вес громаден: сегодня она – миллионная часть его жизни, завтра – стотысячная, послезавтра – тысячная, сотая, десятая. И чем меньше секунд остается ему прожить, тем громаднее эта секунда, тем необъятнее ее внутренние просторы – и тем мгновеннее она пролетает.
* * *
Ученые говорят, что мерило времени – это одинаковые и ритмические явления: колебания атома, обороты земли вокруг своей оси и т. п. В обычных для земли условиях эти ритмы не меняются, и время течет с постоянной быстротой.
Но мерилом времени могут быть и социальные ритмы, ритмы перемен в жизни общества и в жизни каждого человека.
Все знают, что ритм социального времени был разный в разные эпохи. Одна скорость была у времени в пещерные времена, другая в эпоху Античности, третья – в Новое время, в эру машинной цивилизации.
Американские индейцы говорили когда-то: «Завтра – это только другое имя для сегодня». Жизнь влеклась тогда медленно, уклад ее был одинаковым у дедов, отцов, внуков, завтра ничем не отличалось от вчера и от сегодня.
Но уже много лет назад течение времени начало ускоряться. В году сейчас столько перемен, сколько раньше вмещалось в десять. Число событий на единицу времени выросло во много раз, – а ведь именно ритм этих перемен и создает скорость времени, его насыщенность.
Конечно, у этого ускорения времени есть свои перегрузки, свои тяжести, и они гнетут людей, истощают их, мешают им жить. Надсадный темп жизни – особенно городской, – рабочая гонка, постоянное подхлестывание, желание перегнать, боязнь отстать – все это рождает в людях нервное истощение, отравляет их души, судьбы.
Раньше время для людей было бестелесной, чисто идеальной вещью. Сейчас оно делается ощутимым, зримым, становится как бы «четвертым измерением» жизни. Пробита огромная брешь в представлении, что время – это просто обороты земли вокруг солнца.
Календарное время – это время механическое, внешнее, оно хорошо подходит к природе, которая живет равномерно, в одном ритме, и хуже – к человеку. Ибо это не индивидуальное, а уравнительное время, безликое, отчужденное от человека.
Психологическое время, личное время – это, наверно, и есть истинное время, которое прожил человек. Можно ведь прожить сто лет – и большинство из них будут пустыми годами. И можно жить так, чтобы в каждый день вмещалась неделя, в каждый год – десятилетие.
Психологическое время – это время личности, и ход его зависит от содержания времени, от его насыщенности, а не от того, сколько раз земля обернется вокруг себя и вокруг солнца.
«Время личности» показывает, как наполнена жизнь человека переменами, сдвигами, событиями. Богатство новых впечатлений, действий, качественных перемен – это и есть богатство времени. У кого их больше, тот и жил больше, хотя другие могут жить дольше.
Такой подход к времени многое меняет в жизни человека. Он ведет к стремлению, чтобы в жизни не было пустых секунд, чтобы каждый атом времени был до краев полон жизнью. Секунду не вернешь, она бывает только один раз, она – та песчинка, которая пересыпается в часах природы и составляет один микрошаг времени. И нельзя обронить ни песчинки из той маленькой горсти, которую отпустила нам жизнь, нельзя прожить ее впустую, потому что она – крупица твоей жизни, потому что она необратима.
Такой подход может в корне изменить ощущение потерянного и полезного времени, он может привести к новому взгляду на мир, к тому, что жизнь начнет измеряться не по шкале лет и месяцев, а по шкале часов и секунд.