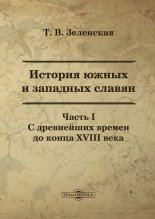Три влечения. Любовь: вчера, сегодня и завтра Рюриков Юрий
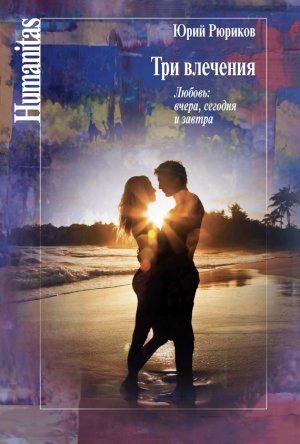
Ламонт пишет, что смерти подсудны не все живые существа, и в живой природе она появилась не на первых ступенях эволюции. Масса одноклеточных организмов не знает смерти, говорит Ламонт вместе с другими биологами. Не успев умереть, организм делится, так что из одного существа получается два, и после этого деления не остается никакого трупа. Жизнь амебы или инфузории не прерывается, она просто переходит в две новые жизни. Такое деление может идти бесконечно, и амебы поэтому бессмертны[134].
Долго могут не умирать и целые группы клеток, которые даже отделены от тела. Ламонт рассказывает про опыт, в котором ткань от зародыша цыпленка сохранялась живой и здоровой тридцать четыре года (в переводе на человеческую жизнь это больше двухсот лет). Ткань, пишет он, можно было сохранить на любой срок, – «на сколько ученые захотели бы продлить ее жизнь», – но задачи опыта были решены, и он был прекращен.
Выходит как будто, что бессмертия можно достичь. И кто знает, что будет, когда биология соединится с химией и с физикой и раскроет тайны живой жизни? Может быть, в каком-то космически далеком будущем наука постигнет тайны бессмертия и сумеет сделать людей бессмертными?
И тогда, наверно, люди резко изменятся, станут тем, чем были для нас боги. Изменится вся их естественная природа – и биологическая, и психологическая, и интеллектуальная, и этико-моральная. Изменится весь строй их чувств, весь склад сознания, вся система отношения к миру.
В нынешнем человеке все настроено по камертонам конечности, смертности; настройка эта пронизывает все в нем – от строения тела до строения чувств, от мельчайших привычек до всех основ этики, гуманизма, общественных отношений. Чтобы стать бессмертным, человеку придется стать за-человеком, над-человеком.
Жизнь этого нового существа могла бы стать кардинально другой. Исчез бы страх смерти, страданий, исчезла бы тоска, которая так мешает жить людям, прощающимся с молодостью. В царстве изобилия, без всяких нехваток, люди могли бы бесконечность времени наслаждаться жизнью. Исчезла бы суета, надсадный темп жизни, перегрузки от ускорения времени, яростная спешка. Пропала бы зависть и конкуренция между людьми.
Каждый из них смог бы бесконечно совершенствоваться во множестве областей, каждый мог бы через длинную вереницу лет стать гением науки, искусства, сделать великие открытия. Исполнилась бы мечта Фауста о вечной молодости, о соединении юности с мудростью. Необыкновенно расцвела бы любовь, ее нынешняя краткость сменилась бы вечностью. Каждый смог бы знать все, повидать все, перебывать везде.
Новые и интересные занятия, постоянные перемены труда, утоление всех потребностей, поразительно полная и не имеющая конца жизнь, – все это могло бы создать на земле новую расу, которая жила бы счастливейшей жизнью.
По такой – или примерно такой – логике могли бы представлять себе бессмертного человека сторонники бессмертия. Логика эта очень заманчива, очень привлекательна, – хотя и насквозь утопична. И нет, к сожалению, никаких гарантий того, что дело обстояло бы именно так.
Все могло бы пойти и наоборот, и с такой же – если не с большей – вероятностью. Жизнь могла бы остановиться, люди потеряли бы стимулы, которые их толкают вперед. Если мы вечны, – зачем торопиться улучшать жизнь, зачем страдать от мук творчества, от мук поисков? Не спокойнее ли жить без опасностей, без хлопот? А если уж они нужны, то они никуда не уйдут; ведь перед каждым из нас длинная череда будущего в тысячи и миллионы лет.
Достигнув какого-то уровня довольства, избавив себя от главных тягот, люди могли бы застыть, замереть в этом довольстве.
Бесконечное повторение одних и тех же впечатлений могло бы родить пресыщенность, притупить вкус к жизни, пригасить яркость чувств, переживаний, – в том числе и любовных. Однообразие их приносило бы с собой душевную усталость. Люди надоели бы друг другу, потому что за бесконечность времени они бесконечное число раз виделись бы каждый с каждым, дружили и ссорились – каждый с каждым.
Возможно, что каждый знал бы каждого, как самого себя, возможно, что все стали бы родственниками, ибо за бесконечность лет каждый мужчина мог бы перелюбить всех женщин, а каждая женщина – всех мужчин. Население земного шара нарастало бы гигантской лавиной, и между любителями нормальной и спокойной жизни, которые не захотели бы переселяться в космос, началась бы борьба и конкуренция. Теснота и скученность портили бы жизнь людей, отравляли их психику.
Скука жизни могла бы бросить их в буйство излишеств, тормоза с эгоистических инстинктов были бы сняты, и в людях мог бы вспыхнуть эгоцентризм и равнодушие к своим ближним. Зло и жестокость могли бы усилиться, – и они не рождали бы угрызений совести, потому что не вели бы к смерти.
… Что здесь верно, какими могли бы стать бессмертные существа, – представить, пожалуй, нельзя. Вся наша психология настроена на волны конечности, и вообразить психологию бесконечности мы попросту не можем.
Психология бессмертия – если бы она возникла – была бы, наверно, просто несравнима, несопоставима с нашей. Она не имела бы с ней никаких точек касания, она развивалась бы совсем в другой шкале отсчета и измерялась бы недоступными, чуждыми нам мерами.
Тут надо сказать о бессмертии еще несколько слов. Проблема бессмертия все больше занимает в последнее время массовую печать. Газеты, журналы, радио, книги, выходящие стотысячными тиражами, то и дело говорят о ней.
Серьезные ученые пишут о бессмертии осторожно: «может быть», «не исключено», «неизвестно, достижимо ли», «сейчас невозможно». Совсем в других тонах – захлебывающейся уверенности – говорят о бессмертии популяризаторы, журналисты, фантасты. Называют даже точные цифры, когда оно появится. В шестидесятые годы английский астроном и фантаст Артур Кларк составил шкалу будущих достижений человечества, и по этой шкале бессмертие должно быть достигнуто где-то в конце XXI века. Газеты и журналы многомиллионными тиражами известили об этом читателя.
Необыкновенные успехи наук рождают у нас новый, – и массовый, – вид упрощенного оптимизма – «атомно-кибернетического». Этот оптимизм несет с собой особое мироощущение: человек все может, для людей нет ничего невозможного, законы природы – не законы, и человеку ничего не стоит переступить их. И фантасты заставляют своих героев за атомы времени преодолевать бесконечность пространства, легко и просто дарят им вечность, бессмертие.
Все явственнее формируется психология этакого атомно-кибернетического шапкозакидательства. Она еще не писана, не формулирована, но она уже витает в воздухе и сама делается воздухом, которым мы дышим. Эта иллюзорная психология несет с собой очень сильное убаюкивающее влияние; она успокаивает, обманывает людей, она отвлекает их от реальных – и колоссальных – трудностей на пути человеческой эволюции, отвлекает от острых, насущных и нерешенных проблем сегодняшней жизни – социально-политической, культурной, бытовой. Это как бы эмоциональный опиум, похожий на серийные детективы и повальную футболоманию болельщиков, только рангом повыше.
Что касается бессмертия, то достижение его было бы вещью не очень естественной – и, может быть, даже противоестественной. Люди как бы овладели абсолютной истиной, сравнялись бы с бесконечностью, стали богами. Бессмертие, если оно было бы достигнуто, стало бы смертью человеческой расы.
Возможность эту, конечно, нельзя исключить: вполне вероятно, что если нынешние гипотезы о бессмертии сбудутся, то на смену человеческому роду придет какой-то другой род. Но не менее вероятно, что этого не случится, не менее вероятно, что бессмертие не будет достигнуто; и если даже оно станет технически возможным, люди могут отказаться от него, ибо бессмертие расчеловечивает человека, меняет всю его природу, – и неизвестно, в какую сторону, в лучшую или в худшую.
Кстати говоря, смерть, умирание – это нормальное явление природы, такое же нормальное, как и рождение. Больше того: смерть – это условие жизни, это самый мощный двигатель живой эволюции на земле. Без смерти не было бы никакого естественного отбора, никакого совершенствования живых существ, никакой смены одних видов другими. Без смерти, говоря словами Ламонта, «животное, известное под названием человека, вообще никогда не появилось бы»[135].
«Смерть сама по себе, как явление природы, – говорит он, – это не зло». «Смерть открывает путь для наибольшего возможного числа индивидуумов, включая наших собственных потомков, с тем чтобы они могли испытать радость жизни, и в этом смысле смерть – союзник нерожденных поколений людей вплоть до бесконечных веков будущего»[136].
У Мечникова есть известная теория ортобиоза (правильной жизни), и она говорит, что тяга к бессмертию возникает больше всего из-за укороченности человеческой жизни. Когда продолжительность ее достигает 120–140 лет, инстинкт жизни, не насыщаемый сейчас, будет насыщен, к концу жизни люди будут чувствовать усталость от нее, и тяга к бессмертию не возникнет.
Трудно сказать, прав ли тут И. И. Мечников, – отдаленные поколения разберутся в этом. Но между тягой к бессмертию и к долгой жизни есть, конечно, большая разница, и вряд ли можно забывать о ней, думая обо всех этих вещах. И если бессмертие может отрицательно повлиять на любовь, то продление жизни, продление возраста любви может быть для нее только благотворным.
Парадоксы Фурье
Очень по-французски писал о будущей любви Фурье. Он хотел, чтобы она давала людям как можно больше счастья, была даже основой всей их жизни. В его утопических построениях царит полная свобода любви. Для Фурье это исключительно важно, потому что «счастье или злосчастье человеческих обществ было соразмерно принуждению или свободе, которые они допускали»[137].
Каждый у него действует по желанию, любит по склонности – кого хочет и как хочет. В любви, пишет Фурье, нужны будут вкусы всякого рода. И любовь в его обществе самая разная – долгая, временная, мимолетная, – и от того, к какой любви привержены его люди, они делятся на разные любовные разряды.
Первый разряд – супругов и супруг, которые вступают в долгую и прочную связь и заводят потомство.
Второй разряд – дамуазелов и дамуазелей, приверженцев временного союза. Они меняют свою связь, когда гаснет их любовь, но каждый раз связаны только с одним человеком.
Есть у Фурье весталки и весталы, «весталитет, допускающий только рыцарское ухаживание или духовное наслаждение без физического удовлетворения»[138]. Есть там и другая платоническая корпорация – сентименталов и сентименталок, и в ней царит свой, более задумчивый вид платонизма.
На другом полюсе любовного мира стоят у него вакханки и вакханты (или галанты и галантки), пылкие и страстные в любви, готовые любить каждого и часто менять привязанности.
Будущая любовь у Фурье – букет из всех видов любви, которые встречались на земле, от древности до наших дней. Такая любовь, говорит он, удовлетворит все вкусы, «будет представлять счастливые возможности для всех характеров»[139] и даст людям невиданное счастье.
Но все влюбленные состоят у него в трудовых армиях, и над сложной системой их любовных связей Фурье возводит громоздкую надзорную иерархию. Во главе этой иерархии стоит высокая матрона – министр любовных отношений; у нее есть заместители – вице-матроны, и каждая из них руководит своей любовной серией, принимает и рассматривает прошения своих подчиненных, следит за соблюдением правил.
Многие, наверно, уже заметили, что этот мир любви сплетен из французского вольномыслия и немецкого педантизма. Странно совмещается в нем многоликость любви – и ее регламентация; ее абсолютная свобода – и сдерживающая иерархия любовных властей. Возникает забавный парадокс, смешение двух несмесимых крайностей – вроде людоедства и вегетарианства: анархия в цепях бюрократии, стихия безвластия в смирительной рубашке власти.
Впрочем, парадокс здесь неслучаен, и крайности сошлись не зря. Плотины надзора нужны Фурье, чтобы сдержать наводнение любовной стихии, иерархические переборки нужны, чтобы эта стихия не разбушевалась, не вырвалась на свободу.
О любви как чувстве Фурье, в отличие от Годвина, не пишет. Ему, французу, не нужны туманные английские рассуждения о какой-то сверхджентльменской дружбе. Он знает, что вино есть вино, а вода есть вода, и хочет, чтобы у людей было побольше вина, и самого разного – от терпких молодых напитков до коллекционных редкостей. Тут его система притягательнее, чем у Годвина, – хотя и она, конечно, далека от идеала.
Разговор о грядущей любви – вещь непростая, представить себе, какой она станет в будущем, очень трудно. Тайны любви умножаются здесь на тайны будущего, и вокруг любви возникает двойная завеса загадок. Пророчествовать и предрекать здесь – как и вообще – нелепо, поэтому и разговор о грядущей любви может быть только очень сослагательным, очень предположительным – и в самых общих формах.
Жизнь так сложна, как ни один лабиринт Минотавра, и у нее не единственный выход, как в этом лабиринте, а несколько. Она, может быть, одинаково идет по дорогам, предвиденным и не предвиденным нами (и может быть, даже больше по непредвиденным). Люди, скажем, давно ждали полетов в космос, и тут жизнь пошла по предугаданному пути. Но кто из нас ждал, что появится кибернетика, эта великая наука, которая совершает гигантский переворот в массе других наук, в технике, в промышленности, в методах управления производством и обществом – во всей нашей жизни?
Дорога в будущее ведет путями неожиданности не меньше, чем путями предвиденности. И поэтому многое в разговорах о будущей семье и любви – как и в любых гипотезах вообще – должно строиться на «может быть».
Правда, у этих предположений есть и своя опора, так что они могут в чем-то оказаться и вероятными. Если подходить к любви как к «тени» человека и «тени» его среды, то, может быть, какие-то догадки о ее судьбах могут оказаться и не совсем беспочвенными.
Думая о будущем, часто спрашивают себя, какую роль станет играть любовь в жизни наших потомков. Сможет ли, например, снова родиться такой культ любви, какой был когда-то в Провансе и у арабов?
Об этом спорили многие утописты, об этом писали и в прошлом и в нынешнем веке. Фурье, например, говорил: будущее «откроет для любви столь блестящее и столь разнообразное поприще, что любовные повести строя цивилизации будут рассматриваться с чувством презрительного наслаждения»[140]. Такие же взгляды исповедовал Луначарский. «Человечество, освобожденное от гнета труда и рабства… – писал он, – из половой любви создаст такие шедевры счастья и наслаждения, о которых мужчине и женщине прежних поколений и не снилось».
Может быть, так оно и случится, вполне возможно, что любовь будет давать нашим потомкам невиданные наслаждения (хотя, может быть, тут есть и романтические иллюзии). Но если новый культ любви и возникнет (а предвидеть это попросту невозможно), он, видимо, не будет простым повторением старого.
Если сбудутся нынешние идеалы – исчезнет пожизненное распределение разных видов труда между разными группами людей, пожизненное закрепление человека в рамках узкой профессии. Впервые человек сможет насытить свою естественную потребность в смене занятий, в разносторонности всей своей жизни.
Если это произойдет, в одном человеке как бы сольются несколько частичных людей, существовавших до этого разобщенно. Возникнет новый тип человека – «человек-оркестр», истинно родовое существо. И возможно, у любви этого человека появится одна важная – и небывалая до этого – особенность. Если он соединит в себе одном какие-то свойства предшествовавших ему человеческих типов, то и любовь его, может быть, сумеет вобрать в себя какие-то свойства из старых видов любви и сделается их сплавом, их слиянием.
Она станет, может быть, пиром всех чувств, как у индусов и у арабов, наслаждением светлой языческой красотой, как у эллинов, поклонением духовной прелести, как у провансцев, наслаждением всеми свойствами души и тела, как во времена Возрождения, уважением к свободе личности, как в Новое время.
Впрочем, вполне может быть, что этого идеального сплава и не возникнет, и любовь просто сделается в чем-то другой, чем сейчас.
В ней не будет, видимо, убогой узости, не будет ханжеского шарахания от тела, ломового открещивания от духа. Сумма ее чувств может обогатиться и усложниться, сами они могут утончиться, стать более совершенными.
Но при всем этом может случиться так, что культа любви, ее обожествления и не возникнет.
Не исключено, что потребности в любви будут у наших потомков не такими огромными, как нам кажется; может быть, сейчас, когда эти потребности насыщаются мало, наш голод по любви увеличивает саму эту потребность в нашем воображении. И если это так, то, может быть, у наших потомков на смену голодной потребности в любви придет потребность более естественная, спокойная.
Сейчас из многих сторон жизни любовь – чуть ли не самая манящая, она приносит людям самые большие радости и наслаждения. Но если другие стороны человеческой жизни очеловечатся и будут давать радости, которых они никогда не давали раньше, – может быть, ореол несравнимости, который горит вокруг любви, станет меньше.
Обожествление любви рождается ведь не только прелестями самой любви, но и тяготами остальной жизни. Наверно, люди ждут так много от любви и потому, что хотят – бессознательно, стихийно – восполнить ею хроническую сейчас нехватку радостей, перекрыть этой радостью то горе, которое дает им жизнь. И если этого горя будет меньше, то, может быть, и тяга к любви будет не такой жадной, как мы думаем.
Впрочем, так это будет или не так – можно только предполагать, не больше: сама методология разговора о будущем всегда строится на гипотетичности.
Будет ли в обществе изобилия изобилие в любви? Вопрос этот не простой, и ответить на него не так-то легко. У многих сейчас в ходу сытое представление об изобилии; оно для них – такое половодье всех благ, при котором можно без труда насытить любые свои потребности. Это, конечно, мещанский подход. Вряд ли такая жизнь наступит: все мы знаем, что рост потребностей всегда обгоняет рост возможностей, – это железный, хотя и неприятный закон истории.
При материальном изобилии смогут, видимо, насытиться бытовые нужды людей, их основные материальные потребности – в еде, одежде, жилье, в предметах обихода, в технике быта. Впрочем, насыщение нужд на новые вещи, сейчас входящие в обиход, будет, видимо, отставать от этих нужд. Спрос тут всегда будет огромным, а предложение – небольшим, и нужды на эти вещи смогут насыщать сначала единицы.
Новые вещи будут рождаться волнами, их всегда будет сначала не хватать, и хотя первейшие жизненные нужды людей будут насыщены, но нехватки останутся, и они будут, конечно, создавать психологические неудобства. При этом надо учесть, что техническая цивилизация меняет здесь психологию человека, рывком повышает в его глазах ценность новых вещей. Тяга к ним делается одной из главных материальных потребностей человека, и возможно, что у будущих поколений эта тяга станет еще сильнее.
Полное изобилие недостижимо, – это значило бы, что ход жизни остановился, людям довольно того, что у них есть, и не нужно ничего нового. Оно могло бы возникнуть, если бы у людей перестали рождаться новые потребности, если бы наука, техника, искусство застыли, окостенели, перестали бы идти вперед. И сплав обилия и нехваток всегда, видимо, будет пружиной, двигателем развития.
И в высших сферах человеческой жизни обилие не перестанет, скорее всего, сочетаться с нехватками. Никогда, например, не будет изобилия в одной из главных для человека вещей – изобилия времени; людям всегда будет не хватать его, хотя, может быть, острота этой нехватки и станет меньше. Не может быть у людей и изобилия знаний, умений, изобилия разносторонности – их всегда будут ограничивать здесь и сроки их жизни и технические и психологические возможности.
Наверно, всегда будут нехватки и в насыщении индивидуальных нужд, тех, которые возникают в личном общении людей. Так будет, наверно, с потребностями в счастье, в красоте, в любви, в дружбе, с тягой к новым впечатлениям, со стремлением к полноте жизни. Все эти потребности будут, наверно, удовлетворяться не полностью, частично, «не по потребности».
Принцип «по потребности» вообще касается только тех типовых материальных нужд, которые насыщает общество. В индивидуальной жизни, в духовной жизни людей он вряд ли может осуществиться. Это значило бы безграничное удовлетворение потребностей, а безграничность тут попросту невозможна. И изобилие здесь – как и вообще – будет относительным.
Какое изобилие любви может быть у меня, если я люблю женщину, которая любит другого? Какое изобилие любви будет у меня, если я не люблю женщину, которая меня любит, если я не могу встретить женщину, которую полюбил бы? Мои потребности в любви останутся неудовлетворенными, будут рождать страдание, боль, тоску.
И если даже люди станут охотнее любить друг друга и легче дарить друг другу свою любовь, и если время их любви будет дольше, чем сейчас, и если сама эта любовь будет счастливее и ярче – все равно рая любви на земле не будет. Изобилие любви могло бы появиться только в одном случае: если бы на каждый «спрос» отвечали тут «предложением». Но любовь – как и многое другое – не дается и никогда не будет даваться «по потребности».
Несколько слов о вечных дисгармониях любви
Грядущие люди будут, видимо, относиться к любви как к важнейшей части их жизни. Но, наверно, они будут жить разносторонне, и в смысл их жизни будут входить наслаждения и от всех других видов человеческой жизни.
В самой жизни, конечно, тут не обойдется без противоречий. Любовь деспотична, она подчиняет себе человека, и, наверно, она будет забирать себе столько его сил, что от этого будут страдать другие его тяготения, другие привязанности. Наверно, во времена ее взлетов человеческая жизнь станет сужаться, как это бывает и сейчас, человек будет жить одной только любовью, будет стремиться только к ней.
Будут ли какие-нибудь утраты в любви, станет ли она в чем-то слабее, чем прошлые виды любви? Конечно, что-то она утеряет, но что именно – вопрос этот, видимо, так и останется для нас вопросом. Может быть, сила ее не будет такой лавинной, как у Руставели, когда она испепеляла людей, рвалась из них водопадом, вырывалась вулканом; а может быть, утраты в любви пойдут по другим линиям. Если глубина ее будет расти, то и противоречия ее, видимо, будут расти так же сильно, и горе, которое они смогут причинить людям, тоже будет ошеломляющим.
Одно противоречие, один диссонанс тут, видимо, можно и сейчас предвидеть, потому что он действует и в жизни теперешних людей. Если грядущие люди станут по преимуществу творцами, то между их тягой к любви и тягой к творчеству могут возникнуть сильнейшие схватки, и они будут вызывать в человеке болезненное двоение.
Может усилиться, стать куда более резким, чем сейчас, и еще одно противоречие любви. Если индивидуальность грядущих людей будет рельефнее, чем у нас, если психология их станет сложнее, то могут резко вырасти моменты неразделенности в разделенной любви, моменты естественных несхождений и разногласий.
Любовь, конечно, никогда не превратится в идиллию, потому что и жизнь никогда не будет идиллией. В ней всегда будут свои горести и свои тяготы, и если даже они будут не такими частыми, то тем более режущей станет для людей их острота.
Может быть, навсегда – или пока не переменится многое в человеке – останутся в любви и сотрясения, которые происходят от самой человеческой природы.
«Человеческая природа, – писал об этом Мечников, – во многих отношениях совершенная и возвышенная, тем не менее проявляет очень многочисленные и крупные дисгармонии, служащие источником многих наших бедствий». Мечников называет больше ста частей и органов человеческого тела, которые почти не нужны человеку, а то и вредны ему.
Есть большие несовершенства и в самих основах человеческой психики. Так, наша память, «способность сохранять следы психических процессов», появляется куда позднее многих других способностей мозга. И сам инстинкт жизни дисгармоничен: он почти молчит у молодых людей – отсюда и частая в этом возрасте безрассудная смелость, – и он тем сильнее, чем ближе смерть.
Но особенно сильны дисгармонии в любовной жизни.
У всех людей, пишет Мечников, есть разрыв между половым созреванием и общим созреванием. Половая тяга появляется задолго до общего созревания человека и не исчезает долго после того, как человек стареет.
Потребность в любви, тяга к ней рождается в двенадцать-тринадцать лет – почти вдвое раньше, чем происходит физиологическое, психологическое и социальное становление человека. Половая зрелость у европейцев наступает в двенадцать-четырнадцать лет, а средний брачный возраст у них на десять лет больше. Это громадный разрыв, и он очень сильно влияет на всю жизнь людей.
Между способностью человека любить и способностью родить тоже есть разрыв во много лет: тело женщины лучше всего развивается для родов только к двадцати двум – двадцати четырем годам. И тут, говорит Мечников, существует резкая дисгармония: тяга к любви появляется тогда, когда тело женщины, особенно ее тазовые кости, не приспособлено для нормальных родов.
Вообще, как считают медики, раннее начало половой жизни плохо действует на здоровье и на психику, еще слабую, еще только складывающуюся. Как у детей, слишком рано начинающих ходить, искривляются ноги, так и тут могут появиться психологические искривления.
В любви людей есть еще одна – очень сильная – дисгармония: у девушек чувственность просыпается позднее, чем у юношей, – иногда на несколько лет, часто только после женитьбы и даже после родов. Поэтому-то любовь молодых девушек куда чаще бывает платонической. Позднее, чем у мужчин, приходит к женщинам и апогей чувственности; обычно бывает это после того, как у мужчин эта чувственность уже прошла свою высшую точку. И, наконец, в пожилом возрасте, когда половые силы людей уже гаснут, у них часто – и на много лет после этого угасания – сохраняется чувственность и влюбчивость.
Все это рождает и, видимо, всегда будет рождать множество разладов между людьми, вносить в их любовь смуты, противоречия, тяготы.
В человеке есть еще одно несовершенство, которое часто влияет на его любовь. Оно, правда, лежит за пределами любовной сферы, но оно кроется в самом строении мозга и поэтому влияет на многое в нашей жизни.
Мышлением человека ведает одна часть мозга, а другая часть – это вместилище эмоций. Эта часть, которая в ходе эволюционного процесса появилась первой, часто вступает в конфликт с другой частью, подсознание действует наперекор сознанию.
Выходит, что в мозгу есть как бы два лагеря, и они часто враждуют друг с другом. Можно ли установить мир между ними?
Возможно, что через тысячи и тысячи лет кора мозга – эта новая, еще очень молодая эволюционная надстройка в мозгу – гармонично, без нынешних швов, сольется со старыми, еще «животными» фундаментами. Двоение и биение чувств может уменьшиться, аккорды их станут не так сильно диссонировать. Все это не исключено, хотя и трудно сказать, когда это будет и тесно ли срастутся сознание и подсознание. Сейчас, во всяком случае, «швы» в строении мозга, резкие несогласованности в работе его этажей явно влияют на любовь.
И эти швы, и непомерно раннее развитие чувственности, и позднее ее угасание, и разрыв между половым и общим созреванием, и неравномерности в развитии половой тяги у женщин и у мужчин, – все эти биологические дисгармонии лежат в самой природе человека, и все они служат источником вечных противоречий любви.
Возможно, что в будущем люди сумеют как-то уменьшить эти противоречия, найдут средства, которые смогут пригасить их силу. Возможно, что и сама физическая природа человека будет с ходом веков совершенствоваться в своих основах. Но пока дисгармонии ее останутся такими, как сейчас, они будут приносить в человеческую любовь горе, беды, тоску.
Нравы и обычаи. Самое сложное в любви
Есть ли лекарство от неверности?
В начале XX века философ и писатель А. Богданов выпустил роман «Красная звезда», одну из самых интересных русских утопий. Герой романа, Леонид, русский революционер, попал на Марс и застал там коммунистическое устройство жизни. У марсиан его поразил обычай двойных любовных связей. Он узнал, что женщина, которую он полюбил, была до этого возлюбленной двух своих товарищей сразу. И сам он в каком-то угаре сближается и с этой женщиной, Нэтти, и с ее подругой, Энно. Его терзает это сплетение, он мечется в тяжелом треугольнике, и вдруг он видит, что их совсем не смущает эта двойная связь.
У марсиан свои нравы в любви, и они верят, что любовь один на один рождена собственничеством. У них нет собственничества, нет поэтому и «единолюбия», они любят «трио», «квартетами» и не признают здесь ограничений. И метанья Леонида стихают, он соглашается с ними.
Он думает: «Нэтти была женою двух своих товарищей одновременно? Но я всегда считал, что единобрачие в нашей среде вытекает только из наших экономических условий, ограничивающих и опутывающих человека на каждом шагу, здесь же этих условий не было, а были иные, не создающие никаких стеснений для личного чувства и личных связей».
Вряд ли это удачно – с такой прямолинейностью выводить любовные обычаи из экономики. С таких позиций трудно понять, почему собственничество родило в Европе единобрачие, а в Азии и в Африке – многоженство, которое, кстати, живет до сих пор у многих азиатских и африканских народов. Богдановские марсиане похожи здесь на вульгарных социологов, для которых все на земле растет только из экономики.
«Красная звезда» была написана в 1908 году. В то время двойная и даже тройная любовь была частым гостем в литературе, и проблема – можно ли любить сразу нескольких – волновала многих людей.
Блоку попал тогда в руки дневник женщины, который он хотел издать и к которому написал предисловие. Блок говорил там: «Эта женщина, не читавшая ни новых, ни старых литераторов, убедительно показывает, что такая двойная любовь действительно бывает»[141].
Блок говорит именно о любви, а не о простом сожитии, его женщина испытывает любовь к двум людям сразу, и тут, наверно, лежит еще одна загадка любви.
И хотя обычная любовь – это любовь одного к одному, бывают, видимо, и двойные влечения, запутанные сплетения чувств. Если судить по искусству, то чаще, чем на Западе, они встречаются на Востоке. Знаменитый китайский писатель Пу Сун-лин, который жил в XVII – начале XVIII века, много писал о таких двойных или тройных связях в своей книге «Лисьи чары».
В новелле «Невеста-монахиня Чень Юнь-ци», например, влюбленный юноша три года добивался любви молодой монахини и наконец женился на ней. А немного спустя подруга его жены, тоже влюбленная в юношу, становится его второй женой. Устраивает эту женитьбу сама первая жена, юноша любит обеих, и все они живут в мире и согласии.
Такая жизнь втроем – и с любовью – встречалась и у персов, и у индусов, и она не была чем-то невероятным. У китайцев, например, многие люди кроме жены имели наложницу, а две жены одного человека (или две женщины, которых он любил) считались – и назывались – сестрами.
Разнообразие в любви, постоянство и непостоянство, перемена симпатий, «измены» – все это давно занимает людей, и они думают, нельзя ли устранить их неизбежность. Мнения на этот счет были самыми разными. Энгельс писал, например, что «против супружеской неверности, как против смерти, нет никаких средств»[142]. Встречались и люди, которые думали обратное.
Антуан Эроэ, французский поэт XVI века, измыслил хитрый проект такого избавления. Героиня его поэмы «Совершенная подруга» занялась самосовершенствованием и соединила в одной себе все свойства, которыми может быть пленен мужчина. И поэтому она всегда может быть такой женщиной, какая нужна ее возлюбленному.
- Он ищет красоты – прекрасной стану,
- Ума – божественной пред ним предстану,…
- Все, что он хочет, что любовь желает,
- Что знает он, иль слышит, иль читает…
- Все радости во мне находит он —
- Так чем в других он будет соблазнен?
И хотя она знает, что людям нужны перемены, нужно разнообразие, это не пугает ее. Она говорит:
- И если трудно верным быть одной,
- Он тысячу найдет во мне самой:
- Коль хочет, пусть меняет их беспечно,
- Все ж от меня не отойдет он вечно.
Такой, по Антуану Эроэ, должна быть идеальная возлюбленная. Тысячу разных женщин должна она соединить в себе, и тогда ей не будет грозить непостоянство, – ибо если ее возлюбленный и станет изменять ей, то с ней самой.
В истории искусства были и другие поиски лекарства, которое могло бы вылечить людей от непостоянства.
Стендаль, например, говорил о причинах непостоянства: «Чем больше физического удовольствия лежит в основе любви… тем более любовь подвержена непостоянству и в особенности неверности»[143]. Он считал, что «верность женщины в браке без любви – вещь, вероятно, противоестественная», и тут никакого лекарства быть не может, да и не нужно: «В браке без любви, менее чем через два месяца, вода источника становится горькой. Но в природе человека – всегда нуждаться в воде».
Другое дело в любви. «Когда любишь, – писал Стендаль, – не хочешь пить другой воды, кроме той, которую находишь в источнике. Верность в таком случае – вещь естественная»[144].
Две тысячи лет назад Тибулл в своих стихах говорил о том, как он пытался забыть возлюбленную после разрыва с ней:
- Часто других обнимал, но Венера при первых же ласках,
- Имя шепнув госпожи, вмиг охлаждала мой пыл;
- Женщины, прочь уходя, кричали, что проклят я, верно,
- Стали шептать – о позор! – что я в колдунью влюблен.
- Я не заклятьем сражен, но рук и лица красотою,
- Золотом светлых кудрей нежно любимой моей.
Любовь к одной женщине сама удерживает его от тяги к другим. Как говорит Олдингтон, «влюбленный – самый целомудренный из мужчин… ему нужна только одна женщина».
Эти чувства испытывает даже Дон Жуан, этот Алкивиад любви, – правда, юный и, правда, байроновский. Влюбленный в Гайдэ, он дважды отвергает искушение, причем один раз во дворце султана, где ослепительная одалиска влюбляется в него и открыто предлагает ему свою любовь.
Такую настроенность любовь рождает в самых разных людях – разного возраста, характера, темперамента, взглядов. Как писал Эсхил в «Эвменидах»:
- Прочней любовь связует брачным ложем двух,
- Чем клятвой Правда: сладко им обет блюсти.
С непонятной – и естественной – загадочностью любовь как бы запирает на замок какие-то – тоже естественные для человека – порывы, и все его влечения, как луч, направляются на одного человека. И такая направленность живет не просто в сознании человека, а и в мире его чувств, его стихийных порывов.
Все мы знаем, что в стихии пола больше типовых влечений и меньше влечений личных, индивидуальных, чем в духовных чувствах. Вселяясь в человека, любовь как бы перестраивает и эту стихию, пронизывает и ее индивидуальной настроенностью. Но когда кончается любовь, кончается и эта настроенность.
Человеку, который не любит, куда труднее здесь – у него нет этого иммунитета, и от стихийного рывка чувств его может удержать только сознание. Оно именно удерживает его, появляется момент сдерживания, в человека проникает разлад между чувствами и волей, зовом пола и окриком сознания, стихией влечений и барьерами морали…
Верность, постоянство – вещь не такая простая, как думают сторонники черно-белой морали. Когда человек полюбит другого – чему это неверность, чему измена?
Само понятие измены, неверности родилось во времена собственнической морали. Словом «измена» называли любую неверность супругов, не интересуясь при этом, замешана здесь любовь или нет.
Эта мысль была основой и мещанской, и домостроевской, и религиозной морали. Она вся пронизана доличностным, «видовым» отношением к человеку, вся пропитана ощущением, что личные его чувства и потребности не входят в шкалу решающих человеческих ценностей.
Но уже давно, говоря словами Энгельса, «появляется новый нравственный критерий для осуждения и оправдания половой связи; спрашивают не только о том, была ли она брачной или внебрачной, но и о том, возникла ли она по взаимной любви или нет?»[145] И этот новый критерий – любовь – решает тут все. Где есть любовь, там нет разврата, они несовместимы друг с другом, противоположны друг другу, и это азбучная пропись личностной морали.
Вспомним «Солнечный удар» Бунина. Молодая женщина, едущая к семье, и армейский поручик встретились на пароходе. Вокруг зной, раскаленный жар волжского солнца, и в них вспыхивает вдруг непонятная, ураганная тяга, бросающая их друг к другу. И на первой же пристани они сбегают с парохода в гостиницу, а наутро она едет дальше, отказываясь взять с собой поручика.
Перед нами – банальная история, дорожное приключение армейского донжуана и легкомысленной дамочки. Но не будем торопиться. Припомним. Когда они вошли в гостиницу, «оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой».
Может быть, это своим кончиком ударила их молния какого-то большого чувства, может быть, это дохнул на них ветерок какой-то настоящей любви?
Проводив ее, поручик – беззаботный, довольный – возвращается обратно. И вдруг что-то в нем происходит: «Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею – и пуст… И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние».
Человек – родовое существо – просыпается в нем, поднимается из него, – и сам собой, помимо его воли. И, потерянно бродя по городу, окруженный всем его знойным и стоячим бытом, он переживает еще одно резкое и новое ощущение: «Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, – да, поражено, он теперь понимал это – этим страшным „солнечным ударом“, слишком большой любовью, слишком большим счастьем!»
Может быть, человек, который начинает рождаться в поручике, и погаснет, не успев разгореться; может быть, он утвердится в нем; но любовь, которую так легко заклеймить здесь «развратом», оставила в нем свой след, разбередила его душу, пробудила в нем – пусть на время – какие-то по-настоящему родовые свойства.
Восемьсот лет назад во Франции появилась знаменитая стихотворная повесть о Тристане и Изольде. В ней – впервые в искусстве Европы – было высказано совершенно новое понимание измены, противоположное тому, которое господствует в мире много веков.
Тристан из страны Корнуэльс завоевал невесту своему дяде, королю Марку. Но когда он вез ее из Ирландии, с ними случилось несчастье: они выпили волшебное зелье, которое Изольда должна была выпить с королем Марком, и воспылали любовью друг к другу.
Любовь их вдвойне преступна – она преступает каноны супружеской и каноны государственной чести. Они дважды изменники – семье и государю, узам власти и узам брака. И Тристана разлучают с Изольдой и отправляют в изгнание.
Проходят годы. Изольда молчит, и Тристан, терзаясь, соглашается на уговоры друга – берет в жены его сестру.
Но в день свадьбы он вдруг с ужасом постигает, что изменил своей Изольде, своей любви. И, уже обвенчавшись, он не стал делать свою жену женой и остался верен своей возлюбленной. Так восемьсот лет назад возник поразительно важный и человечный принцип любовной морали, который был потом забыт – и родился второй раз уже в XIX веке, и тоже во Франции.
В литературе начала века была тогда возглашена острая и парадоксальная мысль: человек изменяет не тогда, когда идет к возлюбленному, а тогда, когда, вернувшись от него, идет к супругу.
Как писала Жорж Санд в своем романе «Жак»: «Брак нарушается не в тот час, когда она отдается своему возлюбленному, но в ту ночь, которую она затем проводит со своим мужем». Не вступление в любовь помимо брака, а вступление в брак помимо любви было объявлено тогда злом, и это было полной противоположностью царившим тогда – да и сейчас – канонам обихода.
Наверно, здесь, как и в старой морали, тоже есть тяга к абсолютам, к провозглашению жесткого канона, обезличенного догмата. Но, может быть, только таким жестким тараном и могли тогда люди разбивать окаменелые нормы абсолютной и антиличностной морали.
Приверженцам ханжеских абсолютов стоило бы, кстати, вспомнить отзыв Маркса о «Парижских тайнах» Эжена Сю. Говоря о юной гризетке из романа, Маркс напоминает «ее пренебрежительное отношение к официальной форме брака, ее наивную связь со студентом или рабочим».
И он пишет: «Именно в рамках этой связи она образует истинно человеческий контраст по отношению к лицемерной, черствой и себялюбивой супруге буржуа, и ко всему… официальному обществу»[146].
«Наивная связь» вне брака не приводит его в ужас, и даже наоборот – она в его глазах парадоксально образует «истинно человеческий контраст» официальному лицемерию и ханжеству. Это спокойное отношение к любви не затронуто ханжескими абсолютами, оно исходит из того, что и в моральных оценках многое диалектично, зависит от условий, места и времени.
Мораль обороны и мораль доверия
Десятки веков в жизни людей царило метафизическое мышление. Черно-белая психология, тяга к застывшим канонам и абсолютным догматам, стремление к истинам, годным для всех времен и всех случаев жизни, – весь этот механический и обезличенный подход к жизни тысячи лет господствовал в обиходе, в морали.
Но были времена, когда эта система абсолютных норм еще не родилась.
В гомеровской «Одиссее» слепой певец Демодок поет знаменитую песнь об Афродите и Аресе.
Гефест, муж Афродиты, сковал однажды неразрывные сети, и сковал их так искусно и тонко, что их не видели даже боги. Как-то, когда Гефеста не было дома, к Афродите тайком пришел Арес, бог войны, и она предалась с ним любви. И тут-то вступили в игру волшебные сети:
- Вдруг сети… упав, их схватили с такою
- Силой, что не было средства ни встать, ни тронуться членом.
Событие это имеет крупнейшее – мировое – значение. Невидимые сети, которые сковал Гефест, – это сети морали, и с тех пор они тысячи лет улавливают неверных. Именно Гефест стал зачинателем морали мщения, морали наказания.
Он хром на обе ноги, он уродлив, Арес красив и грозен, и Гефест жалуется богам:
- …Конечно, красавец и тверд на ногах он;
- Я ж от рождения хром – но моею ль виною? Виновны
- В том лишь родители. Горе мне, горе! Зачем я родился?
- Вот посмотрите, как оба, обнявшися нежно друг с другом,
- Спят на постели моей. Несказанно мне горько то видеть.
- Знаю, однако, что так им в другой раз заснуть не удастся,
- Сколь ни сильна в них любовь, но, конечно, охота к такому
- Сну в них теперь уж прошла.
В том, что говорит Гефест, еще нет нынешней морали как свода правил, как норм и установлений, общих для людей. Перед нами «естественное», полуприродное состояние морали. Личные требования человека еще не обобщаются, не возводятся в закон, по которому должны жить все люди. Гефест говорит только от себя, а не от имени норм, и морали – такой, как сейчас, – еще не существует.
Мораль запрета рождается (конечно, только с точки зрения психологической) от уязвления естественных прав человека, ее рождает простая человеческая обида («Надо мной, хромоногим, Зевсова дочь Афродита гнусно ругается»). Но сразу же, еще не родившись, эта предмораль уже пронизывается вещным духом. Гефест требует, чтобы Арес откупился от него, заплатил ему за обиду выкуп. Искупление тут очень легкое – без грома и без молний! без трагедий, без наказания.
И боги не воспринимают всю эту историю как драму. Наоборот – она скорее смешна для них; боги смеются гомерическим хохотом и над пойманными и над Гефестом. И, слушая историю об этой волшебной сети, веселится Одиссей и веселятся феакийцы. Их доморальное сознание не воспринимает эту историю как мрачное бедствие. Современная сетка морали, которая накладывается на такие события и разграфляет их, – посерьезнее железной сети Гефеста.
В истории Демодока все – герои, тут нет еще порока, который наказывается, и добродетели, которая торжествует. В каждом участнике этой истории есть свой «порок» и своя «добродетель», они еще не выделились, они стихийно и слитно живут в каждом человеке.
В Афродите и Аресе есть красота, смелость, решимость следовать своим любовным чувствам – и есть в них обман, есть нанесение обиды другому человеку. В Гефесте есть и приниженность своим уродством, и уязвленность рогоносца, и хитрость, доблесть посрамителя, который не только побежден более сильным и красивым богом, но и сам победил его хитростью.
В каждом из них есть победа и поражение, добро и зло, порок и добродетель – и они живут в смутной нерасчлененности, синкретично, как предпорок и преддобродетель.
Любопытно, что такие же – или похожие – нравы встречаются на земле и сейчас – у племен, ведущих первобытную, доморальную жизнь.
П. Пфеффер, современный французский путешественник, в своей книге «Бивуаки на Борнео» пишет о даяках, которые живут в джунглях этого индонезийского острова: «Они отнюдь не отказывают себе в удовольствии обмануть жену, а последняя в свою очередь довольно редко упускает случай отплатить той же монетой».
Драмы из-за этого не бывает, «обманутый супруг, как правило, просто требует у соперника возмещения в виде мандоу[147] или кувшина, а тот никогда не отказывается уплатить эту скромную компенсацию»[148], – точь-в-точь как у Демодока.
В джунглях Бразилии мужья серьезнее, чем у даяков. Английский ученый А. Кауэлл, который провел там около года, рассказывает, что и там «измена – дело обычное и простое» для женщин, но за нее «мужья могут публично побить и выбранить их». Правда, в своей мести «особенно далеко они зайти не могут, так как жена имеет право вернуться в хижину своего отца»[149]. И здесь, как видим, первобытная мораль своеобразна и снисходительна.
Такие же вещи заметил сто лет назад Ливингстон, знаменитый исследователь Африки. Он рассказывал, что когда его проводники-негры вернулись домой после двухлетних скитаний, многие их жены были уже замужем за другими. «Некоторые из них встретили их с грудными детьми па руках. Это обстоятельство не вызывало, однако, у моих людей неудовольствия. О некоторых из спутников, у которых было только по одной жене, я должен был говорить с вождем, чтобы он вернул им законных жен»[150].
Совершенно особая мораль царит у нынешних мальгашей, жителей Мадагаскара. А. Фидлер, знаменитый польский натуралист и писатель, который жил там в тридцатые годы, рассказывает, что юноши и девушки пользуются у мальгашей одинаковой – и одинаково большой свободой.
«Обычай признает за девушками такие же права, какие на Мадагаскаре имеет мужская молодежь. В принципе девушка может полностью распоряжаться собою и своими чувствами». «Нравы эти так отличны от понятий морали в Европе, что вызывали всегда печальные недоразумения и ошибочные, неправильные суждения». Европеец «искренне возмущался, когда узнавал, что незамужние мальгашки не только пользуются абсолютной свободой, но даже законы и родители поощряют их близость с молодыми мужчинами и – о ужас! – благожелательно относятся к появившемуся потомству».
И Фидлер объясняет, что женщина у мальгашей ценится прежде всего по ее способности быть матерью. «В глазах мальгашей способность рожать – самое высокое достоинство, а девушки с детьми – именно потому, что имеют детей – считаются желанными невестами. Они легко находят хороших мужей: они доказали, что умеют рожать»[151].
В основе всех этих парадоксальных – и совершенно моральных для мальгашей нравов – лежат совсем не такие принципы, как в морали эпохи цивилизации. То, что она считает злом, там считается добром, и главное в девушке – не сохранение девственности, а нарушение ее, умение быть матерью.
Похожие нравы царили у древних народов Южного Китая – аси, мяо, сани, и тут есть одна очень интересная вещь. У мальгашей и даяков любовь – это еще простой эрос. У народов Древнего Китая она (судя по их сказаниям, созданным в первом тысячелетии нашей эры, – «Началу мира» и «Асме») стала уже глубоким духовным чувством – иногда даже чересчур аккуратным и канонизированным.
И во времена этой глубокой духовной любви в обычае была любовь до брака. Как пишут исследователи Б. Б. Вахтин и Р. Ф. Итс[152], каждой весной юноши и девушки уходили на весенний праздник в горы. После игр, плясок, пения у костра они разбивались на пары, вступали в любовный союз и начинали называться женихом и невестой.
С восходом солнца девушка шла к себе домой, и до рождения ребенка обычно не переселялась к жениху. Все это время они никак не были связаны друг с другом – ни экономически, ни материально, ни морально.
Оба они имели полную свободу действий и могли завязывать связь с другими юношами или девушками. Если девушка оставалась бездетной, жених мог отказаться от нее. Часто случалось, впрочем, что ребенок, с которым девушка приходила к мужу, был не его, – к этому приводила свобода любовных связей.
Все эти обычаи – как бы ни ужасались ханжи – были для аси, мяо и сани естественными, нормальными, «моральными», и они старались как можно больше украсить их, внести в них побольше поэзии.
Об интересном примере «моральности» того, что считается сейчас не моральным, писал, ссылаясь на Бахофена, Энгельс: «У греков и у азиатских народов действительно существовало до единобрачия такое состояние, когда, нисколько не нарушая обычая, не только мужчина вступал в половые отношения с несколькими женщинами, но и женщина – с несколькими мужчинами». Позднее от этих нравов у древних остался обычай, по которому женщина должна была «выкупать право на единобрачие ценой ограниченной определенными рамками обязанности отдаваться посторонним мужчинам»[153]. И этот обычай добрачных связей не нарушал тогдашней морали, а отвечал ей. С точки зрения моральных абсолютов – это разврат, с точки зрения историко-диалектической – это нравы, естественные – и «моральные» – для этой эпохи.
Когда-то Землю считали неподвижной и думали, что вокруг нее ходит Солнце. Потом эта Птолемеева система рухнула, и смерть ее была как бы символом смерти всех средневековых взглядов.
Многие верят сейчас, что солнечный луч – прямой, и эта вера – символ массы прямолинейных взглядов, которые достались нам от прошлого. А ведь этот луч не повторяет прямую линию – и вообще никакую линию, потому что он – волна. И если он кажется нам прямым, то ведь нам кажется, что и Солнце ходит вокруг Земли.
Сейчас во всех областях жизни идет гигантский пересмотр старых взглядов, рожденных внешней «очевидностью». Переоценка самых банальных, самых повседневных очевидностей начинает проникать и в обыденное сознание, в обиход, и во все человеческие отношения.
Кончается эра застывших абсолютов, начинается эра диалектической относительности. Все больше видна неистинность старой, «эвклидовой» морали, морали безликих и типовых абсолютов, которые исключают парадоксы и исходят из внешних человеку сил – из собственнических нравов и из житейской «очевидности».
В трудной борьбе слабеют догмы собственнической морали, ее метафизические каноны. Все больше исчезает подчинение женщины, ее приниженность, отношение к ней как ко «второму полу»; рушатся нормы брака без любви; во многих странах исчезла нерасторжимость брака, и вынужденный развод понемногу перестает быть позором; люди все больше понимают, что любовь на всю жизнь редка, и розовая дымка приукрашивания, которая овевала любовь, делается меньше. Рушится и старый канон измены, который был рожден собственничеством и по которому любовь вне брака была позором и пороком.
Собственническая мораль возникла во времена доличностного состояния человека, и человек в ее системе – не личность, не родовое существо, а существо видовое, безликая типовая единица – колесико и винтик, если говорить в терминах машинного времени.
Фундаментом, на котором росла старая любовная мораль, была семья как экономическая ячейка общества. Эта мораль рождена эпохой неравенства, несвободы, эпохой недоверия, враждебных отношений между людьми. И поэтому многое в ней пронизано тягой к самообороне.
Принцип боязни, принцип самозащиты личности от всех других людей – это главная точка отсчета всех старых моральных норм. Не вступай в связь до брака и вне брака; не изменяй; таи свои чувства; не разговаривай ни с кем о «стыдных» вещах; не верь мужчинам – им надо от тебя только одно; не верь женщинам – им нужны только деньги, – везде просвечивает тут оборонительное недоверие, везде во главе угла стоит рефлекс самозащиты.
Конечно, многое в этой морали недоверия имело свой резон: она была щитом для людей, и часто тот, кто нарушал ее нормы, страдал и платился болью, трагедией. Да и сейчас эти заповеди сохранили какой-то смысл, и они, наверно, будут жить, пока в обиходе сохранится обман, корысть, вражда, эгоизм, недоверие.
И религиозная и собственническая мораль – это мораль «отрицающая», охранительная, построенная на «не»: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего… Для этой морали запретов человек – только скопище пороков, и от него можно ждать только зла.
В новой морали стержневой строительный принцип – уже не самозащита, не недоверие, а доверие к людям.
Это новая мораль – мораль личности – сделает точкой своего отсчета свободные и разумные потребности личностей, их права и обязанности, их отношения с другими личностями, с обществом. Она будет уже не «видовой», как сейчас, а родовой моралью, и она станет расти на совершенно новой базе: основой ее – в том, что касается любви, – сделается свободная, подвижная, не скованная никакими цепями семья, которая уже не будет хозяйственной ячейкой общества.
Вместе с этой новой основой могут возникнуть и новые виды человеческих связей – свободные, открытые, лишенные ханжеской скупости и анархии, построенные на стремлении дать людям как можно больше радостей.
Сплав всего лучшего
Что будет, когда природа человека очеловечится до глубин, когда развитие человеческих сил станет «самоцелью»? Не станут ли люди прямее, охотнее дарить друг другу свою любовь и свою симпатию? Будут ли так ограничены любовные связи, когда развитие цивилизации позволит легко отсечь их от деторождения? И если так, то даст ли это людям больше добра, радостей – или горя? Приведет ли это к расцвету любви или к ее девальвации? Или к тому и другому сразу?
Вряд ли можно ответить сейчас на эти вопросы. Они, наверно, долго еще останутся вопросами – пока не придут новые поколения и не ответят на них своей любовью.
Любопытно, кстати, что такими вопросами задавался еще Энгельс. Он писал в «Происхождении семьи», что в будущем «общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными. Благодаря этому отпадет беспокойство о „последствиях“, которое в настоящее время составляет самый существенный общественный момент – моральный и экономический, – мешающий девушке, не задумываясь, отдаться любимому мужчине. Не будет ли это достаточной причиной для постепенного возникновения более свободных половых отношений, а вместе с тем и более снисходительного подхода общественного мнения к девичьей чести и к женской стыдливости?»[154]
Предположение это он оставил предположением, и вряд ли и мы сейчас можем пойти дальше простых гипотез. Можно предположить, что в идеальном будущем не останется аскетизма, исчезнет любовная скупость и любовь будет занимать в жизни людей больше места, чем сейчас.
Грядущие люди поймут, что «стремление подавить половой инстинкт, – говоря словами И. И. Мечникова, – в силу укоренившихся ошибочных воззрений есть, разумеется, средство затормозить преуспеяние человечества». При этом, наверно, культура любви будет намного выше, и наши потомки будут хорошо знать, опять же говоря словами Мечникова, что «именно вследствие огромного значения полового инстинкта проявление его должно быть оберегаемо самым тщательным образом. Подобно тому как злоупотребление сластями, этой столь вкусной и полезной пищей, может вести к отвращению от нее, так и злоупотребления в половой сфере ведут к преждевременному пресыщению и к истощению организма»[155].
Наверно, наши потомки будут проще, чем мы сейчас, относиться к любви – без мещанских предрассудков, без тиранических запретов. Огромную роль может сыграть здесь рост гигиенической и медицинской культуры, изобретение новых предохранительных средств – не стыдных, не примитивных, не калечащих, как сейчас, радости любви.
В последнюю четверть века – сначала за рубежом, потом у нас – появились новые средства: гормональные таблетки, которые женщина должна глотать три недели в месяц и которые в большинстве случаев дают залог безопасности. Это, конечно, очень большой шаг вперед, но у него есть и свои «но» – вредное побочное действие.
А между прочим диким народам, которые живут сейчас на планете, известны простые и надежные средства, которые дает сама природа. Тот же А. Кауэлл рассказывает, что индианки Южной Америки пьют в джунглях сок местного растения, и один его прием позволяет им несколько лет подряд не иметь детей. Если же дети им нужны, они берут сок другого растения, и их рождающая способность восстанавливается.
Изобретение новых предохранительных средств, отсечение любви от деторождения может резко переменить многие нравы любви, ее обычаи, установления. Оно может ослабить связи между любовной и семейной сферой, может увеличить удельный вес «внесемейной» любви, любви, которая, как это бывает сейчас у юношей, не связывает людей в семью.
Но каким будет брак? Останется ли моногамия или на смену ей придет что-то новое?
Ученые прошлого по-разному относились к этому. Морган, например, на чьи работы опирался Энгельс, писал, что моногамная семья все время совершенствуется, и можно предположить, что она «будет способна к дальнейшему совершенству, пока не будет достигнуто равенство полов».
Морган допускал, что моногамия может и отмереть. Энгельс, который тоже не исключал такой поворот, думал все-таки, что единобрачие не исчезнет. «Половая любовь по природе своей исключительна», говорил он, и поэтому «брак, основанный на половой любви, по природе своей является единобрачием»[156].
Что ж, для личностного состояния человечества это естественно. Но будет ли это единобрачие таким, как сейчас? Не переменятся ли его фундаменты, его структурные особенности?
Гипотезы на этот счет можно построить на одной известной методологической идее.
Часто говорят, что грядущее идеальное общество будет расти на основах, которые в принципе похожи на основы первобытного коммунизма, – но, конечно, на ступень выше. Так, например, обстоит дело с общественной собственностью, которая была в первобытные времена, с отсутствием частной собственности, государства, классового разделения труда, пожизненного закрепления человека в рамки узкой профессии. Через «отрицание отрицания» человечество может снова вернуться к этим старым фундаментам.
Может быть, такие же «повторения» – но на более высоком витке спирали – будут и с семьей, может быть, какие-то принципы древней семьи возродятся в будущем.
Сейчас в мире господствует один вид семьи, и у подавляющего большинства народов семья служит экономической, хозяйственной ячейкой. При первобытном коммунизме, когда семья еще не была такой ячейкой, существовало много самых разных видов семьи, брака, любовного союза.
Очень своеобразным был семейный союз у найаров – одной из самых просвещенных и древних народностей Индии (о них идет речь еще в «Махабхрате»).
Их брак совершенно не похож на наш. Если у нас брак и семья – это одно и то же, если наш брак – фундамент семьи, основа всего ее здания, то у них брак и семья – совершенно разные вещи.
Женщина, став женой, остается жить в доме своих родителей, мужчина живет в своем доме. Семейные и брачные связи разделены у них территориально. Дети живут вместе с матерью – и со своими родными по материнской линии – дядями, тетями, двоюродными братьями и сестрами. Семья здесь не моногамная, как у нас, основа ее строения – не брак, не союз мужа и жены. Тут совершенно другой вид семьи – по родству крови, по материнской, женской линии.
Найарский муж может приводить к себе детей и жену на несколько дней, не больше, – иначе это нарушает приличия. Между женой и мужем нет никакой экономической связи, их не скрепляют никакие имущественные узы.
Материально они независимы друг от друга, – до того, что женщина не должна даже принимать подарки от мужа. (Найары считают, что дарить что-нибудь можно только куртизанкам.) Имущественные, материальные связи идут у них по другой линии – по линии кровного родства.
Женщина сама отвечает за сбою судьбу, и это почти единственная народность, где любовные связи отсечены от экономических. Эта отсеченность любви от экономики противоположна нынешней семье, и она – а вместе с ней и многие ее спутники – может возродиться в будущем.
Кстати говоря, из-за того, что супружеские связи у найаров идут вне семьи и вне экономики, развод у них очень легок, а свобода личных отношений – огромна. Но бывает развод редко – именно потому, что брак у них отсечен от семьи, и на любовь людей не действуют материальные тяготы, ее не пресыщает жизнь под одной крышей.