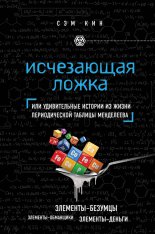Вырванное сердце Сухаренко Алексей
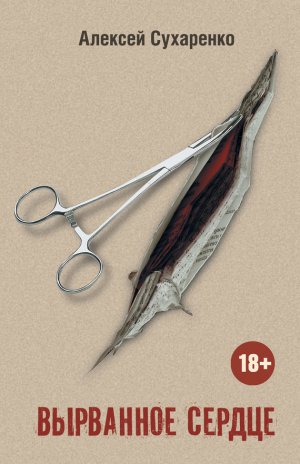
Книга издана в авторской редакции.
Часть первая
Грязная побелка потолка, выцветшие обои. По прошествии долгого времени в комнате пожелтела и состарилась вся обстановка. Даже пожилая женщина, лежащая на кровати с открытыми глазами, мало чем выделялась из общего интерьера. Посеревшая и ссохшаяся, словно старый пергамент, кожа, выцветшие под обои глаза. Похожая на старого хамелеона, последний раз слившегося со своей средой обитания и растворившегося в ней без остатка. Окна были плотно завешены старыми, проеденными молью бархатными шторами, словно снятыми с крышки гроба, защищая мёртвую среду обитания в помещении от проникновения живого уличного света. Глаза «хамелеона» двинулись, переместились в сторону настенных часов.
«Большая стрелка показывает на один и два. Маленькая на один и ноль. Что это значит?» – отреагировал человеческий мозг мыслительной деятельностью. Память восстанавливала в голове значение палочек и кружочков на часовом циферблате, постепенно справляясь со своей задачей.
«Десять часов. Но чего? Утра или вечера?»
Зинаида Фёдоровна Царькова узнавала время лишь тогда, когда к ней приходила её соседка, помогающая одинокой и больной семидесятиоднолетней женщине. Тогда отодвигались шторы и вместе со светом и свежим воздухом комната заполнялась руганью Митрофановны, и это была уже настоящая жизнь. А сейчас… Комната была переполнена запахом немощи и старости. Смесь нафталина, лекарств и мочи. И ещё присутствовал страх, вносивший свою отрицательную лепту в состояние женщины. От его приступов становилось трудно дышать и учащалось сердцебиение. Она старалась не думать и гнала навязчивые мысли, что про неё все забыли и никто больше к ней в этот склеп не придёт. Но что-то невидимое и потустороннее не переставало нашёптывать и пророчить больной женщине мучительную кончину от истощения и болезни. Глаза «сползли» с часов и в поисках чего-либо более интересного стали плутать в лабиринтах обойных узоров. Это было одной из её палочек-выручалочек. Замысловатый рисунок обоев всегда будил фантазию, и женщине виделись профиль бородатого мужчины, тело голой купальщицы, бегущая лошадь, рысь, кучерявая голова ребёнка, клещи, морда динозавра, собака, старая женщина с клюкой, снеговик, деревенский дом, дьявол и много чего ещё. Один и тот же рисунок, его фрагмент, мог дать сразу несколько образов, которые сменяли друг друга словно по невидимой команде. Нужно было только долго, не отрываясь смотреть в одну точку, отыскивая замаскированных в рисунке существ. Она всегда как ребёнок радовалась, когда ей среди «старых знакомых» удавалось увидеть «новичка» и принять его в их разношёрстную компанию. Она направила свой взгляд вверх над своей кроватью и вздрогнула от неожиданности.
«Паутина? Паук?» — брезгливо отреагировал мозг старой женщины, повышая её эмоциональное состояние.
Чтобы не видеть ненавистную паучью сеть, она перевела взгляд с потолка на книжные полки, но паутина продолжала намагничивать её внимание, каждый раз возвращая и приковывая к себе взгляд. Она всмотрелась в паутину, пытаясь разглядеть её хозяина, и ей показалось, что она видит эти маленькие глазки в самом углу потолка. Они смотрели на неё, словно на большое насекомое, которое уже попало в его паутину и подлежало немедленной консервации для последующего поедания. Не в силах выдержать этот зловещий взгляд, она снова отвернулась. На этот раз её взгляд остановился на старой резной мебельной горке, где стояли и лежали её спортивные награды. Это была её вторая палочка-выручалочка. Спорт опять её выручил, придав ей воли и погружая её память в начало 70-х годов. Она вспомнила встречу олимпийской сборной СССР на родине в аэропорту Внуково. Свою подругу по команде с бронзовой олимпийской медалью на груди и, конечно, его – главного тренера СССР по конному спорту Канцибера Владлена Иосифовича. Её мужа. Высокого и статного, с открытой широкой улыбкой крепких зубов. Зубы у мужа были крупные, как у Бурана, её коня, на котором она выиграла олимпийское золото по конной выездке. Она попыталась представить себя вместе со всеми, с золотой медалью на груди и букетом цветов, но у неё не получилось. Впервые у неё не получилось представить себя молодой. Вместо этого перед её лицом стояла старая бабка в растянутой спортивной форме сборной страны, диссонируя своим внешним видом с молодёжной компанией спортсменов. Словно она встала с кровати, надела изъеденный молью спортивный костюм и потускневшую олимпийскую медаль, а потом перенеслась в своё же воспоминание. Ей стало страшно от того, что привычные приёмы, всегда выручающие её, на этот раз не сработали. Она зажмурила глаза в полной растерянности, не понимая, как быть дальше.
«Господи, Боженька родненький, помоги!» — совсем как в детстве, вырвалась искренняя просьба, а глаза бросили спасительный взгляд на икону Спаса, висевшую над дверью в комнату.
«Хорошо, что я тебя повесила пятнадцать лет назад, сразу после ухода мужа, – успокоилась женщина, вспоминая те обстоятельства. – Владлен был словно вне себе, ничего не замечал тогда – ни моих слов, ни моих слёз. Последний выплеск тестостерона пятидесятивосьмилетнего мужчины был направлен конечно не в мою сторону, а на свою молодую воспитанницу, последнюю спортивную надежду увядающего тренера. Прошлая, его самая большая, заслуга была связана с олимпийским золотом. Единственным в Советском Союзе на тот момент в конном спорте. И его принесла ему я! Его жена. Это золото было словно наш совместный ребёнок, рождённый в изнурительных тренировках, полных мучений и боли. Муж всегда повторял, что настоящий тренер должен раствориться в спортсменке, отдать ей всего себя без остатка, и только так их союз может дать результат. Видимо, тот удачный тренерский опыт все восемнадцать лет совместной жизни не давал ему покоя, и вот он решил повторить историю. Ушёл, взяв из вещей только «золотую» олимпийскую подкову Бурана, висевшую в комнате над дверью. Ушёл, гадина, оставив пустой гвоздь. Брошенная женщина и стальной гвоздь, некогда державший на себе семейное счастье. Это адское испытание. Гвоздь, на котором я ещё долго хотела повеситься, понимая, что меня ожидает в будущем – брошенную, одинокую женщину на шестом десятке лет. А потом уже не помню откуда взялась эта дешёвая икона Спаса, которая заняла пустое место на “виселице”. Образ Иисуса я вешала на счастье. Вместо подковы. Была уверена – Бог уж будет намного щедрее на счастье для меня, чем эта железка, но счастья мне эта икона так и не принесла. Правда, мысли о самоубийстве меня больше не посещали…»
Звук проворачивающегося ключа в замке входной двери заставил память вернуться назад.
«Митрофановна! Пришла старая надзирательница».
Звуки захлопывающейся двери, снимание ботинок, шарканье тапками в сторону кухни. Очерёдность этих звуков не менялась уже несколько лет.
«Сейчас откроется кран с холодной водой и громыхнет на столе крышка от чайника, – автоматически промелькнули мысли больной. – Хоть бы раз зашла и сначала поздоровалась, как у людей водится. Спросила бы, как себя чувствую, а уж потом бежала бы ставить свой чайник».
Металлический звук от крышки говорил о том, что пришедший человек не собирался изменять заведённым правилам. Вскоре шарканье тапочек стало громче, и в комнату вошла дородная, крепко сбитая пенсионерка с крупными чертами лица средней полосы России, в повязанном по-простонародному платке и засаленной «душегрейке». Крупный нос-«картофелина», нависающий над узкими полосками высушенных губ, словно собачий, втянул в себя затхлый запах комнаты и проложил дальнейший маршрут своей хозяйки в направлении занавешенных окон.
– Спёртый воздух-то какой, – вместо «здравствуй» проворчала пришедшая женщина, бесцеремонно распахивая плотный занавес и заполняя помещение утренним светом.
Следом от её руки пострадала старая деревянная форточная рама, жалуясь Зинаиде Фёдоровне протяжным тонким скрипом.
«Куда запропастился этот малахольный?» – Митрофановна с самого утра переживала за своего пропавшего сына и поэтому никак не могла найти себе место.
– Я себя неважно чувствую, – подала голос больная. – Надо бы врача вызвать.
«Вчера ещё до обеда держался на ногах, – продолжали крутиться в голове матери беспокойные мысли, – а к вечеру его уже пьяным в стельку во дворе собачница видела. А потом как сквозь землю провалился. Надо бы в милицию сходить. Наверное, опять туда забрали. Охо-хо-хо».
«Вот ведь вредная, делает вид, что не слышит. Тряпку взяла пыль вытирать, – возмутилась про себя Царькова. – Сейчас, подожди уж, я тебе всё выскажу…»
– Дарья, посмотри, уж не мерещится ли мне. В углу как бы паутина завелась? – собрав в себе силы, произнесла Зинаида Фёдоровна, указывая пальцем в сторону верхнего угла.
– Какая такая паутина? – вздрогнула Митрофановна. – И не стыдно мне такое говорить? Это мне-то вместо благодарности за мою работу.
Она подошла и вгляделась в направлении, указанном пальцем.
«И впрямь паутина над кроватью. И что? Мне теперь со стремянкой скакать? Кровать с этой барыней двигать? А не пошла бы ты…»
– Ну и чего блажишь? – раздраженно огрызнулась работница. – Нет там ничего. Тебе это все сослепу кажется.
«Сука, старая деревенская сука. Паутины она не видит! Всё ты видишь, баба навозная. Просто издеваешься надо мной, хочешь меня в гроб загнать пораньше».
– Не сердись, душечка, знать, и правда померещилось, вот сейчас при свете вроде уже и не видно ничего. Знать тень так легла, – отступила Царькова, смирившись с очередным своим поражением от этой гром-бабы.
– Андрюшка опять запил, зараза, второй день не просыхает, найду – прибью! – Митрофановна обмахивала тряпкой пыль с такой силой и остервенением, словно хлестала непутёвого сына по щекам. – Ты, чай, денег ему дала?
– Да откуда они у меня? Деньги-то? Сама еле свожу концы с концами, – недовольно наморщилась Царькова. – Все же на лекарство уходит. Тебе ли не знать.
«Ещё твоему сыну-алкоголику деньги давать, и так уже вынесли вместе с сыночком половину квартиры. И коллекция монет пропала, и серебряные дореволюционные ложки, и серебряный портсигар с финифтью, подстаканник с позолотой, брошь слоновой кости, гребень черепаховый…»
– Серебряный аль мельхиор? – Ход мыслей пожилой женщины перебила работница, которая прикидывала на руке вес серебряного подсвечника, последнего дорогого антикварного изделия, оставшегося в этой некогда богато обставленной квартире.
«Если совру, что мельхиор, так всё равно пропадёт».
– Я чего интересуюсь, деньги ведь закончились. Надо чегой-то продавать. – Митрофановна поводила взглядом по комнате, пытаясь зацепиться еще за что-нибудь путное. Взгляд, не задерживаясь, скользнул по иконе Спаса Нерукотворного и зацепился за мебельную горку.
Оставив подсвечник до поры до времени, работница перешла к витрине мебельного изделия, протирая пыль и всматриваясь в красивые чаши и кубки.
– Вона сколько тебе посуды ненужной надарили. Только пыль собирает. Ни еды в них не приготовить, ни продать толком… Разве в металлолом на вес.
«Что ты можешь знать со своими тремя классами образования?! Не тебе, мещанка, определять ценность моих спортивных наград. Эта горка для меня, что гора Олимп для древних греков. Здесь моё всё. И жизнь, и слезы, и любовь. А ещё успех, слава, признание Родины. И главный олимпийский трофей – золотая олимпийская медаль. Вон она, как и положено главному олимпийскому божеству – Зевсу, забралась на самый верх «горы» и восседает в бархатном обрамлении футляра».
Царькова привстала на локте, чтобы ещё раз убедиться в нерушимости своих идеалов.
– Мне они урны для праха напоминают. Ха-ха! Вот в такой же моя сестра мужа хоронила. Такой здоровый при жизни был мужик, а праху – кот наплакал. Недаром говорят: «Был – да и весь вышел». – Зинаида Фёдоровна в изнеможении откинулась обратно. Это «толстокожее чудовище» в очередной раз нанесла ей обиду своим хамским, пренебрежительным отношением. «Видать, госпоже не понравилось, – с удовлетворением отметила работница реакцию хозяйки. – Ничё, не сахарная. Я и не такое терпела в прислугах, вот пусть теперь бывшая барыня тоже потерпит».
— Слушай, а может, и нам они для похорон сгодятся? – решила она еще немного покуражиться. – Ты в каком горшке хотела бы упокоиться? По-моему, вот этот ничё. – Митрофановна взяла кубок СССР по конной выездке, подкидывая его в руках, словно приемщик цветных металлов. Царькова еле сдержалась, чтобы не расплакаться. И не потому, что бывшая прислуга была так бесцеремонна в отношениях с ней. «Как она смеет такое говорить? Ведь давала мне обещание. Сыном своим поклялась. Неужто ничего святого у неё нет?»
— Я в земле хочу быть схороненной, в маминой могиле, – упрямо сжав губы, словно перед взятием барьера, произнесла бывшая спортсменка.
«Можно и в земле, да только для таких похорон денег ворох нужен, а у тебя и щепоти нет», – молча отметила про себя Митрофановна. – Мы же с тобой обо всем давно договорились. Я тебе квартиру отпишу, а ты уж позаботишься обо мне. «Ну, что же ты молчишь? Я ведь должна быть уверена, что ты не кремируешь меня как ненужную ветошь». – Молчание Дарьи Митрофановны давило на Царькову невыносимым грузом.
– Ладно, надо на дом нотариуса вызвать, оформить документы, – разомкнула свои две полоски губ Митрофановна, – опять же деньги нужны.
«Все только ради этого непутёвого, всю жизнь ему посвятила. Лишь бы Андрюшечка ни в чём не нуждался. Вот и теперь для него за квартиру горбачусь. Может, наконец остепенится, а там, глядишь, и женится, когда собственной квартирой обзаведётся. С матерью старой в однушке, понятное дело, не разгуляешься. А так сразу завидным женихом станет… Интересно, сколько это может стоить? Тысяч десять? Хоть тыщу взять себе за ноги».
Она сгребла серебряный подсвечник и, снова погрузившись в мысли о сыне, направилась в ломбард к знакомому приёмщику.
Уже одевшись, у самых дверей до неё донеслась просьба барыни о враче. Больная кричала визгливо, словно скребущая по пластинке головка патефона. Митрофановна почувствовала, как её передёрнуло. Она не любила скрежещущих звуков, вызывающих мурашки по телу.
«А ведь врача надо, а то помрёт, так и не подписав дарственную», – переполошилась работница, убыстряя ход своих измученных подагрой ног. Хлопнувшая входная дверь, словно сработавший спусковой курок, посылающий выстрел в сердце. Спазмирующая боль, опоясывающая грудь и лопатки, не давала дышать. Больная, словно пойманная рыба, хватала открытым ртом воздух, теряясь в хаосе мыслей. «Все, щас помру! Квартира государству, а меня сожгут, как никому не нужный хлам! Не хочу! Мама, я хочу к тебе! Я же олимпийская… Суки! Дочка! Где ты? Помогите!» Звук катящейся по полу бутылки. Сначала звук, а потом понимание, что это бутылка. Грудь все еще в смертельных тисках, но мысли фиксируют и анализируют этот приближающийся к ее кровати звук.
«Что это? В квартире никого же нет. Может, мне мерещится?» – Она повернула голову набок и увидела, как по полу, с противоположной стороны комнаты катится бутылка «Столичной» водки.
«Откуда эта бутылка? Кем запущена? Что за чёрт?!» В ожидании продолжения кошмара она не отрывала взгляда от противоположной стены. Кроме высокой железной кровати, на которой она уже лет десять перестала спать из-за невыносимого металлического скрипа, там стояли лишь старый торшер и этажерка. Кровать была заправлена на старинный манер до пола. С тремя разными по размеру подушками, составленными друг на дружке, словно вылепленная снежная баба, и в довершение покрытыми, как невеста, белой кружевной накидкой. Долгие годы этот лубочный интерьер дарил хозяйке положительные эмоции, словно возвращая её в далекое детство, но теперь оттуда шла неведомая опасность. До её слуха донесся неясный шорох. Он исходил из-под кровати, и к тому же край свесившегося покрывала шевелился. Женщина почувствовала, как страх сковывает сердце, провоцируя приступ. Сильнейшая сердечная спазма принесла нестерпимую боль, от которой невозможно было не закричать.
«Ну вот и всё. Сейчас помру. Господи, помоги! Люди! А может, так и надо? Принять смерть достойно, спокойно. Потерпеть немного. Боль же не будет бесконечной. Вскоре станет спокойно… и свет в конце тоннеля… А если не увижу?! А если ад?!»
– Помогите! Сердце! Умираю! – собрав все силы, закричала больная женщина.
* * *
«Посолила или нет? Кажется, все же забыла посолить. Так… папа не любит сильно соленое. Опять скажет: недосол на столе – пересол на спине. Тогда чуть-чуть…» Настя осторожно, словно боясь отравить родителя, взяла своими детскими пальцами маленькую щепоть соли, снабдив ею булькающую овсяную кашу. Она любила смотреть, как возникают и лопаются в каше пузырьки. Это ей отдаленно напоминало глинистую жижу в местах вулканической активности, которую она видела по телевизору. Больше всего на свете она хотела побывать в этих сказочных местах. В долине гейзеров. Она помнила в деталях репортаж из Новой Зеландии, где на поверхность земли выходят гейзеры, где лужи ярко-желтого цвета, где озёра имеют цвет бирюзы и лайма, где стоит запах серы, где кажется, что Земля дышит. Девочка не знала, что значит «запах серы», но была уверена, что этот запах самый лучший запах на свете. Лучше, чем пахнут духи и даже самые диковинные цветы. Ведь там, где такая красота, там и запах должен быть сказочно прекрасным. Каша, правда, не умела «плеваться», как термальная вулканическая грязь, и девочка «колдовала» над электроплиткой, стараясь каждый раз добиться большей схожести. «Надо было сделать чуть пожиже. Больше добавить воды. Но папа не любит сильно жидкую кашу». По длинному коридору семейного общежития раздались шаги отца, возвращающегося из душевой. Каша готова. Отец вошел в джинсах, с голым торсом. Взъерошенные мокрые волосы, чисто выбрит. Кажется моложе своих лет или нет? Насте тяжело было определять возраст взрослых. Она поставила перед мужчиной тарелку с кашей, нарезанный сыр и выскочила в коридор, оставив узенькую дверную щель. Отец надел майку, накинул оперативную кобуру с пистолетом и сел к столу. Всё как всегда.
«Сроки. По квартирному мошенничеству заканчиваются сроки. Надо сегодня направить материалы к следователю. Не хочу заниматься сокрытием больше. Опять начальник будет зудеть о плохой раскрываемости на участке. Стращать служебным несоответствием. Вот сам пусть и прячет под свою толстую жопу все «висяки» в районе. Благо она у него как у бегемота… Соседка в душевой. Распаренная от горячей воды. «Приставить» бы ей, тоже ведь одна без мужика кукует. Страшненькая? Зато «станок» заводной и «дойки» что надо… Каша опять пересоленная, чёрт! Эта приготовила бы как надо. Правда, у нее своих два оглоеда. Блин, сколько же здесь соли!» Настя увидела, как отец с гримасой на лице отодвигает её кашу.
– Что, папа, опять пересолила?! – Девочка вбежала в комнату, готовая расплакаться от обиды.
Она была уверена, что в этот раз всё будет нормально.
– Нет, с чего ты взяла, – взяв паузу, нашёлся отец. – Просто совсем нет аппетита. Поем на работе.
Девочка взяла в рот ложку каши. Много соли. Хочется выплюнуть обратно на тарелку.
«Терпи и ешь, чтобы завтра солить как следует», – перебарывает отвращение малышка, словно в наказание продолжает есть.
– Это всё из-за гейзеров, я опять замечталась. – То ли от соли, то ли от обиды на её глазах показались слёзы.
– Гейзеров? – сморщил лоб мужчина, силясь понять, о чём говорит ребёнок.
– Ну да, помнишь, я тебе говорила про Новую Зеландию?
– Ах, ты об этом. Ну да, помню.
«Какая Новая Зеландия, к чему? Ни чёрта не помню. Нет времени совсем на ребёнка. Всё из-за её матери. Все бабы суки. Бросила ребёнка. Шалава, а не мать. Где же ты сейчас, Светик? Перед кем ноги раздвигаешь? Больно даже думать! Убил бы её! Надо бы этого малого найти. Может, она к нему подалась? Бабу хочу! Но такой, как моя беглянка, больше не найдешь. Может, сегодня сходить на «приступок», взять ту молодую проститутку, похожую на жену?»
«Папа опять ушёл на работу голодный. Мама, но я ведь старалась. Просто отвлеклась на эти проклятые плюющиеся пузырьки».
Настя всегда разговаривала с мамой. Фотография висела на стенке над обеденным столом. Это она так её повесила, чтобы за столом они всегда собирались вместе. Как раньше. Время на часах показывало, что нужно спешить в школу. Они всегда показывали одно и то же время после того, как остановились.
«Папа говорил, что эти часы были подарены на свадьбу и что они остановились, когда пропала мама. Но на самом деле это моя и папина жизнь остановилась. Когда была мама, было весело. Время летело быстро. А сейчас оно словно замёрзло. Как вода в лужах при первых заморозках. И стало холодно. Уже давно холодно. И никак не согреться… Быстрее бы в школу. Там можно об этом не думать. Теперь никто из ребят не лезет со своими: “А что мама скажет?” У мамы спроси лучше… За два года они успели запомнить, что я живу с одним папой. Почему он их не подводит? Часы. Может, что-нибудь тронулось с места? Может быть, мама вернулась?»
Настя подошла к окну и представила, что прямо сейчас на противоположный стороне улицы идёт её мама. Девочка попыталась представить мамину фигуру, одежду. Но почему-то перед глазами всплывало лишь заплаканное мамино лицо в зимней шапке. Даже в чём была одета – было непонятно. Пальто или куртка? Настя не помнила. А за окном только осень. И непривычно тепло. Её мама не должна идти домой, как пугало в зимней шапке. Пусть даже понарошку. Чтобы все над ней смеялись. Девочка ещё раз подбежала к фотографии «сфотографировать» мамины волосы и торопливо вернулась к окну, спеша «увидеть» силуэт любимого человека. Наконец-то она «увидела» женщину, переходящую дорогу в направлении к зданию общежития. Сердце зашлось в сладком ожидании. Она представила мамино лицо с фотографии, улыбающееся ей с улицы. Голова поднята вверх в направлении их комнаты. Мама видит её у окна и приветливо машет рукой. Стало тепло. «Лёд в лужах» растаял. Вот «мама» подходит всё ближе и ближе. Девочке становится всё труднее удержать свою иллюзию, лицо не меняет своего выражения. Словно застывшая фотография вместо головы. «Мама» заходит в их подъезд. Настя вспомнила утренний звук ног отца и теперь начинает его воспроизводить, добавляя звук высокого женского каблука. Все, кто-то остановился за их дверью. Девочка подошла и прильнула ухом к замочной скважине. Дыхание. Кто-то тяжело дышит, восстанавливая дыхание от быстрого шага. Мама! Настя распахивает дверь, и её мираж тает. Как источник воды, привидевшийся в песках пустыни отчаявшемуся путнику. Она вернулась в комнату и с ненавистью посмотрела на часы.
«Я вас заведу, и вы вернёте мне маму. И попробуйте меня обмануть. Я тогда вас выброшу в окно. Сколько стоит батарейка? Рублей двадцать? А сколько их в часах? Что же, придётся разбить Фунтика».
Взгляд девочки решительно начал поедать жертву сложившихся обстоятельств – фарфорового поросёнка-копилку из любимого детского мультика. Она порылась в отцовском инструменте, достала молоток. Фунтик смотрел на решительные действия девчонки грустными глазами. Складывалось впечатление, что он пытается натянуть на голову широкополую шляпу, которую держал в руках, торопясь прикрыть место удара, но руки его не слушались, «парализованные страхом» неминуемой развязки. Настя осторожно, словно по живому, стукнула его тяжёлым молотком в место пропила. Раздался глухой звук, и на стол упало отбившееся у скульптурки глиняное ухо. Второй удар прошёлся вскользь. Словно Фунтик успел в последний момент увернуться и, соскочив со стола, попытался спрятаться, закатившись под кресло. Настя схватила живучего поросёнка и, оглядев комнату, увидела папину шестнадцатикилограммовую гирю. Почти половина её веса. Она положила копилку рядом с зелёной гирей и отошла чуть в сторону, собираясь с силами. Папа легко подкидывал эту гирю одной рукой и ловил её в воздухе. Но хватит ли у неё сил приподнять и опустить этот тяжёлый груз на копилку?
«Папа всего один раз уронил эту гирю, и след от её падения до сих пор виднеется на деревянном полу. Мама тогда его стала ругать, боясь, что придут жильцы с нижнего этажа и у них будут неприятности. Она просила отца больше не заниматься дома или хотя бы не жонглировать, но он не послушал. Он опять стал подкидывать гирю и перехватывать попеременно то левой, то правой рукой. А мама каждый раз охала и, как маленькая девочка, закрывала лицо руками. И всё просила, и просила, и просила его остановиться. И я тоже стала просить отца не подкидывать это железное чудовище, которого боится мама. А он смеялся над нашими страхами и кидал снова и снова… Фунтик такой маленький на фоне этого зелёного монстра. Без отколотого уха, словно раненый. Может быть, его ещё можно приклеить обратно? А часы? Они так и будут стоять на месте? На том месте, в котором пропала мама…» Девочка вздохнула и решительно взялась двумя руками за ручку гири.
* * *
Стограм не хотел просыпаться. Несмотря на холод, пробравший его до костей и выморозивший остатки алкоголя в крови. Болели разбитое лицо и ребра. Каждое шевеление доставляло сильную боль. Это была одна из причин, по которой он не решался вставать. Но не главная. Больше всего его страшил сам процесс продолжающегося жизненного течения, в котором он – словно клеточка планктона в бесконечном пространстве Мирового океана. И ничего хорошего его уже не ждёт. Клеточка ничтожная, больная, никому не нужная. Никому, даже огромным поедателям человеческих душ, которые ею брезгуют и пропускают её через кармические жабры, каждый раз вновь заставляя просыпаться с осознанием своего полного ничтожества. Только голуби его любили. Их нежное воркование заменяло Стограму человеческую привязанность и любовь, которыми после смерти матери он был обделён. Ещё давно в детстве его мама рассказала ему о народном христианском предании, в котором говорилось о самопожертвовании голубя. Царь Ирод после убийства всех младенцев мужского пола, дабы убедиться, что Иисус Христос уничтожен, обратился к двум птицам: голубю и воробью. Он обещал им сытую жизнь, если они скажут ему правду о судьбе младенца. Голубь, пытаясь спасти Сына Божьего, соврал деспоту, тихо проворковав: «Ум-е-р-р, у-мер-р…» – а воробей, соблазненный сытой жизнью, не задумываясь, громко стал чирикать: «Жив-жив-жив!» Разозленный Ирод велел убить голубя и приготовить ему его на ужин. На этом ужине воробей прыгал под столом и клевал смахиваемые для него царём хлебные крошки. Поражённый этой незамысловатой историей, мальчик всем сердцем полюбил голубей и пронёс это чувство через всю свою жизнь. Божьи твари стали ему семьёй. И он в своей голубятне проводил почти всё свободное время. Стороннему наблюдателю было непонятно, кто кого и в какую семью принял. Человек усыновил голубей или птицы приняли его в свою стаю. Ведь в отличие от людей голуби привязываются к человеку, не обращая внимания на его социальный статус, на то, пьяница он или трезвенник, старый или молодой. Они отвечают своей привязанностью тому, кто сам по себе тихий, терпеливый и добрый. Кто не пугает птиц резкими, неоправданными движениями, кто за ними ухаживает. Стограм был как раз таким. «Тихий пьяница». Никому не сделавший ничего плохого, но и себе ничего хорошего. Вот и сейчас он лежал в своей голубятне в позе эмбриона, подтягивая под себя замёрзшие ноги и пряча холодные уши под поднятый воротник своего китайского пуховика. На него периодически садились доверчивые птицы, воркуя у самого уха, в робких попытках разбудить человека, который со вчерашнего дня оставил их кормушки пустыми. На сегодняшний день в его голубятне птиц оставалось ровно двенадцать штук. Все белоснежные без единого пятнышка. Раньше было больше, но остальных у него выкрали пацаны и продали на Птичьем рынке.
«Пить, пить».
Опухшие веки размыкались с трудом. Словно вся кожа со лба сползла на глаза и теперь нависла на верхнем веке неподъёмным грузом. Рука вылезла из кармана и попыталась помочь веку, но тут же отдёрнулась.
«Больно! Глаза заплыли от ударов. И ребра болят, не дают вздохнуть полной грудью. За что? Ну за что они так меня?! И он! Он-то зачем?! Несчастный. Тоже спиваться начал, как и его покойный отец. Покойный?! Я сказал: покойный?! Ну конечно, а как ещё назвать мертвеца? Он умер уже не год и не два назад. Только об этом никто не знает. Ни он, ни его мать. Только я знаю об этой тайне. Потому что сам его убил. Его отца… Постой, а за что меня отлупили? Может, опять хлеб воровал? Не помню… Пить. Пить».
Мужчина, кряхтя от боли, встал на четвереньки и осторожно стал руками прощупывать пол голубятни в поисках корытца с водой. Первым, на что наткнулись руки, был моток крепкой бельевой верёвки, срезанной им по пьянке во дворе по неизвестной даже ему самому причине. Затем бутылка, ещё одна, и ещё. Наконец его правая рука опустилась на мокрое дно железной поильницы. Осторожно, трясущимися руками он стал поднимать корытце ко рту, но только расплескал всю воду на свою одежду.
«Что же мне теперь, с пола пить, как животное? Вот голуби удивятся, увидев меня таким. Стыдно… А, пускай смотрят. Все мы Божьи твари».
Преодолевая боль, он лёг на живот и стал втягивать воду из птичьего поильника. Мутная жижа из птичьего помёта и размокших хлебных крошек вместо воды вызвала у него рвотный рефлекс.
«Засрали воду пташки мои. Даже глотка чистой воды нет. Сейчас бы родниковой. Кружки три выпил бы залпом. «И некому воды подать в старости». Вот как это выглядит в моём случае. А у других как? Да на хрен мне сдались другие! Уроды, ну зачем так бить?! И этот туда же!»
Его руки пошарили вокруг себя и нащупали пустую кормушку. Он вспомнил, что голуби не кормлены со вчерашнего дня, и машинально залез в карманы куртки. В одном из карманов он нащупал четвертинку чёрного хлеба. Его разбитые губы невольно расползлись от радостной улыбки, и тут же стало больно от разрыва едва зажившей раны.
«Что за жизнь? Ну разве это жизнь?! Кто я? Куча навоза, не больше. Профукал жизнь. Все гонял голубей. При чём тут голуби? Может, только ими и спасусь, когда предстану перед Богом. Ведь Боженька спросит: “А кого же ты, раб мой Стограм, любил ещё, кроме водки?” И я ему скажу – птичек, Господи, любил так же, как и ты нас, людей своих. Заботился о них всю жизнь. Сам не ел, им зерно покупал. А Бог спросит: “А как же с ближними своими, которых следовало возлюбить как самого себя?..” А я отвечу, не поднимая на него глаз, через которые и так теперь ничего не видно: “Так я себя не любил никогда. А что до других, так любил. Сильно любил женщину, но она меня прогнала. Дала надежду и отняла”. А больше я на женщин не смотрел. Ты же знаешь, жил как монах в миру. В голубятне словно в келье. Даже голуби у меня “монахи”, словно братия монастырская. Ну, рукоблудил изредка, когда пить пытался завязать. Оно на трезвую голову всякая глупость мерещится. А потом опять ни-ни. Водка мне женою стала. Вот её я любил больше всего. Нет, ещё и Андрюшку люблю. Дворничихи сына. Того, кто меня вчера кулаками потчевал. Это-то по христиански, надеюсь?! Ты же знаешь, что не вру. Люблю, несмотря на побои! Просто у него плохая наследственность. Он мне меня чем-то напоминает в молодости. Я в молодости тоже мог “навесить” кому угодно, ну ты сам это знаешь. Один раз даже пьяному отцу сдачи дал. Он мать бил. Хорошо тогда намял ему бока. Вот за отца-то и получил первый срок. Блин, как пить хочется! Кажется, язык к нёбу присох. Ты, Боженька, прости его, не он, так другой бы мне наподдал. И других прости. Не хочу, чтобы ты кого наказал за мои обиды. Сам дурак… Устал. Сейчас умру, сил больше нет терпеть».
Пожилой мужчина попытался встать, но переломанные ребра вырвали из его горла утробный стон, и он опять опустился на пол голубятни. Голуби внимательно смотрели на своего хозяина, и казалось, что они недоуменно переглядываются, воркуя между собой о причинах такого непонятного поведения человека.
«Птицы же голодные. Как я, дурак, забыл?! Надо бы их перед смертью покормить и выпустить».
Он достал четвертинку черного хлеба, и голуби как по команде вспорхнули с мест и покрыли его собой, словно белым одеянием. Он не успевал разламывать мякиш, чувствуя, как птицы тыкаются клювом в его руки, стараясь попасть между пальцами и выхватить корм. Вскоре от четвертинки остались только крошки, которые с его одежды добирали его пернатые друзья.
«Ну вот, теперь вроде как и пора».
Руки стали заново обшаривать пол в поисках верёвки.
«Вот и сгодилась сворованная верёвочка. Наверное, её хозяйка, та, что вешала на неё бельё, пожелала вору на ней удавиться. Сказала так просто, но со злостью. И вот, подиж, угадала-то как».
Он, превозмогая страшную боль, с криками стал разгибать своё разбитое туловище, намереваясь встать на ноги.
«Не торопись. Успеешь. Сначала надо встать на колени, потом, опираясь об стену, – на ноги. А там выбирай любой из крюков».
В потолке голубятни были приварены четыре крюка, на которые давным-давно мужчина вешал гамак. Гамак был давно пропит, а крюки оставались торчать без дела, представляя собой реальную угрозу для человека высокого роста. Стограм поднялся на ноги и открыл леток, чтобы выпустить птицу. Однако птица впервые его ослушалась и не вылетела наружу. Голуби расселись по насестам и замерли, словно мишени в тире городского парка аттракционов.
«Зачем ты мне мешаешь, Господи? Знаешь, что я не смогу повеситься при живых свидетелях? Что глаза у меня заплыли и я ничего не смогу сделать. Да?»
Мужчина стал обходить, обшаривая каждый сантиметр стены, снимая руками голубей и выпуская их в открытый леток. Он был похож на лишённого глаза циклопа, который отыскивал в углах своей пещеры моряков Синдбада. Стограм гладил очередного голубя, целовал и отпускал на волю.
«Третий, четвертый…» – считал он выпускаемых птиц.
Птицы, словно намагниченные человеческим отчаянием, никуда не улетали и садились тут же, на крыше голубятни. Наконец был выпущен последний двенадцатый «монах». Мужчина закрыл леток и перевёл дух. Затем он, терпя боль в ребрах, нащупал первый попавшийся крюк и привязал верёвку. Петлю накинул на шею и тут понял, что низкий потолок вынуждает его поджимать ноги, присаживаться. Он тут же попробовал, натянул верёвку собственным телом. Стало больно шее. В горле запершило, и он стал откашливаться, сотрясаясь от отдающейся внутренней боли израненного тела.
«Я не попаду в рай. А из ада я и так сейчас совершу побег. Если ты, Боже, окажешь мне милость, сделай так, чтобы я стал голубем, когда моя грешная душа отлетит от тела».
Перекрестившись, сильно ткнув себя в лоб и три раза в больное тело, чтобы в последний раз почувствовать боль живой плоти, он резко согнул колени. Верёвка натянулась, сдавливая артерию, в глазах стало темнеть, в ушах всё заложило, и раздалось характерное нарастающее жужжание. Внизу живота раздались сильные позывы переполненного мочевого пузыря.
«Ну вот, сейчас обмочусь, прямо здесь, в голубятне», – мелькнула затухающая молния-мысль.
Стограм попытался встать на ноги. Он не хотел осквернить это дорогое его сердцу место. Ступни нащупали пол, но мышцы перестали его слушаться. Он попытался перехватить руками верёвку, но руки обмякли, словно парализованные ударом. Сигнал от мозга перестал передаваться на конечности, которые он уже не чувствовал.
«Нет, только не так. Не хочу!» – возопило всё, что от него ещё оставалось на этот момент, а затем наступила леденящая пустота.
* * *
Дорога до городского отделения занимала десять минут. Егор вышел из дома, сел в свой жигулёнок, но так и не вставил ключ в замок зажигания. Он увидел хромую собаку, ковыляющую на трёх лапах, понуро поджав хвост. Свалявшаяся шерсть, впавшие бока, повисшие уши. Когда-то она была крупной лохматой дворнягой, помесью с кавказской овчаркой. О породистой родне напоминали густая длинная шерсть с пробивающимся сквозь грязь характерным серым окрасом, крупные лапы.
«Наверное, конец дачного сезона, вот и выбросили собаку. Не взяли с собой на теплые квартиры, а она пришла следом, приковыляла за своими «потерявшимися» хозяевами и теперь будет находиться в вечном поиске, пока не издохнет. А издохнет скоро, поскольку её рана не позволит ей выжить в городской конкуренции со своими здоровыми собратьями».
Мужчина открыл дверь и окликнул собаку. Пёс испуганно вздрогнул и разразился заливистым лаем. Низким, с хрипотцой, свойственным крупным собакам. По звуку лая Егор давно научился определять угрозу, раздающуюся за закрытыми дверьми, в которые ему по долгу службы нередко приходилось вламываться. Этот лай был похожим, но почувствовать реальную угрозу от этой измочаленной жизнью собаки мешал фальцет, на который сбивался грозный лай. Словно псу не хватало силы, чтобы замаскировать страх и отчаяние, и поэтому он заканчивал басистые ноты скулёжом, как бы извиняясь за свою грубость. При этом хвост дворняги уже не подавал признаков жизни, оставаясь висеть мёртвым грузом. На очередном лае пёс захлебнулся от полного упадка сил и замолк, с укоризной посмотрев на человека в машине.
«И я тоже, как этот пёс, ковыляю по жизни, лаю на всех – на кого надо и не надо. А самому скулить хочется. Особенно после работы или во сне, когда приснится Светка. Вот и её облаял тогда. Зачем? Два года не могу понять, что нашло? Почему не сдержался? Все из-за этой работы, которая калечит нервную систему. Она словно стальная пружина. На работе сжимается, а дома “выстреливает”, заставляя выпускать пар на родных и близких».
Взгляд упал на часы.
«Опаздываю!»
Он наконец завёл машину и тронулся с места. Непрогретый автомобиль пару раз дёрнулся, скакнув, как заяц. Пёс продолжал смотреть в глаза Егору, словно укоряя его за такую трусливую прыть. В глаза! Это было странно. Обычно собаки смотрят без акцента и не могут долго задерживать взгляд. А этот держал. Егор стал объезжать животное и перепроверил, взглянув на ходу в его угольки глаз.
«Так и есть, смотрит, сучий потрох!»
Он продолжал держать на собаке взгляд, надеясь, что пёс первым отведёт глаза. Уступит ему – человеку! Но глупое животное словно издевалось. Он чувствовал, что не должен ехать, отведя взгляд от дороги, но человеческая гордость не позволяла ему проиграть беспородной дворняге. Он только успел услышать глухой стук тела, а оглянувшись вперёд, увидел чью-то тень, перелетающую через капот автомобиля.
«Убью! – почему-то первое, что пришло ему на ум. – Пришибу эту хромую тварину!»
Он выхватил из кобуры пистолет и, сняв с предохранителя, послал патрон в патронник. Рванув дверь, Егор выскочил не в сторону жертвы ДТП, а в направлении этого рокового пса, который окончательно сломал ему жизнь. Вскинув руку, он выискивал мушкой пистолета виновника происшествия, всерьёз желая поквитаться с животным. Но собаки и след простыл. За несколько секунд «трёхногий» испарился, словно пары эфира. Работник полиции обречённо вернулся к машине, издали видя приличную вмятину левого переднего крыла. То место, на которое пришёлся удар по пешеходу.
«Все, конец, …лять! Доигрался в переглядки! С собакой! Теперь погоны слетят. И попрут с работы. Что с потерпевшим? Господи, только был бы жив… Не понял… А где сбитый?»
Мужчина обежал всю машину по периметру, заглянул под кузов. Жертвы наезда не было и в помине. Оперативник, чувствуя, как его охватывает радостная эйфория, ещё раз убедился в наличии вмятины на крыле.
«Краска с крыла слетела. Знать, сильный был удар. И на капоте вмятина, словно по нему что-то перекатилось. А тела нет. Лихо! Мать твою… Повезло. Знать, день не так уж и плохо начался. И всё равно, не надо было окликать эту трёхногую шавку. Надо сегодня выжрать и проститутку ту… Как её звать? Неважно. Главное, опять не называть её Светкой. А то подумает, что больной. Да и хрен с ней. Пусть о чём хочет, о том и думает, а я снова назову её Светиком. Чтобы хоть ненадолго погрузиться в эту сладость. Пусть и ненатуральная сладость ощущений, а всего лишь суррогат, иллюзия». Неожиданно он увидел в окне дома на первом этаже, среди занавесок, чьё-то лицо. Встретившись с Егором взглядом, наблюдатель, словно брошенный в воду камень, моментально погрузился в глубь помещения. У окна, словно расходящиеся по воде круги, остались лишь колышущиеся на окнах шторы.
«Свидетель. Он всё видел! И как я сбил, и как потерпевший ушёл».
Мужчина, не желая испытывать удачу дважды, поспешил ретироваться и, впрыгнув в автомобиль, рванул с места. В отделении он перво-наперво обратился к дежурному. Никаких сообщений о сбитых пешеходах или обращений с травмами в больницу не поступало. Он перевел дух, и это не осталось незамеченным. Дежурный капитан полиции смотрел на Егора с ухмылкой. Они всегда не любили друг друга. Дежурный не любил оперуполномоченного Егора Грачёва за то, что он был предан работе и профессионален. А капитан Грачёв не любил этого «наевшего ряху» полицейского офицера по диаметрально противоположным причинам. А еще потому, что от капитана воняло дорогим французским одеколоном, которым он пытался перебить запах ментовки. Егор знал, откуда берутся деньги у его коллеги на французскую парфюмерию, – из карманов многочисленных задержанных, которые поступали в дежурную часть с периодичностью заводского конвейера. Не то чтобы он был слишком честным и никогда не брал мзду. Но он делал это крайне редко, и чаще от благодарных потерпевших, и уж никогда от преступников. Этот же «стриг» всех, не гнушаясь и последней сотней рублей. Он как-то застал его под утро вместе с помощником, когда они считали суточную выручку, с любовью разглаживая смятые, замусоленные, испачканные кровью бумажки, и раскладывали их по номиналу. Он тогда сфотографировал их на мобильный телефон и еще долго пугал разоблачением, пока они не выкупили компрометирующую фотографию за бутылку армянского коньяка.
Это было ещё два года назад, до исчезновения жены. Память мужчины постоянно соотносила все воспоминания с тем, когда это было. До или после. Словно Егор проживал две жизни вместо одной. Первая была вместе с женой, вторая началась после её исчезновения и длилась уже два бесконечно длинных года. Как будто время остановилось не только на домашних часах. Словно потерялась не любимая женщина, а вечная батарейка от его, Егоровых, часов жизни. Вот он и ностальгирует по тому времени – «…до», когда жизнь пролетала в вихре счастливых мгновений. Тех мгновений, которые до сих пор притягивают к себе мысли мужчины.
«Я тогда был на самом хорошем счету у начальства, и мне пророчили должность начальника уголовного розыска. Вот-вот должны были дать майора и новую должность. И квартиру! Нам обещали квартиру, сразу по вступлении в должность… И ничего… Жена пропала… Я один. Капитан. Без повышения по службе и квартиры продолжаю жить с дочерью всё в том же клоповнике».
Грачёв зашел в кабинет, автоматически протянул и крепко сжал руку своему коллеге и соседу по кабинету лейтенанту Власову.
– Полегче нельзя? Я ведь просил, – скривился от боли его коллега.
«И чего дальше? Растить дочь, ловить преступников и «жарить» проституток? И так до пенсии. А дальше? Дочь выйдет замуж. А я?»
Не получив никакой реакции, лейтенант выругался.
«Жена, наверное, сменила фамилию. Вышла замуж и сменила. Обычное дело. Поэтому розыск не дает результатов. Эх, знал бы я хоть адрес какой-никакой её родни, то через них мог найти, а так…»
«Вот, сука, урод. Сколько раз ему говорить, чтобы не жал своими «клещами» сильно. Повезло сесть с ним в один кабинет. Недаром с этим придурком никто не хотел сидеть. Воспользовались мною, молодым лейтенантом, после «вышки» только пришедшим. «Перенимать опыт будешь», – сказали. Какой опыт у него перенимать, если он, сука, словно немой, в час по чайной ложке. Блин, ему трепанацию нужно делать. С таким соседом ни денег срубить лёгких, ни опыта получить. И ребята чего-то недоговаривают, говорят, за ним тянется какая-то тёмная история… Кстати, начальник же его спрашивал».
Власов, испытывая садистское удовольствие, напомнил капитану, что начальник розыска срочно ждёт его с материалами по квартирному мошенничеству, в результате которого пара стариков-пенсионеров стали бомжами. В городе уже давно орудовала банда квартирных мошенников, которые втирались в доверие к одиноким пенсионерам и просто социально незащищённым людям и путем различных преступных манипуляций завладевали их квартирами. Молодой лейтенант полиции знал, что начальник требовал от Грачёва вынести постановление об отказе в уголовном деле, поскольку состоявшийся суд признал данную сделку законной. Капитан же считал иначе, и из-за этого у него с начальником был конфликт. Грачёв и на этот раз проигнорировал его слова, продолжая быть погружённым в собственные мысли. Словно утонул в параллельном мире. Однако громкий звонок из дежурной части заставил его «всплыть на поверхность». Он взял телефон внутренней связи.
«Угу, угу… О чем он, какой выезд? Какой труп? А… Я же сегодня дежурный! Блин, забыл».
Милицейский уазик тащился медленно, словно знал, что человеку уже ничем не помочь. В машине кроме Грачёва сидели участковый Степаныч, врач-эксперт Петровна, молодая женщина, давно ждущая перевода в управление, и водитель Бабай, прозванный так за характерный разрез глаз. Степаныч что-то рассказывал дежурной группе о человеке, тело которого недавно обнаружили в гаражах, но Егору никак не удавалось ухватить информацию целиком. Из головы всё вылетало, как только старый участковый поворачивался к нему с переднего сиденья, подставляя под салонное освещение свой вечно красный нос. Тогда в мозгу вспыхивало: «Красный» – и мыслительная деятельность тормозила, словно его потрёпанный жигулёнок на очередном светофоре.
Нос у Степаныча был притчей во языцех и поводом для постоянных насмешек. Такой неприглядный цвет он имел не от пагубной страсти хозяина, а от особенностей расположения сосудов, сетка которых, казалось, шла поверх его обонятельного аппарата. Из-за этого крупный и мясистый нос Степаныча казался каким-то неизвестным, тропическим фруктом, добавляя его лицу схожести с диковинной и весьма забавной носатой обезьяной.
Машина свернула на разбитую дорогу, ведущую к длинной веренице гаражей. Уазик на ухабах стало подбрасывать, и молодая женщина, подпрыгнув, завалилась на оперативника, болезненно ткнув его локтём в низ живота. Второй волной после боли пришел знакомый запах женской парфюмерии. Духи, лак для волос, пудра. Это сработало как анестезия, прогнав болезненные ощущения на второй план.
«И не извинилась даже. Сделала вид, что не заметила. Просто ткнула своим заострённым локтём, как осиновым колом в ожившего мертвеца. Чтобы даже не думал оживать… Знать, так тому и быть».
Бабай извинялся, матеря дорожников, а потом извинялся за то, что матерился при Петровне. Женщина приблизилась к Егору и шепнула на ухо очередное извинение в этой машине. Одно только слово: «Прости». И опять коктейль из запахов дурманит мозг.
«А почему шепчет? Вслух, что ли, нельзя сразу сказать? Понимает, куда угодила. Эксперт ведь. Не хочет дальнейшей огласки. Засмеют обоих. Может, наклониться к её розовому ушку и сказать: “Мне совсем не было больно, даже в какой-то степени наоборот…” Дочке мать нужна. Мне женщина. Нельзя же столько времени думать о сексе. Так работать невозможно. В голову одно и то же лезет. Всё же поеду после работы на “приступок”, сниму напряжение».
«Надо же, дура какая, расставила локти в разные стороны. Курица. Единственный нормальный мужик в отделении… был!» — Петровна, не выдержав своих мыслей, рассмеялась.
«Вот ведь кобыла. Лягнула и ржет теперь, – разозлился Грачёв такой неожиданной развязке. – Нет, нам с дочерью такой не надо».
Почувствовав, что созревающая за последнее время симпатия между ними вот так запросто, от толчка машины, исчезла, мужчина и женщина уставились по разные стороны окон, наблюдая унылый однотипный пейзаж. Гаражи, расположенные вдоль железнодорожного полотна, казалось, уходили в бесконечность. Периодически мелькали открытые ворота гаражей, внутри которых шел ремонт или, что ещё чаще, распивалось спиртное. В последнем случае при виде полиции возникал переполох, спиртное испарялось, а ему взамен в руках, словно по волшебству, появлялись молотки и гаечные ключи, которыми сразу начинали отчаянно стучать, инсценируя работу, а заодно посылая сигнал тревоги своим ближайшим соседям, предупреждая о нагрянувших ментах. Полиция проезжала мимо, и выпивохи, продолжая не верить своему счастью, еще долго высовывались из гаража, словно семейство сурикатов, всматриваясь вслед удаляющейся жёлтой машине.
Наконец водитель ударил по тормозам, остановившись у гаража, на крыше которого стояла старая железная голубятня. В голубятню вела сваренная из металлических прутьев лестница. Ржавая и кривая, словно из фильма Тарковского. Первым полез Степаныч. Он опасался увольнения по возрасту, поэтому старому участковому не терпелось продемонстрировать свою приличную физическую форму. Уже с крыши он подтвердил, что труп на месте, в первоначальном положении.
Грачёв пропустил молодую женщину вперёд без всякой задней мысли. Просто так было всегда положено – пропускать слабый пол вперёд. Петровна заартачилась, предлагая ему лезть самому. Но он настоял из вредности, наверное, потому, что низ живота всё ещё помнил её острый локоть. Теперь его «израненное» место получило компенсацию. Юбка Петровны надулась порывом ветра, словно парашют, демонстрируя привлекательное женское бельё на аппетитных молодых формах. Врач попыталась рукой опустить купол, но страх сорваться заставил её отказаться от этой идеи и продолжить карабкаться вверх.
«Не так быстро, дорогуша… Пожалуй, нам стоит с тобой познакомиться ещё ближе. Ладно, решено, переключаюсь на тебя, коллега».
По довольному лицу Грачёва, который последним поднялся на крышу гаража, женщина прочитала мужскую похоть, и ей стало нестерпимо больно от испытанного унижения. Краснеть больше лицо, и так обильно залившееся румянцем на лестнице, уже не могло. Чтобы дать выход чрезмерным эмоциям и стыду, Петровна погрузилась с головой в работу. Егор, словно проснувшись и почувствовав вкус к жизни, услышал слова участкового, который хорошо знал повесившегося мужчину. Голуби, словно зеваки, притихли, наблюдая, как пришедшие люди фотографируют хозяина, а затем обрезают верёвку и кладут на пол голубятни.
– Может, их всех выпустить? – подал голос Степаныч. – А то чего доброго обгадят. Их у него двенадцать породистых… срачей было. А тут ещё, смотрю, залетный какой-то сизарь появился.
– Такие хорошие, – пожалела их Петровна. – На улице похолодало. Мне они не мешают. А вам, господин капитан?
«Сказала – словно вызов бросила. И смотрит как. Глаза блестят. Всё ещё возбуждена. Мне не птицы, мне твои ягодицы в чёрном кружевном белье мешают сосредоточиться на работе. Не было бы сейчас этой старой носатой обезьяны, я бы не задумываясь совершил бы “преступление”. Поставил бы тебя рачком и прям на глазах этих двенадцати белоснежных “присяжных заседателей”… Вон и “судья в серой мантии” промеж них затесался – полный судебный комплект».
— Я всяких голубей люблю. Мне даже этот помойный сизарёк не мешает, – указал Егор на больного голубя, внимательно наблюдавшего за полицейскими.
«Нет, ты не голубей любишь, господин капитан. Ты голубиц любишь. Это я в твоих глазах бесстыжих прочла. Понятное дело… Два года без жены. Одичал. А я бы смогла тебя приголубить. Приручила бы тебя да и дочку твою бы воспитала вместо её мамы пропавшей… Пока ты окончательно с ума не сошёл».
Осмотр мёртвого тела в голубятне продолжался. Петровна замерила температуру тела… Егора всегда передергивало от этой процедуры, а уж тем более – проводимой молодой женщиной. Что-то в этом было отталкивающее. Вот и сейчас он моментально почувствовал отвращение. «Никакой романтики и лирики. Всё жёстко, по-рабочему цинично. Здесь она уже не женщина, а судмедэксперт Петровна. В резиновых медицинских перчатках, сжимающая анальный термометр в руке.
«Скольким трупам она уже перемерила температуру остывающего тела? Зачем это нормальной женщине? И будет ли нормальная женщина при этом сохранять полное спокойствие? При этом никакой гримасы брезгливости. Ноль эмоций. Обычная женщина при одном виде трупа в обморок падает. А эта… Словно её красота из холодного твёрдого камня… Светка же была как лучик солнца. Тёплая, живая. Боялась всего ползущего и летающего: пауков, комаров, жуков, кузнечиков. Да что там, от одного вида таракана дрожала, как слониха из сказки Чуковского. Мне её всегда хотелось спасать, оберегать, защищать. Что я и делал. Хотя характер у неё был ещё тот…»
Мысли Грачёва вошли в обычное рабочее русло, и он наконец-то вспомнил о своих служебных обязанностях. Первое, что бросилось в глаза оперативнику, это обилие ссадин и гематом на разбитом лице покойника. Было видно, что висельник был избит не так давно и телесные повреждения достаточно большой тяжести. Его мысли тут же подтвердила Петровна, заявив, что у трупа, судя по обильному кровоизлиянию на теле, наверняка сломаны ребра и, возможно, есть повреждения внутренних органов. На вопрос, что могло послужить причиной смерти, она предположила, что одними побоями такое не причинить.
– Очень похоже на то, что он был сбит машиной. – Словно ушат холодной воды пролился на голову Егора голос врача-эксперта. – Видно, что по времени нанесения побои на лице предшествовали травме на теле.
– А когда мог быть совершен на него наезд? – Услышав слова Петровны, оживился Степаныч, засунув в голубятню свой красный нос.
– Травма свежая, утренняя, – уточнила женщина, взглянув на побледневшего Грачёва. – Что с тобой, тебе плохо?
«Япона мать, неужто это я его утром сшиб? Так и есть. От моего дома до гаражей, если напрямки, через железную дорогу… совсем ничего. Мог доползти».
— Нормально всё. Просто воротит от запаха птичьего помёта, – ответил он на пристальный взгляд женщины.
– Как пить дать сбили, вон на пуговице у его куртки автомобильная краска осталась, – вставил своё слово носатый «Анискин».
«Какого цвета краска на пуговице?»
– Красного цвета автомобиль был, – словно подслушал Егоровы мысли Степаныч.
«Так. Давай разруливай быстрее, пока только ты знаешь, в чём дело», – сверкнула в голове Грачёва тревожная мысль.
Он стал осторожно и ненавязчиво убеждать своих коллег, что они ошибаются и что алкаш свел счёты с жизнью из-за своего беспробудного пьянства и побоев. Он напомнил им про банду скинхедов, которые второй год орудовали в их районе, нападая не только на приезжих с темным цветом кожи, но и на бомжей. И тут раздался лай собаки. Словно напоминание. Петровна увидела, как на лице оперативника заходили желваки, а кожа и вовсе стала серой, под цвет облупившейся краски в голубятне. Еще не видя собаки, Егор уже узнал её характерный низкий лай с повизгиванием.
«Вот сучка трёхногая, сюда приковыляла меня облаивать. И чего она ко мне пристала?»
Степаныч высунулся из голубятни наружу и стал отгонять её прочь от лестницы, швыряя подобранные обломки хлама. Но собака не уходила. Она словно знала, что внутри голубятни скрывается преступник. Грачёв почувствовал, что начинает паниковать, словно собака могла показать на него его коллегам.
«Бред. Это всего лишь животное. Брехливое животное. Она не сможет меня ни в чём уличить. Но почему Петровна смотрит на меня так подозрительно? Она что-то заподозрила? Краска? Она знает цвет моей машины и сможет увидеть помятое крыло с содранной краской… Эта псина вызывает меня наружу. А ведь это она виновата, что я сбил этого бедолагу. Тварь!»
— Не уходит. – В голубятне показался участковый. – Может, этот висельник собаку подкармливал, а теперь она лает и скулит по хозяину? Есть же такая поговорка, что собака воет к покойнику.
Теряя контроль над собой, Грачёв достал пистолет и, чуть не сбив участкового, рванулся вон из голубятни. Степаныч, пытаясь сохранить равновесие, засеменил ногами и ненароком ударил приблудного уличного голубя, который вертелся под ногами. От сизаря полетели перья, а он сам, словно футбольный мяч, выпорхнул вслед за оперативником в открытую дверь.
– Не надо, капитан! – попытался остановить оперативника Степаныч, догадавшись о его намерениях.
«Неужто будет стрелять в собаку или только в воздух?! Он что, с катушек съехал?» – отреагировал мозг Петровны.
Собака, увидев Егора, моментально замолчала и вперила в него свой взгляд. Словно продолжала незавершенное накануне дело.
«Смотришь, всё смотришь мне в глаза, сука. Не насмотрелась ещё? Ну на, получай».
Оперативник, не целясь, нажал на спусковой курок. Собака молча, неуклюже скакнула на своих трёх лапах, оставаясь на месте и не сводя с мужчины своего взгляда. Разъярённый её поведением, Егор тщательно прицелился и выстрелил снова. На этот раз он попал, и собака, отчаянно заскулив, опрокинулась на бок, но затем опять поднялась, зализывая хлынувшую из плеча кровь. Вскинула ошарашенную морду на стрелка.
«Ну вот и всё. Ни я, ни ты больше не будем мучиться. Сейчас я тебя добью, и все наладится».
Он навёл мушку точно между двумя слезящимися собачьими глазами и как можно плавнее нажал спусковой крючок. Удар по руке. Рука, подкинутая вверх, посылает промах в хмурое осеннее небо.
– Прекрати! Что тебе эта собака сделала? – Глаза Петровны, полные слёз. – Я думала о тебе… Что мы… А ты…
На Грачёва осуждающе и с полным непониманием смотрели его коллеги по работе. Егор оглянулся на пса, но собаки уже простыл и след. Только Бабай испуганно выглядывает из автомобиля. Он не удивился.
«Все как сегодня утром. Собака опять победила меня. До последнего смотрела мне в глаза сквозь прицел. А баба, как всегда, вмешалась не вовремя, сука! Дать бы тебе в «табло» сейчас, по-настоящему, как мужику!»
— Спасибо, Петровна, что руку отвела, не знаю, что нашло. Видимо, нервы шалят, – поблагодарил он женщину, постаравшись придать лицу подобающее выражение.
Вскоре в гаражи приехала труповозка. Голубятню закрыли на замок, а тело висельника упрятали в мешок и увезли в судебный морг на вскрытие. Побитый городской голубь, оставшийся снаружи голубятни, вспорхнул вслед уехавшим людям и, неуверенно, словно подбитый самолёт, попытался «встать на крыло». Ему удалось пролететь несколько десятков метров, и он сел на ветку дерева, переводя дыхание и набираясь сил для последующего перелёта.
Назад до отделения полиции ехали молча. Словно бойцы, возвращающиеся в тыл, осмысливая на обратном пути, что недавно произошло на передовой. Только перед отделением Степаныч поинтересовался у Петровны, что докладывать начальству. Криминальный труп или нет. Однако услышал формальный во всех отношениях ответ: «Вскрытие покажет…»
* * *
Царькова продолжала со страхом вглядываться под кровать, откуда всё явственней слышались кряхтящие звуки. Боль в сердце не отпускала, то усиливаясь, то немного ослабевая. Знакомо скрипнули пружины. Из-под покрывала показалась волосатая мужская нога в стоптанном ботинке и задранной выше икр брючине. Она узнала эти ботинки с налезающими на них вечно спущенными носками. От сердца немного отлегло.
«Андрюшкина нога. И как он под кроватью оказался? А мать его бегает, ищет. Хорошо, что здесь не нашла, под кроватью. За вихры бы вытащила оттуда.
«…ля, что за говно?.. Гроб?! Нет… Слава богу, вроде дышу. У-е-ё. О что это я головой бьюсь тогда? Бутылка катилась, я слышал звук. А… вот полоска света. Надо ногой пошерудить… Блин, точно звук бутылки слышал. Пустой. Полная так не катится. У неё более приятный звук, глухой, благородный. А у этой никакущий был. И кто орёт все время как потерпевший?!»
Следом за первой ногой появилась вторая, без ботинка, а затем вылез и обладатель ног – сын Митрофановны, Андрей. Выбравшись из-под кровати, он уселся на пятую точку, опершись спиной на свое недавнее укрытие. Крутя взлохмаченной головой по сторонам, он явно пытался сообразить, в каком он месте.
– Помоги, сердце, сейчас помру! – раздался громкий женский голос. Наконец его взгляд поймал лежащую женщину, и голова замерла, словно поломанный флюгер. Постепенно в его взгляде стала проявляться какая-то осмысленность, и наконец углы его рта разъехались в противоположном направлении.
«Вот кто меня опохмелит – эта старая олимпийская мумия. А чего она орёт как оглашенная? Блин, от этих воплей голова сейчас лопнет».
Он попытался встать, но давление в черепной коробке резко скакнуло и отдалось резкой, пульсирующей болью в висках.
«Во как стреляет, надо ползком, пока не «подстрелило». – Мужчина встал на колени и, словно остерегаясь меткого «выстрела снайпера», стал пересекать пространство комнаты.
– Баба Зин, хорош кричать, дай чего-нибудь выпить лучше.
– Лекарства дай, там на столе от сердца, капли, – протянула руку сердечница, указывая Андрею, что от него требуется, – накапай мне поскорее, мне очень плохо.
«Тебе плохо, блин, да ты нас всех переживешь и похоронишь. Ты ещё той, сталинской закалки. А вот мне действительно хреново».
Мужчина подполз к столу, на котором стояли разные пузырьки с лекарствами и графин с водой. Аккуратно, чтобы не стрельнуло в висок, поднялся, опираясь на тяжёлый дубовый стол. Выбрал пузырёк, долго не мог отвинтить крышку трясущимися руками. Наконец справился, открыл. Сразу принюхался.
«Спиртом даже не пахнет. Значит, какое-то говно! Капель тебе я считать не буду, руки хреново слушаются».
Загородив стол спиной, не считая капель, ливанул из пузырька на глазок. Затем плеснул в стакан из графина.
«Во как получилось здорово. Цвет как у портвейна. Самому, что ль, хлобыстнуть? Нет, пусть сначала она попробует, а то будет продолжать орать как оглашенная. Заодно и продегустирует».
Он поднёс стакан. Царькова выпила и, скривившись в лице, закашлялась. Андрей стал стучать по спине, полагая, что пошло «не в то горло». Женщина ничего не могла сказать, только пыталась остановить его шлепки, беспомощно размахивала руками и все никак не могла остановить кашель.
– Ты что мне налил?! – Едва переведя дыхание, просипела женщина. – Это же йод!!!
– Йод что, не лекарство? – недовольно поморщился сын Митрофановны, опять начиная чувствовать головную боль. – Ты вон пришла в себя, даже лицо покраснело, а я страдаю. Какие же вы все эгоисты. Я тебя спас! А ты опять кричишь, вместо того чтобы меня отблагодарить.
– Андрей, а ты как здесь оказался у меня под кроватью? – стала немного приходить в себя от такого шокового «исцеления» пенсионерка.
– Спроси чего полегче. Наверное, на автопилоте приземлился. Домашний мой аэродром, сама знаешь, в таком виде посадки не разрешает. Где, кстати, мой диспетчер?
– Кто? – не сразу поняла пожилая женщина.
– Мать, говорю, где?
– Тебя все ищет, бегает, а сейчас, наверное, мне за врачом пошла.
«Блин, что бы у неё спереть? Где-то здесь подсвечник стоял. Опа-на, уже нет, знать, моя мать успела, расстаралась уже».
— Денег дашь на моё восстановление? – разозлился Андрей, что столько времени потеряно без пользы для больного организма.
– Откуда у пенсионерки деньги, Андрюша? – попыталась усовестить молодого мужчину больная женщина.
– Нет? А давай тогда медаль твою золотую продадим. Олимпийскую, – предложил беспринципный молодой человек. – Тебе же деньги нужны? На лекарство? Мать мне говорила, что ты совсем обнищала! Я тебе все деньги назад принесу. Себе только на чекушку возьму.