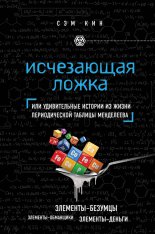Вырванное сердце Сухаренко Алексей
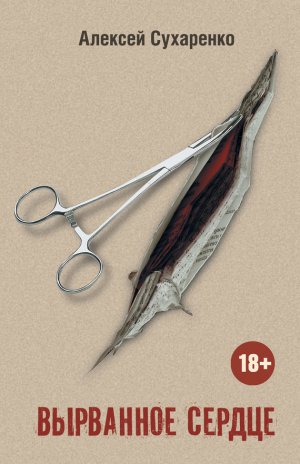
– Не люблю я ваш этот лошадиный спорт. Просто я делал вид, что мне интересно, – отмахнулся от её слов Андрюшка. – Он же ни на какую другую тему не разговаривал.
– Это точно. Для него лошадь всегда важнее человека была, – вздохнула бывшая жена Канцибера.
Андрей задумался и не к месту вспомнил про встречу с участковым. Вспомнил не умом, а телом. От его крепкого, как у краба, захвата болела рука.
«Пошёл, руку обтирая о куртку, словно в дерьме измазался», — вспомнил он характерный жест Степаныча.
Вспомнил, и в голове, против его воли, всплыли события вчерашнего дня. Он постарался отбить их атаку, но одна и та же навязчивая мысль, словно стенобитное орудие при осаде крепости, продолжала ломиться в его сознание. От этого все тело Андрея пронизывали отчаяние и безысходность. Стало плохо до безумия. Боль проникла в голову, спазмируя пленённые сосуды. Он не смог больше противостоять такому натиску и сдался. Сразу, словно сквозь брешь в стене, его сознание заполонило множество мыслей. Все они, подобно безжалостному войску, вторгшемуся в крепость для разграбления, начали бесчинствовать в голове мужчины, подавляя последние остатки его силы воли. Не надеясь уже ни на что, он решил сбежать, лишь бы не оставаться один на один со своим капитулировавшим сознанием.
– Я с… «этим» столько водки перепил, а о чём говорили, не помню, – вернулся в разговор сын Митрофановны, чтобы хоть немного заглушить просыпающуюся совесть. При этом он споткнулся, не зная, как назвать своего недавнего собутыльника. Стограмом уже было нельзя, а отцом не давала заноза в памяти.
– Хотя нет, он часто о голубях своих говорил, – неожиданно для себя вспомнил Андрей.
– Любил он голубей. Говорил, что в них человеческая душа после смерти вселяется, – оживилась Дарья Митрофановна. – Я его из-за этого и выделила. Бывало, как заберётся на крышу, как свистнет… С-с-сыть! Аж дух замирал.
Андрей с удивлением посмотрел на свою мать.
Глаза у пожилой женщины блестели, и вся она была немного возбуждена то ли от воспоминаний, то ли от выпитой водки. Совсем не такая, какой он привык её видеть каждый день – мрачной, грубой, с плотно стиснутыми губами, словно матёрый рецидивист на допросе.
«Никак не могу представить Стограма и мать вместе. В голубятне… Наверное, много бормотухи они выпили перед моим зачатием. А то и вовсе Стограм насильничал. Может, поэтому мать и не хотела нас знакомить?»
Ему особенно хотелось верить, что Стограм изнасиловал мать. Тогда ему было бы легче жить дальше.
Легче забыть и смириться с тем, что произошло вчера. И оправдаться перед самим собой!
«И вообще, он был самым последним пьяницей и халявщиком. Вороватым, хитрым, жадным, от него вечно несло перегаром и мочой».
— А я помню, он всё хлеб из закуски подворовывал. Занюхает куском и в карман. Ему один раз даже за это в морду дали, – стал вспоминать страницы из его тёмного прошлого Андрей. – Говорят – хватит крысятничать.
– А он чего? – откликнулась его мать.
– У него всегда один ответ: «Я же не для себя, я для голубей».
– Ну, так правильно, а на что ему птиц кормить, он же всю пенсию пропивал, – поддержала покойного Царькова. – Алкоголик алкоголиком, а вон, и про питомцев своих помнил.
– Жадный был до ужаса, – сделал вторую попытку донести свою правду Андрей. – Ему пацаны говорят: «Продай пару птиц, бухнём как следует». А он: «Не могу, они же мне как дети. Разве можно детей продавать?» Заботливый какой! Голубиный папочка! А своего сына даже не знал! Или знал? Мать, скажи правду! Хоть сейчас, Христом Богом прошу!
– А шут его знает, может, и догадывался чё, – нахмурилась Митрофановна. – Ко мне с вопросами, однако, не подходил.
Наступило молчание, во время которого каждый думал о своём, собираясь с мыслями.
– Непонятно, из-за чего с ним такое несчастье произошло, – прервала паузу Царькова.
– Из-за жадности! – моментально дал ответ Андрей. – Он когда отказался голубей продавать, его погнали от беседки. Причём объяснили как человеку, что нечего на «хвоста» падать, самим мало.
– А он? – поинтересовалась Царькова.
– А он трясётся с похмелья, умру, говорит, если не нальёте, – невольно вспомнил вчерашние события Андрей.
– Налили? – с волнением в голосе поинтересовалась мать рассказчика.
– Я же русским языком говорю – самим мало было, – распалился Андрей. – А он стакан с водкой схватил и ко рту тянет…
– Ой, господи! Да когда всё это было? – встрепенулась Митрофановна.
– Да вчера и было, – обречённо выдохнул мужчина. – Откуда мне знать, что он отец мне?
– Ну! – почти хором вырвалось у обеих женщин.
– Что ну!.. – подскочил на месте Андрей, размахивая руками, словно заново проживая вчерашнюю трагедию. – Я стал выхватывать стакан, а он его уронил. А доза эта моя была! Ну и… – Он опустил взгляд и с шумом рухнул обратно на стул.
Словно упало лишённое корней спиленное дерево.
– Ударил своего отца?! – с отчаянием вскрикнула мать.
– Отца?! – На Андрея было страшно смотреть, его лицо выражало одно большое страдание. – Нет, я бил не отца! Я бил Стограма! Ты же молчала про него всю жизнь. Вот я и бил, удар за ударом, в губы, в нос, под рёбра…
– Перестань! – вскрикнула Царькова, пытаясь закрыть уши, чтобы не слушать такое страшное признание.
Мать Андрея, напротив, сидела с каменным лицом, ещё плотнее сжав губы. До такой степени, что они побелели, словно у мертвеца. Видя реакцию матери, Андрей торопился всё выговорить, либо мстя ей за долгие годы молчания, либо, наоборот, ища у неё поддержки, так как в произошедшем они делили вину поровну.
– Мне даже показалось, что он попросил, – подошёл к самому тяжёлому моменту признания раздавленный своей исповедью мужчина, – да, он прошептал: «…Сынок, не надо». А я услышал это и совсем из ума вышел. Кричу: «Какой я тебе сынок, падаль помойная!» И бью, бью, бью… А сегодня утром он повесился… Мама!
Андрюшка бросился к «молчаливому изваянию» своей матери и обнял её, тычась в неё лицом, словно маленький ребёнок, в попытках спрятаться. В комнате всё замерло, словно в ожидании опускающегося театрального занавеса. Тишину нарушил лишь вспорхнувший с подоконника квартиры голубь. Зинаида Фёдоровна в полном изнеможении сил опустилась на влажную от слёз подушку, наслаждаясь возможностью перевести дух и немного прийти в себя.
«Наконец этот кошмар закончен. Я думала, со мной инфаркт случится. Ох, дети, дети… Как же ты там, доченька моя? Где, с кем? Хорошо ли тебе? Господи, не оставь её своей милостью. Пусть у неё будет большая и счастливая жизнь, одна, за нас двоих». Наконец Дарья Митрофановна очнулась. Её большая, разбитая от физической работы рука легла на голову сына, накрыв ею наметившуюся на голове у сына плешь.
– Прости меня, Дрюш. Надо было тебе раньше сказать, да я боялась, что ты меня презирать будешь, что я тебе такого отца выбрала. – Она тяжело вздохнула, выгоняя из себя последние остатки слабости. – Ну что уж теперь. Похороним его и будем жить дальше. Тебе вон семьей своей пора обзаводиться. Поэтому бросай пить. Вон Зинаида Фёдоровна нам на днях квартиру отпишет, а там и невесту тебе присматривать надо.
– Мам, не надо сейчас об этом. – Андрей, словно ребёнок, убаюканный колыбельной, почувствовал вновь обретаемые покой и уверенность.
– Ладно, ладно. – Шершавая ладонь матери, словно садовый инвентарь, пригладила торчащие в разные стороны волосы сына.
– Водки хочу ещё. Отца помянуть надо! – набрался смелости мужчина и почувствовал, что мамины «грабли» тяжелей легли на копну его волос.
– Хватит уж на сегодня. Вон сколько выдул. – Митрофановна подтолкнула сына. – А ну пошёл домой спать. Завтра налью сто грамм.
«Налью сто грамм! Митрошина Сергея Андреевича нальёт в стакан! Надо же… у него имя, как у всех, было, а то – Стограм! И всё же Нужняк как-то привычней».
Андрей после всех этих взаимных признаний чувствовал внутри себя полное опустошение, но всё равно ему было намного легче, чем накануне разговора с матерью. Он чувствовал себя словно вернувшаяся из химчистки сильно загрязнённая вещь. С отпоротыми пуговицами и вывернутыми наизнанку карманами. Вроде основную грязь вычистили, но что-то жирное въелось в волокна ткани настолько глубоко, что не помог ни один пятновыводитель. И теперь эту вещь уже никогда не выдать за новую, не надеть на праздник, а так – носить повседневно, желательно в самую дождливую и грязную погоду, всегда прикрывая верхней одеждой.
Андрей с матерью возвратились в свою однокомнатную малогабаритную квартиру, расположенную на первом этаже дома, в бывшую дворницкую, которую выслужила Митрофановна, всю жизнь проработав в одном и том же ЖЭКе. Сын уснул быстро. Видимо, сказалось психологическое перенапряжение и организму потребовалось набраться свежих сил. Мать же засиделась на пятиметровой кухне у окна, всматриваясь в высвеченный уличным фонарём небольшой пятачок дворовой территории. В него попала старая беседка, построенная ещё до рождения сына, и несколько больших деревьев, посаженных в начале семидесятых годов на ленинских субботниках.
Она помнила и любила эти постоянно отбираемые советским государством у своих граждан выходные, приуроченные к каким-нибудь торжественным датам. Праздники, посвящённые социалистической революции и победе над фашизмом, дни рождения Ленина, партии, комсомола, профсоюзов; социалистические соревнования, да и просто уборка территорий к календарным праздникам – они не переводились никогда.
Субботники проходили весело и дружно, с небольшим запахом дешёвого портвейна, под музыку из выставленного в окно проигрывателя грампластинок, а позже ленточного магнитофона. И уж конечно, Дарья в эти дни была у всех на виду. Она раздавала лопаты, грабли и другой инвентарь, указывала фронт работы жильцам дома и чувствовала себя нужным и значимым человеком. Ей казалось, что и отношение людей к ней менялось. Они становились более вежливыми и даже лебезили, пытаясь получить работу полегче или и вовсе отлынить от субботника. В этот момент молодая дворничиха чувствовала себя и вовсе начальствующим субъектом и вершителем человеческих судеб. Пусть только на один день…
На одном из таких субботников она и познакомилась с Сергеем. Почти тридцать пять лет назад. Он тогда вызвался покрасить ту самую беседку. Она, девка-переросток, дворничиха, травимая насмешками окрестных парней за свой тяжёлый характер и кулаки, которые часто приходилось пускать в ход, чтобы отбить приставания пьяных ухажёров. «Гром-баба» и «мужик в юбке» – самые безобидные прозвища, которыми окрестил её противоположный пол, совершенно не замечая, что под рабочей одеждой дворничихи скрывается настоящая русская женщина, мечтающая о простом бабском счастье.
Сложность была в том, что воспитанная в строгости отцом и матерью, в патриархальной крестьянской семье, она хотела к себе серьёзного отношения, а местный мужской контингент норовил только ущипнуть за грудь или задрать ей юбку. Митрошин был не такой. Она часто видела этого молодого тридцатилетнего мужчину на скамейке во дворе с книжкой в руках. Не с гитарой, орущим «Мурку», не стучащим об скамейку сушёной таранью и даже не костяшками домино. Это было непривычно и даже дико. Но он был не похож на остальных. Поэтому когда она подметала свою территорию, то каждый раз подбиралась к увлечённому чтением мужчине, заставляя отрываться от книги и обращать на себя внимание, заставляя его поднимать ноги. Но потом у него неожиданно умерла мать, с которой он проживал в небольшой комнате коммунальной квартиры, и мужчина начал выпивать.
С поминок своей мамы, когда первый раз напился до беспамятства, всё и началось. Пить он не умел. Его всегда рвало, и поэтому первоначальная симпатия быстро переросла в неприязнь дворничихи, вынужденной убирать его блевоту. Вскоре он приручил свою печень и одолел эту русскую науку – пьянство.
В тот день, на субботнике, он был трезв. Она выдала ему три банки краски. С запасом, прикинув опытным глазом, что на беседку уйдёт чуть больше двух. К концу дня Митрошин пропал, оставив после себя жидко покрашенную беседку, еле-еле скрывающую фактуру дерева. Знающая его местная шпана указала ей на голубятню, которую он купил у местного авторитетного вора сразу же после смерти матери. Там она и нашла недостающие пустые банки с краской и самого расхитителя социалистической собственности, гоняющего голубей на фоне свежевыкрашенного голубиного дома. Он долго не давал голубям садиться на покрашенную поверхность, раз за разом поднимая их своим свистом высоко в голубое небо.
Это и было их первое свидание, на котором она простила ему украденную краску, а он проникся её пониманием и тем, что Дарья полюбила его пернатых подопечных. Так они и стали встречаться в голубятне, втайне от лишних глаз. Эта птичья стая после смерти матери стала для одинокого мужчины новоприобретённой семьёй, в которую он впустил и молодую дворничиху.
Первое время им было безумно интересно друг с другом. Вечерами после работы он читал ей стихи и прозу. В основном лирического содержания: о любви и ненависти, о дружбе и предательстве. Но чаще он читал ей пьесы Шекспира, которые вызывали у малообразованной женщины бурю эмоций. Именно в этой, пахнувшей птичьим помётом и зерном голубятне крестьянская дочь открыла для себя «чудные» отношения малолетних подростков, которые, несмотря на запрет своих семей, любили друг друга. Здесь же она сопереживала чёрному мавру, задушившему свою жену, и впервые позволила Митрошину себя поцеловать.
Они оказались настолько разные, что искренне интересовались друг другом, словно были с разных планет. Как оказалось, мать Сергея была дворянкой, дочерью одного из деникинских генералов, который погиб задолго до эмиграции Белой армии. Митрошин получил прекрасное домашнее образование от матери и бабушки, которая и вовсе была из старинного княжеского рода Потёмкиных. Однако вскоре все их свидания стали заканчиваться одним и тем же. После культурной, просветительной части Сергей доставал приготовленную бутылку «портвешка» и почти полностью выпивал её один. Тогда он смелел и начинал приставать к женщине, совершенно не стесняясь своего благородного происхождения, ведомый только одним инстинктом размножения.
Однажды, когда она в очередной раз его оттолкнула, он сделал ей предложение выйти за него замуж. В тот вечер она позволила себе выпить лишнего и подпустила его слишком близко. А вскоре её вызвали по делу о краже и предъявили обвинение в наводке воров на квартиры граждан. Накануне в голубятне прошёл обыск, и там были обнаружены украденные из квартир граждан золотые изделия и вещи. Свидетели, видевшие её там вместе с Митрошиным, показали на дворничиху. В доказательство старый и циничный работник уголовного розыска предъявил бутылки из-под портвейна и стакан с её отпечатками пальцев.
Кражи эти были давние, совершённые тогда, когда голубятня принадлежала местному вору, но это уже не играло никакой роли. Государственная уголовная машина нашла подходящие жертвы. Оперативный работник, впрочем, понимал, что она и «дворянин» здесь ни при чем, однако не хотел отпускать жертву обстоятельств просто так. Тем более молодую женщину. Поэтому он непрозрачно намекнул, что спасение Дарьи теперь только в ее руках… ногах и других хорошо созревших частях женского тела. Все её существо восставало против такого низкого предложения, но память настойчиво давала сигналы, напоминая о раскулачивании и ссылке, однажды поломавшей жизнь всей её семье.
Женщина не понаслышке знала о репрессивной мощи Советского государства, ведь из всей её многочисленной семьи в живых после ареста родителей и старших братьев осталась только она, переданная на перевоспитание в специнтернат для детей «врагов народа»… И она сдалась.
Старый оперуполномоченный сдержал слово, и вскоре в деле появились подтверждения о причастности к краденному бывшего хозяина голубятни. За это чудесное «спасение» он регулярно брал с молодой девушки «плату», пока… через некоторое время Дарья не поняла, что беременна. Милиционер оперативно исчез из её жизни, оставив её погруженной в мучительные сомнения относительно предполагаемого отцовства.
Она прекратила отношения с Митрошиным и больше не бывала в его голубятне, один вид которой вызывал в её душе бурю обид и боли. На его попытки возобновить отношения реагировала резко и с угрозой. Робкие попытки Сергея найти выход становились всё реже и реже, пока мужчина не вернулся к привычному выходу из всех сложных жизненных ситуаций – пьянству.
Как только у дворничихи округлился живот и всем стало ясно, что Дарья Нужняк беременна, так сразу по двору и окрестностям разнеслись слухи о том, что дворничиха нагуляла неизвестно от кого, поскольку «давала» всем мужикам в районе, включая малолетних и инвалидов войны. Скорее всего распространению таких слухов способствовал небезызвестный женщине оперуполномоченный местного отделения милиции, который таким образом заранее пытался обезопасить себя от возможных претензий и обвинений с её стороны. Только родив Андрюшку и подсчитав денёчки, Митрофановна склонилась к тому, что сынок был зачат ею в голубятне от спивающегося отпрыска дворянских фамилий, который за девять месяцев, пока она вынашивала сына, практически не выходил из запоев и даже помещался милицией на лечение в лечебно-трудовой профилакторий.
Так они и продолжали сосуществовать в одном жилищно-эксплуатационном советском пространстве, а проще сказать – дворе, где у каждого была своя социальная ниша. Она – мать-одиночка, он – потерявшийся на пути к светлому коммунистическому будущему асоциальный элемент.
* * *
Утро началось необычно уже тем, что Царькову разбудил яркий солнечный лучик, пробившийся в образовавшийся между шторами небольшой просвет. Теплая полоска света легла на лицо пожилой женщины по диагонали, словно пиратская повязка пересекая один глаз, кончик носа и губы. Зинаида Фёдоровна физически ощутила это тепло. Она вспомнила, как ребёнком просыпалась в деревенском доме своей бабушки Анфисы, папиной мамы. Добротный дом в большой казацкой станице, переполненный всякой домашней живностью. Там в её кровать постоянно наведывался солнечный лучик, и она спешила проснуться под его ласковый зов, в промежутке между противными воплями станичных петухов. Она проснулась, вспомнив детство, своего первого коня, на котором училась сидеть верхом и ходила с мальчишками в ночное. «Моя казачка» – Царькова вспомнила, как любил её звать Канцибер, и хорошее настроение пропало, как и солнечный лучик, переместившийся с лица на стену.
До её ушей донесся звук у входной двери.
«Митрофановна? Неужто так рано? Или опять её сынок пришёл клянчить деньги? Как всё надоело. И они надоели, со своим животным скулежом. Семейка дегенератов. Все мысли только о материальном: деньги, выпивка, жратва, накопления. А теперь ещё и моя квартира. Можно подумать, что её сынок, как только я её оформлю, сразу возьмётся за ум, перестанет пить, пойдёт на работу. Или нет, он возьмётся за ум, когда я издохну, и они смогут ею распоряжаться? Так один чёрт, он и её пропьет. Что, он первый такой?»
— Доброе утро, Зинаида Фёдоровна. А у вас опять дверь открыта. – К изумлению пенсионерки, в дверях появилась вчерашняя патронажная сестра.
– Здравствуй, Мария, здравствуй, дочка. – Царькова обрадовалась приходу милой молодой женщины, словно родному человеку.
– Дочка… – Женщина немного опешила. – Как, однако, приятно услышать это слово, пусть даже сказанное в общем смысле…
Пожилая женщина только сейчас почувствовала сердечную занозу, глубоко и болезненно сидящую в этом выросшем без родителей милом человечке.
«Может, она поэтому и выбрала заботу о старых и немощных старухах? Некий эрзац общения с никогда не существующей матерью? Ей просто необходимо помогать старым женщинам, и она словно играет в «престарелые» куклы, может, даже представляя их своей матерью. Некая морально-психологическая компенсация за свой нелёгкий и наверняка малооплачиваемый труд. Бедная малышка!»
— А я вам сырков глазированных принесла, – продолжала проявлять заботу Мария. – Давайте чай пить.
– Надо же, как ты угадала, – удивилась пенсионерка. – Это же моё любимое лакомство…
Мария улыбнулась.
«А может, и не угадывала вовсе. Наверное, она всем старушкам предлагает эти сырки. Беспроигрышный выбор. Бабки-то все беззубые, да творожный продукт опять же», – подумала Царькова, глядя вслед довольной молодой женщине, ушедшей на кухню ставить чайник.
Вскоре к её кровати был уже придвинут сервировочный столик, а спустя ещё некоторое время они уже запивали творожное лакомство ароматным, бархатным чаем. Всё было как-то спокойно и по-домашнему. Так, как давно уже не было. А может, и вовсе не было никогда. Мария ела сырки так же, как и она – по-детски, не сильно заботясь о чистоте рук, откидывая обёртку в сторону. Тонкий хрупкий шоколад, словно первый лёд, ломался под тёплыми пальцами патронажной сестры, окрашивая их кончики в кофейный цвет. После проглатывания последнего кусочка они одновременно стали уничтожать следы «преступления», слизывая с пальцев сладкие пятна. Удивившись совпадению такой привычки и синхронности облизывания, они весело рассмеялись.
«Вот так бы, сейчас, я могла сидеть рядом с родной дочкой, а не с этой, пусть и хорошей, но чужой молодой женщиной. Интересно, а какого она возраста?»
— Тебе сколько лет-то, двадцать шесть или двадцать семь? – вырвался у Зинаиды Фёдоровны напрашивающийся вопрос.
– Нет, мне уже тридцать три года, – просто и без какого-либо кокетства произнесла женщина – Но я себя чувствую на восемнадцать лет. Словно вчерашняя выпускница детского дома.
– Тридцать три года?! Надо же!.. – вырвалась непроизвольная реакция у Царьковой. Мария, видя её удивление, задорно хохотнула.
«Радуется, что я ошиблась, что хорошо выглядит. Ладно, я не буду тебя в этом переубеждать. Тем более что и впрямь выглядишь ты лет на двадцать пять. Я и так прибавила зачем-то… Но тридцать три года! Тридцать три! Чёртовы совпадения, словно постоянные напоминания о моей роковой ошибке».
— А в каком детском доме ты воспитывалась? В нашем городе? – зачем-то, сама не зная, поинтересовалась бывшая олимпийская чемпионка.
– Нет. Я жила в великолукском детском доме. Это Псковская область, – уточнила Мария.
У Царьковой два раза подряд ожгло болью сердце. Сначала на слове «…великолукском», а затем на «…Псковская область». Словно эти слова несли в себе змеиный яд и теперь ужалили её, проткнув двойным острым жалом. В голове раздался знакомый металлический звук медицинских инструментов, копошение в лотке, свет в глаза, лицо врача-акушера. «Всё хорошо, мамочка, всё уже хорошо…» Зелёные глаза мужчины-акушера с обилием полопавшихся сосудов, словно только что вынырнувшего из большой глубины.
«Как будто он вместо меня тужился при родах», – в очередной раз отметила память пенсионерки эти красные глаза врача-акушера из Великолукского родильного дома.
«Как его звали? Влад всё задабривал его коньяком. Они даже вместе пили накануне родов. И после… Может, эта молодая женщина росла с моей дочерью вместе! А может, даже дружила!»
От осознания, что эта встреча может оказаться на редкость удачной и даже помочь выйти на след потерявшейся дочери, бывшая олимпийская чемпионка пришла в большое волнение, напоминающее обыкновенную панику. Состояние, когда ты ещё ничего не узнал, но уже боишься и паникуешь, что потерпишь неудачу.
– А как же ты там оказалась? – Осторожно, словно сапёр на разминировании, она приступила к выяснению необходимой ей информации.
– Да как и все другие отказники, – пожала плечами Мария, не совсем понимая этот вопрос.
– Отказники… – задумчиво повторила Зинаида Фёдоровна, словно пробуя и смакуя на вкус это звучащее для неё по-новому слово.
– Ну да, от кого отказываются родители. – Мария всмотрелась в больную, понимая, что старая женщина начинает волноваться. – Ой, да что с вами? Не надо было мне об этом говорить.
Царькова ненадолго ушла в себя. Погрузилась в свои мысли, пытаясь сообразить, как лучше и какие вопросы задать бывшей воспитаннице детского дома, но память бурным водным потоком утянула её в водоворот, и она против своей воли стала погружаться в эту кошмарную воронку воспоминаний, на выходе из которой опять становились слышны звуки родильного отделения: скрип медицинских тележек, крики рожениц, плач новорождённых…
…В Великие Луки они с мужем приехали поздно ночью. С поезда в центральную гостиницу города. Был забронирован номер люкс. Администратор гостиницы, женщина предпенсионного возраста, с морковной помадой на губах и большим шиньоном на голове, похожая на церемониймейстера дворца бракосочетания. Она уставилась восторженными глазами на известную спортсменку, надежду СССР на предстоящей Олимпиаде, как на кинозвезду. Затем глаза администраторши оторвались от её лица и скользнули по одежде столичной модницы, упёрлись взглядом на выпирающий живот. На лице отразилось недоумение, почти трагедия. Словно страна уже проиграла конную выездку. Было видно, что женщина еле сдерживает себя, чтобы не спросить о сроке беременности.
Она проводила супругов в номер и долго не уходила, словно ждала на чай. Наконец осторожно спросила у «тренера», воспользовавшись, что чемпионка мира зашла в ванную, и когда услышала, что срок девять месяцев и «жена успеет и родить, и на Олимпиаде побороться за медали», с облегчением покинула номер, словно сама разрешилась от бремени.
Ночью, несмотря на усталость, Канцибер стал приставать. Он не думал о возможных последствиях и хотел своего – секса, прекращения её беременности, поездки на Олимпиаду, получения золотой медали. Именно в такой последовательности, ничего не упуская, ничего не меняя. Несмотря ни на что! Подобно культу их ежедневных тренировок, нарушить расписание которых было подобно предательству, измене их браку.
Она уступила мужу, тренеру, мужчине, терпеливо ожидая окончания и прислушиваясь к поведению плода. Женщина боялась, что это может раньше времени спровоцировать схватки. Но обошлось.
Наутро в ресторане гостиницы на завтраке к их столику подошел импозантный статный мужчина с богатой шевелюрой волос и необычайно насыщенным цветом зелёных глаз.
– Главный врач родильного дома Центральной городской больницы Лев Петрович Звягинцев, – длинной прозаической строкой представился приятный мужчина.
Он оглянулся по сторонам, словно шпион, боявшийся разоблачения.
– Вас все в городе, наверное, знают? – догадался о причине его беспокойства Владлен Канцибер.
– Меня в горкоме партии предупредили, что вы приедете инкогнито, и не хотели, чтобы по городу поползли слухи о целях вашего визита, – пояснил Звягинцев.
– Вот моя карта беременности. – Царькова протянула врачу-гинекологу тоненькую медицинскую карту, заведённую в женской консультации.
Лев Петрович, словно на календаре, перебросил несколько листочков, задержавшись на результатах недавних анализов, и удовлетворённо кивнул.
– До Олимпиады осталось пять недель, а ещё нужно прийти в себя. Набрать форму для выступлений, я бы сказал – для победы, – напомнил Канцибер. – Хватит ли у нас времени, доктор?
– У вашей жены прекрасное здоровье, думаю, что если завтра, 6 марта, начнём стимулировать роды, то вполне… – оптимистично заверил главврач роддома. Муж достал из дипломата дорогой французский коньяк и попытался подарить врачу.
– Ни к чему не обязывающий презент, так, в честь нашего знакомства – оттарабанил Владлен подготовленную заранее фразу.
– Нет, я такой дорогой подарок взять не могу, – вспомнил о разговоре в горкоме Звягинцев, но чтобы не обидеть известных гостей, добавил: – Мне и нести бутылку не в чем.
– Тогда прошу к нам в апартаменты, выпьем по рюмочке, – настаивал тренер, чтобы закрепить контакт с будущем врачом-акушером своей жены.
На этом и сошлись, плавно переместившись в большой двухкомнатный номер, и расположились на мягком диване в гостиной. После нескольких рюмок дорогого напитка врач немного расслабился и заговорил о предстоящей Олимпиаде. Канцибер стал с жаром говорить о перспективах Царьковой на золото.
– Лев Петрович, тут всё одно к одному, и опыт Зинаиды, и Буран в лучшей форме, и Европа стала привыкать к её победам, – горячился, наливая очередную рюмку, муж и тренер. – Если выигрывать, то только сейчас.
Звягинцев посмотрел на молчащую «надежду страны Советов». Царькова не принимала участия и даже не высказывала интереса к беседе мужчин. Было видно, что сейчас её занимало только то, что жило внутри неё.
– А может, не стимулировать роды? – неожиданно предложил врач. – Предоставить всё природе. Пусть всё идет своим чередом? А? В конце концов будут и другие чемпионаты.
– Ты что, Петрович? Не понял, о чём тебе в горкоме говорили? – вспыхнул тренер, переходя на фамильярное обращение. – Нашей стране нужно это золото. Мы должны занять первое место в общем командном зачёте. Победить Америку. А потом какие у неё будут ещё старты? Ей уже тридцать пять. Выиграет Олимпиаду и уступит дорогу более молодым спортсменкам. Уже возраст. Ещё четыре года до следующей Олимпиады она не сможет лидировать. Я хочу своей жене сделать самый лучший подарок – сделать её олимпийской чемпионкой. Ты что, против?
Врач опрокинул очередную рюмку коньяка и отрицательно завертел головой. То ли был не против такого шикарного подарка, то ли «не пошёл» вражеский коньяк.
– А это не опасно? Стимулирование ваше! – подала наконец голос молодая женщина, словно вышедшая из длительной спячки. – И вообще, я боли боюсь.
Мужчины одновременно повернулись к ней, удивляясь, что она так неожиданно заговорила.
– Я вам могу пообещать, что это не опасно и не больно, – поспешил успокоить роженицу Звягинцев. – У нас самые передовые препараты. Наш родильный дом оснащён австрийским диагностическим оборудованием. Мы укомплектованы лучше Москвы. К нам едут рожать все ваши актрисы и жёны руководителей страны. Так что ваши страхи напрасны.
В роддоме, казалось, всё уже знали и ждали её приезда. Её, чемпионку Советского Союза и Европы, положили одну в двухместную палату, чтобы оградить от любопытных, но желающих поглядеть на столичную знаменитость от этого меньше не стало. Поочередно в палату к выдающейся спортсменке приходили врачи, бесконечно справляющиеся о температуре и самочувствии, медсёстры, проверяющие установленную капельницу и катетер, санитарки, поправляющие один и тот же край одеяла. Следующим эшелоном пошли беременные и разродившиеся мамочки, которым стало известно о такой знаменитой соседке. Царькова уже не обращала внимания на заглядывающих в палату бесцеремонных любопытных женщин. Свыклась и теперь не поворачивала голову на каждый скрип двери.
Беременная женщина в ожидании, когда стимулирующая жидкость спровоцирует родовую деятельность, стала смотреть, как капающий из капельницы физраствор бежит по прозрачной трубочке к катетеру и далее через вену поступает в её организм. Кап, кап, кап – словно часовой механизм или метроном, ведущий отсчёт секундам, складывающимся затем в минуты и неизбежно приближая начало…
…Всё это промелькнуло в вихревом потоке памяти за несколько секунд. Мелькнуло и снова вернуло Царькову в её старую квартиру, подаренную ей за победу на той самой Олимпиаде.
Мария продолжала озабоченно вглядываться ей в лицо, пытаясь предугадать желания пожилой женщины.
– А ты какого числа родилась? – словно под гипнозом, продолжила свой пристрастный «допрос» Зинаида Фёдоровна, уже не в состоянии остановиться.
– Шестого марта, – раздался ответ молодой женщины.
– Какого? – Царьковой показалось, что она ослышалась, поскольку такого просто не могло быть.
– Шестого. – Мария с недоумением посмотрела на странную реакцию больной женщины. – Прямо в канун женского праздника. Правда, хорошо, что не восьмого? А то бы на один счастливый день у меня было бы меньше.
«Этого не может быть! Столько же лет, сколько и моей дочери! Родилась 6 марта – как и моя дочь! И она на меня чем-то похожа в молодости! Как же я этого не заметила?! Неужели она и есть моя потерянная дочь?! Ой, что же теперь делать? Признаваться ей, что я её мать или нет?»
Сердце пожилой пенсионерки моментально откликнулось на волнение острой колющей болью. Царькова схватилось за него, заохала, но больше даже не от боли, от того нового для себя состояния, в котором оказалась впервые за свою долгую и насыщенную жизнь. Мария моментально накапала сердечных капель, но Царькова отвела её руку.
– А ну-ка, подай мне альбом с фотографиями! – потребовала бывшая чемпионка решительным тоном. – Он вон там, в тумбочке!
Патронажная сестра моментально исполнила просьбу, передав ей большой альбом, обтянутый малиновым бархатом. Царькова торопливо пролистала первые страницы, остановившись посередине, на своей фотографии тридцатипятилетней давности.
– Ну, вот я в твоём возрасте. Почти одно и то же лицо. – Она в изнеможении откинулась на подушку, словно выступившая с последним словом в ожидании приговора, и прикрыла глаза, прислушиваясь к раздающимся рядом звукам.
«Вот она взяла альбом и теперь смотрит на мою фотографию. Наверное, посмотрела на меня. Видит моё волнение и уже, наверное, и сама начинает догадываться о том, в чём мне предстоит ей признаться. Да, но как она догадается без моей помощи?»
Женщину начало колотить так, что, казалось, сердце выскочит наружу.
«Ну что же она молчит? Наверное, увидела наше сходство и теперь не знает, что сказать».
— Да нет, вовсе не похожа, – раздался неожиданный ответ Марии. – Ну где же тут схожесть со мной? Вы были похожи на киноактрису.
Она перевернула страницу и стала внимательно рассматривать другое фото.
– Странно. А вот лицо у этого мужчины мне кажется знакомым, а где я его могла видеть, не припомню.
– Это фотография моего мужа. И ты, конечно, на него похожа, а не на меня, – выдохнула Зинаида Фёдоровна, продолжая собираться с духом.
– Да, вы, наверное, правы. Словно я эти черты уже не раз видела в зеркале, – задумчиво произнесла сбитая с толку сестра милосердия.
– А он, мерзавец, меня клятвенно заверил, что тебя удочерили и поэтому тебя невозможно найти, поскольку существует тайна усыновления. – Царькова поспешила принять сердечные капли, чтобы хоть как-то унять подпрыгивающее до гортани сердце.
– Не пойму, а какое отношение ко мне имеет этот человек? – Молодая женщина была взволнована настолько, что её небольшой румянец на лице сменила матовая бледность. – Он что, меня искал? А зачем?
– Потому что он твой отец, – сделала половину признания Зинаида Фёдоровна.
– Ваш муж – мой отец? – Бледность лица Марии уже достигла цвета ватмана. – А как же ваша дочь?..
– Ведь я дочку оставила в роддоме. – Царькова ещё не собралась с духом, чтобы сказать – «тебя».
– В каком? В том, в котором была я?.. – Казалось, Мария стала улавливать нить разговора, и от этого в ней произошла метаморфоза.
Её губы сползли вниз, а брови сошлись домиком. Она изменилась до такой степени, что стала похожа на маленького обиженного ребёнка, который собирается плакать. Словно ей протянули конфетку, а она, уже много раз обманутая пустышкой, взвешивает её на ладони, пытаясь угадать, что на этот раз. Есть ли под фантиком шоколад или это очередной обман судьбы, которая решила над ней посмеяться?
– Глупая была. – Царькова, видя её состояние, заторопилась со своей исповедью. – Всё боялась не успеть Олимпиаду выиграть. Чемпионат Союза выиграла, Европу взяла, а тут и Олимпиада подошла. Мужу надо заслуженного тренера получать. Он же тренером моим был. А тут ещё врачи говорят, что ребёнок больным родится. Муж стал уговаривать отказаться от ребёнка. Говорил – последняя попытка, возраст у тебя не для спорта. Вот и уговорил. А потом я стала её разыскивать, а дочки и след простыл. Тайна усыновления. А возраст у меня не только для спорта большим оказался, но и для будущих беременностей. Не смогла я больше ребёночка родить. Словно Господь меня наказал.
– Если этот мужчина с фотографии мой отец… – Мария, задыхаясь от волнения, стала увязывать в логическую цепь всё, что услышала от пожилой женщины, – …а он был вашим мужем… Значит, вы… моя мама?!
Она произнесла это с таким надрывом, словно лопнувшая скрипичная струна, успевшая перед этим исполнить последнюю ноту. Теперь для неё уже ничего не было так важно в этой жизни. Всё самое важное уже случилось и теперь сконцентрировалось на этом пожилом человеке. Её маме. В голове же у её мамы в это время проносились варианты разных ответов: от простых – «да» до более сложных – «да, доченька, я твоя мама», и она никак не могла остановиться ни на одном из них. Первые были словно равнодушное согласие или констатация факта – холодные и сухие, а вторые были и вовсе непривычны, поскольку там было это слово «доченька». Царьковой и хотелось, и было страшно первый раз произнести «дочка» в полноценном смысле этого слова, обращенное к своей нежданно обретённой кровиночке. От одной только мысли назвать эту взрослую женщину дочкой во рту моментально испарялась вся влага, язык со страху прилипал к нёбу.
– …Мама? – переспросила в ожидании затянувшегося ответа Мария.
– Если то, что я сейчас представляю, можно назвать матерью. – Вместо планируемых ответов Царькову «вырвало» словесным суррогатом.
Но молодой женщине и такого признания оказалось достаточно. Сразу после него Мария прильнула к пенсионерке и обхватила её своими руками. Больная почувствовала на своей щеке тёплые слёзы дочери. Это передалось моментально, словно вирус. Она тоже заплакала, подмешивая в этот эмоциональный коктейль свои старческие слёзы.
– Ну ты что? Успокойся, – всхлипывая, успокаивала свою обретённую дочь пенсионерка. – Ты должна меня презирать и ненавидеть.
Царькова растерялась, не зная, что ей делать дальше. Руки зависли над волосами дочери, словно боялись причинить ей боль своим неловким движением.
– Как ты так можешь, мама, ну как тебе не стыдно? – Улыбка Марии уже начинала пробиваться на её лице, словно солнечный лучик из-за дождливой тучи. – Ты лучше обними меня. Я так мечтала о твоей ласке.
Руки Зинаиды Фёдоровны наконец-то легли на голову Марии и сделали первые, робкие поглаживания волос дочери. Она почувствовала тепло родного человека, своего выросшего ребёнка. Его запах. Это были непередаваемые ощущения. Она такого не испытывала никогда в жизни. Это давало ей жизненные силы, которые словно переливались из этого молодого тела в её немощное и больное.
Ею овладела настолько сильная эйфория, что захотелось тут же встать с постели и закружиться в радостном танце. Впервые за долгие годы она почувствовала себя полностью счастливым человеком. Теперь она знала, что уже не одна на этом свете. На сердце её лилась песня, благодарящая Господа Бога за такое счастье.
«Отче Наш, благодарю тебя, Иисусе Христе, за Твой подарок мне под конец жизни. Как я рада, что Канцибер забрал эту дурацкую подкову. Иначе я не смогла бы сейчас посмотреть в Твои глаза, наполненные любовью и всепрощением. Я благодарю Тебя за это нежданное, истинное счастье, от которого так бездумно отказалась тридцать пять лет назад в Великих Луках».
* * *
Настя приготовила отцу традиционную овсяную кашу, а затем покрошила туда отваренную сосиску. Получилось красиво.
«А если отец выберет только сосиску, а кашу есть не станет?» — подумала девочка, вспомнив, как пёсик поначалу выхватывал языком отдельные сосисочные кружочки.
Дочка решительно перемешала кашу с кусочками сосиски. Теперь получилось не так красиво, зато появилась надежда, что отец вместе с сосиской будет есть и кашу.
Егор чувствовал себя виноватым перед дочерью. Он всё не мог отойти от вчерашней стрельбы, когда чуть не случилась непоправимая трагедия. В голове с самого утра был полной кавардак и хаос мыслей, поэтому когда он сел завтракать, то очистил всю тарелку, даже не поняв, какую тайну хранила в себе овсяная каша. После завтрака он первым делом залез в свой тайник, сооружённый в полу, в самом углу комнаты, под отстающей половицей, и достал из железной коробочки «Монпансье» недостающие в пистолетной обойме патроны. Теперь можно было идти в отделение на работу, не боясь проверок руководством его оружия. Смущало только подавленное состояние дочери. Грусть в её глазах.
«Надо бы чего-нибудь дочке сказать хорошего. Может, спросить про школу, про её успехи? Похвалить её. Пообещать в воскресенье сходить в кино и в её любимое кафе-мороженое. Нет! В воскресенье я дежурю в отделении. Не пойдёт… Тогда, может, спросить её, не хочет ли она, чтобы приехала моя мать? Она, наверное, соскучилась по бабушке… Я совсем перестал с ней разговаривать по душам. Всё некогда. Эти два года мы все меньше и меньше проводим время вместе. Она то у подружек, то одна в комнате за книгами. Никогда не жалуется, лапулечка. А может, просто сказать, что я её люблю? Просто люблю, и больше ничего».
— Тебе сегодня каша удалась, я просто язык проглотил, когда ел, – неожиданно вспомнил отец, что каша была посолена в меру.
– Тебе понравилось? – оживилась дочь. – И пёсику тоже понравилось, он вчера миску дочиста языком вылизал.
Грачёв еле сдержался, чтобы не повысить голос. Он не собирался возвращаться к разговору о хромоногой дворняге, поэтому заторопился на работу. В дверях он вспомнил о вечернем рандеву с Петровной.
– Я сегодня поздно вернусь, ты ложись спать, не жди меня, – скороговоркой проговорил он дочери, чувствуя сильные угрызения совести и прилагая неимоверные усилия для их преодоления.
Он спустился во двор, точнее, сбежал, понимая, что всё делает не так. Не так говорит, не о том думает, не то делает. Уже сидя в своем жигулёнке, он стал анализировать. А собственно почему? Почему он не делает так, как подсказывает ему совесть? Неужели во всём виноват основной инстинкт, побеждающий в нём отцовское чувство? А почему он так ревновал свою сбежавшую жену? Почему он извёл её своей ревностью и подозрениями? Может, он не любит свою дочь? Грачёв понял, что до сих пор не вывел из своей головы старые мысли и подозрения. Вопросы, вопросы, вопросы – как стая ворон, свивших гнёзда на одном дереве и превративших его в своё шумное общежитие. И никаких ответов, никакого просветления в этой серой каркающей массе. Он вспомнил свою вчерашнюю игру с пистолетом и представил Настю, разбуженную выстрелом. Её душераздирающий крик, на который сбежится вся общага.
«Сука, какая я сумасшедшая сука и тварь! Держу дочь словно падчерицу. Растёт без матери и от меня ласки не видит. Мало того что мать её смертельно обидел, так ещё и ей рассудок повредить могу. Нет, без женщины я точно дочь не вытяну. Надо идти Петровне на поклон. С серьёзными намерениями. Делать ей предложение? А как? Я же ещё со Светланой не развёлся! Вот попал в ситуацию! Где выход? Господи, Боже мой, помоги! Не за себя прошу. Ради дочки!»
В отделении сразу по приезде капитана «обрадовали» новым «глухарём», произошедшим на его территории.
Некие мошенники, оформив у пожилого и одинокого ветерана войны доверенность на квартиру, продали её ни о чём не подозревающим покупателям. Обман выглядел классически. Ветерану предложили пожизненный уход с содержанием взамен его жилья. Старик доверился благотворительной организации и оформил доверенность якобы на оплату коммунальных услуг, проведение ремонта и других услуг от имени собственника жилья со сторонними организациями. На самом деле он подписал доверенность с правом продажи квартиры, которая быстро нашла себе новых хозяев.
Всё это обнаружилось, когда покупатели стали въезжать и столкнулись нос к носу с ветераном войны, который был, что называется, ни сном ни духом… Покупатели пошли в суд, а обманутый старик, оборонявший Москву и бравший Берлин, стал участником новой войны. На этот раз за свою квартиру, и эту войну, судя по всему, выиграть у него шансов не было.
Дед сидел в дежурной части, уставившись на доску «Их разыскивает милиция!», словно надеялся найти среди фотографий и фотороботов своих обидчиков. Его колючие глаза-буравчики из-под кустистых бровей всматривались немигающим взглядом в лица преступников, словно ловя их в снайперский прицел. Но тщетно: людей, укравших у доверчивого старика жилплощадь, среди них не было и быть не могло. Когда оперативник привёл потерпевшего в свой кабинет и подробно его опросил, выяснилось, что, кроме молодого человека, на которого ветеран выписал доверенность, была ещё и молодая женщина. Именно она по его договору с преступниками должна была ухаживать за участником войны.
Капитан знал, что паспорт, на который выписана доверенность, поддельный. Мошенники просто вклеили в чужой паспорт свою фотографию и спокойно провернули сделку. Кроме того, судя по фотографии в поддельном паспорте, у преступника были наклеенная борода и усы. При такой ситуации не только разыскать, но и опознать преступника было бы невозможно, даже если его удалось бы предъявить обманутому ветерану на опознании.
Понимая это, Грачёв стал подробно составлять фоторобот молодой женщины – сообщницы квартирных мошенников. Опытный опер понимал, что она – слабое звено преступной схемы. Наверняка местная жительница, возможно, даже из этого района. Дед, на счастье оперативнику, обладал хорошей образной памятью. Он придирчиво перебирал варианты глаз, бровей, овал лица, накладывал один слой прозрачной пленки с элементами портрета на другой, неуклонно приближаясь к искомой внешности. Не удавалось найти только похожие глаза.
– Красивая женщина была, – вспоминал внешность сообщницы мошенников ветеран. – Здесь таких глаз не найти, но вот если эти…
Он сделал ещё одну попытку заменить глаза фоторобота, чтобы наконец добиться оптимального сходства портрета. Грачёв наложил очередную пару глаз и обомлел. Составленный фоторобот как две капли воды был похож на его пропавшую жену.
– Вот, совсем другое дело! – довольно крякнул ветеран войны. – Она! Вылитая. Ух, шельма. Был бы я помоложе, уж я бы ей юбку задрал, мерзавке.
«Может, это та молодая проститутка? Да нет, она по возрасту не подходит. Больше десяти лет разницы с преступницей. А вот Светка и по возрасту, и внешне просто копия с мошенницей! Странное сходство. Прям мистика какая-то».
Ветеран ушёл держать оборону квартиры от новых собственников, а Егора вызвал начальник отделения. Подполковнику Козлову доложили о его вчерашней стрельбе у гаражей, и он был вне себя от ярости.
– Ты чего по собакам палишь? Ты что, в отстреле бездомных животных работаешь? – Начальник отделения полиции был настроен очень сурово и решительно.
Так бывало всегда, когда Алексей Иванович не смотрел в глаза своему подчинённому и распекал его за какой-либо проступок. В отделении уже знали: если смотрит в глаза, то отчитывает для проформы, если нет – выговор обеспечен. А тут он ещё крутил в руках зажигалку. Значит, не просто сильно нервничал. Подполковник не так давно с огромным трудом бросил курить и, когда не справлялся с нервами, всегда хватался за подаренную ему на сорокалетие большую настольную зажигалку.
Отчаянно крутя колёсиком, словно раз за разом прикуривая вожделенную сигарету, он ещё больше распалялся, злясь на себя за проявление минутной слабости. Соответственно, виновному в доведении начальника до такого состояния приходилось ожидать для себя самые неприятные последствия. А уж если начальник вновь закурил бы, то виновнику, несмотря на стаж работы и должность, точно пришлось бы увольняться.
– Простите, товарищ подполковник, нервы подвели, – честно, как на духу, признался оперуполномоченный.
– И что мне теперь предложишь делать? – развёл руками начальник. – В институт Сербского тебе направление выписать? Или Ганнушкина? Пусть дадут заключение, что можно тебе оружие доверять. А то ведь ты человека убьёшь, а отвечать и мне вместе с тобой придётся!
– Этого больше не повторится, – заверил начальника капитан.
– Да что ты? – сделал удивлённое лицо подполковник. – Хочешь сказать, что это было первый и последний раз?
– Так точно, – подтвердил Грачёв.
– Тогда скажи, а что за стрельба была у семейного общежития в тот же день вечером? Туда наш наряд вызывали, только никого там уже не обнаружили. Ты ведь уже дома был?
– Да, я был дома. У меня же дочь без матери растёт… – собирался с мыслями оперативник, не зная, что ответить.
– Ну и… – поторопил его Алексей Иванович в ожидании ответа на свой вопрос.
– Да, это я, – признался, опустив голову, капитан. – На улице увидел ту же собаку рядом с дочерью, испугался, что она её покусает.
– Убил? – играя желваками и не смотря в лицо подчинённому оперативнику, чиркнул колёсиком зажигалки подполковник.
– Чего? – растерялся сотрудник.
– Застрелил псину, в конце-то концов? – повысил голос начальник отделения, учащая добывание огня.
– Нет, убежала, – понуро пробормотал капитан, вглядываясь в лицо начальника и пытаясь предугадать его дальнейшую реакцию.
– Вот это-то и хуже всего, – словно сам себе произнёс начальник.
– Не понял… – Капитан полиции не знал, как реагировать на его слова.
– Сдай мне оружие, – неожиданно приказал командир.
– Алексей Иванович, товарищ подполковник… – просительно затянул Грачёв, – да как же я без работы?
– А ты на что рассчитывал? – взорвался подполковник. – Что я позволю своему чокнутому сотруднику бегать по городу и стрелять по собакам?