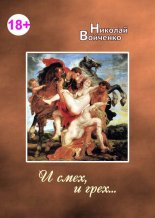Содом тех лет Воронель Нина
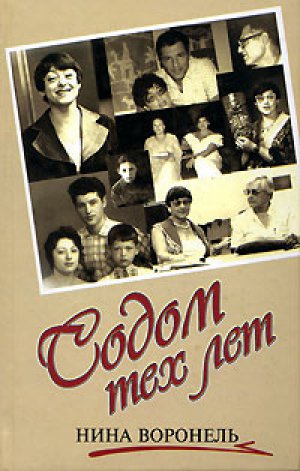
Я в последний раз перелистываю творение Эдички и слышу, как на соседней странице горькими слезами завистника умывается писатель Юрий Милославский. Он завидует и надрывно утверждает, что он такой же замечательный, как Эдичка, – ведь он тоже таракан, и поет лишь потому, что жрать хочет. И при этом горько плачет, ибо в глубине души знает, что это – не так.
Он доказал это, умудрившись написать о книге Эдички без единой цитаты из нее. После всех своих хвастливых деклараций Юрий Милославский в растерянности запнулся перед трехбуквенным именем того предмета, который он, так и не решившись на «прыжок в бездну», скромно назвал «синтетическим вибратором» – в отличие от Эдички, давшего ему истинное полновесное имя. Так что не поможет Милославскому попытка подольститься к Эдичке и обещание шагать с ним в ногу – когда полчища тараканов ворвутся в наши края, они Милославского не пощадят, своего в нем не признают. Они мигом смекнут, что все, им написанное, писано в присутствии «Того, кто сотворил Небо и Землю, сломал меня пополам, так что от хруста собственного станового хребта ничего другого не услышишь…» (Ю. М.)
А таких в тараканы не берут, нечего и проситься: ведь если что постороннее и присутствует в тараканьих писаниях, то это всего лишь вышеупомянутый синтетический вибратор, заменяющий таракану «Того, кто сотворил небо и землю», – и мы должны быть благодарны Эдичке за искренность, с которой он в этом признается».
Статья эта была написана более двадцати лет тому назад, и сегодня, оглядываясь на литературную и политическую карьеру Лимонова, разросшуюся за эти годы буйной развесистой клюквой, я сама удивляюсь точности своего диагноза. К сожалению, ему не удалось больше никогда написать что-либо, сравнимое по пробойной силе с исповедью Эдички, где есть воистину берущие за душу пассажи.
Увы, все остальное, что он писал и издавал с тех пор, выглядит бледной шелухой, слущенной с задорных страниц его первого шедевра – там он все сказал и расставил все точки над всеми «и», а дальше ему уже сказать нечего, он только повторяется. А повторение лишь в учении – мать, в художественном же творчестве оно – злая мачеха.
Одна-единственная книга из написанных Лимоновым после Эдички способна местами оцарапать чувства читателя – вероятно, потому, что и чувства писателя там не совсем еще отмерли. Это – «Книга мертвых». Прекрасно вписывается в образ автора включение им в выигрыш по очкам факта смерти своих кажущихся соперников, а иначе, как кажущимися, этих бедняг не назовешь – ведь нельзя же всерьез воспринять соперничество Эдуарда Лимонова с Иосифом Бродским, напоминающее соперничество Эллочки-людоедки с дочерью Вандербильда (у Эллочки в запасе было тридцать три слова, у Эдички не намного больше). В этом странном соревновании умерший автоматически проигрывает живому, и Эдичка пока набирает очки, поскольку еще жив. Он так заносится перед умершими, что порой кажется, будто он надеется жить вечно.
А может, он в чем-то прав? На международной Франкфуртской книжной ярмарке 2003 года в киоске издательства «Амфора», которое из моего прекрасного далека казалось мне интеллигентным, я наткнулась на целый иконостас книг Лимонова – их там было не менее десяти. Иконостаса книг Бродского я, к сожалению, нигде не заметила – похоже, преждевременно скончавшись, он и впрямь проиграл по очкам.
Как это понять? Может, все дело в рейтинге, книгодолларе и скандальной известности? А может, уже наступает предвкушаемый Эдичкой звездный час таракана?
Вот и я посвятила Лимонову не одну страницу своих воспоминаний, не то, что Бродскому, о котором вовсе не написала. А ведь вживе видела Эдичку всего один раз, когда он вместе с Вагричем Бахчаняном, пришел в нашу московскую квартиру на улице Народного Ополчения, чтобы попросить Сашу устроить ему израильский вызов. Саша устроил вызов им обоим, предопределив этим, возможно, судьбы русской культуры. Боюсь, мы будем вынуждены слегка пожурить его за этот безответственный поступок.
О парижской жизни Лимонова я знаю только из его книг – мне не приходилось его встречать ни у Синявских, ни у Бокова, что, впрочем, почти одно и то же – Боков закончил свою культурную жизнь в книгопечатнице Марьи Васильевны, набирая издаваемые ею тексты. Но и там он не удержался и теперь одиноко бомжует где-то на берегах Сены.
Судьба же Лимонова сложилась совсем по-другому, и, если поверить ему самому, в значительной степени благодаря активному вмешательству высокопоставленного парижского коммуниста Жана Риста, который не только способствовал появлению лимоновских книг на французском языке, но и спровоцировал шумную кампанию интеллектуалов, добившихся для новоявленного русского писателя французского гражданства.
Естественно, напрашивается самое простое объяснение заинтересованности Риста и других коммунистов в судьбе неизвестного им русского хулигана, поливающего грязью Сахарова и Солженицына, заинтересованности, необъяснимой даже для ее объекта, если ему верить. Но верить ему необязательно, и тогда все становится на свои места: и поспешные публикации Эдичкиных писаний в коммунистических издательствах, и непостижимые хлопоты французских левых интеллектуалов об Эдичкином благополучии.
Именно поэтому приятно радует посвященный их заботам абзац на 88 странице «Книги мертвых»:
«Сейчас бы они подписали мне смертный приговор, эти люди отправили бы меня в Гаагу, в трибунал, хотя я такой же, как и был».
Ах, как ловко наш Эдичка натянул им нос, этим прихлебателям с барского стола Страны Советов, этим гуманным любителям Ясера Арафата! Впрочем, Эдичка Арафатом, похоже, тоже не брезгует, раз не прочь был бы присоединиться к боевой группе палестинцев, – только он любит его с какой-то иной стороны. Не знаю, кого из них тянет к вождю палестинских бандитов орально, а кого анально, но это различие вклинилось между ними, как обнаженный меч между Брунгильдой и Зигфридом, не давая им слиться в экстазе. И за это одно я готова простить Лимонову многое, чего другие ему не прощают. Оказалось, что я милостливее Гаагского суда, разыскивающего Эдичку за пулеметный обстрел мирных жителей боснийского города Сараево.
Интересно, какое необозримое количество страниц я истратила на незначительное литературное явление, носящее имя Эдуард Лимонов, – а ведь это не случайно. Раньше я чуть ли не четверть тома своей книги «Без прикрас» отвела Марье Синявской, сама этому удивляясь и ища объяснений. Недаром странная дружба связывает эту несовместимую на первый взгляд пару – они «два сапога на одну ногу», как метко выразился когда-то один пьяный простонародный мудрец.
Пусть они не писатели, зато завихрители пространства, а это тоже не каждому дается…
Артистическая тусовка
Подписывая договор с израильским телевидением на экранизацию своего сценария «Час из жизни профессора Крейна», я наивно спросила: «Почему нет пункта о том, что я получу, если фильм будет продан за границу?»
Ответом мне был гомерический хохот всех присутствующих. «К чему такой пункт? Ведь ни одна наша теледрама еще не была продана за границу», – ответил администратор, утирая слезы счастливого смеха.
«Но все же включите его в мой контракт», – настаивала я.
«А зачем? Наши драмы никто не покупает».
«А вдруг мою купят?»
«Много о себе воображаешь! Если купят – придешь, поговорим! – отрезал администратор. – Так будешь подписывать или нет?»
И с намеком на угрозу одной рукой потянул лист к себе, пока другой уже приоткрывал ящик стола, будто намеревался небрежно смахнуть туда контракт.
«Буду, буду», – заторопилась я, пугаясь, что он передумает, и мой сценарий сыграет в ящик.
Я подписала контракт, отмахнувшись от пункта, защищающего мои права в случае продажи фильма за границу, – и напрасно. Теледрама по моему сценарию, поставленная Станиславом Чаплиным, была первой израильской продукцией, купленной для проката иностранным телевещанием. Ее с успехом показали на фестивале в Венеции, после чего ее приобрело Гамбургское телевидение ЦДФ и, сдублировав на немецкий, показало в «прайм-тайм».
Но хоть мы с Чаплиным открыли новую эру в жизни израильского телевидения, ни гроша нам за это не заплатили, прикрываясь справедливым вопросом: «А о чем вы думали, когда подписывали контракт?»
О чем мы тогда думали? Да только о том, чтобы этот проект не рухнул в небытие, а осуществился на экране. К торжественному моменту подписания контракта нас привел тернистый извилистый путь, за каждым поворотом которого затаилась возможность крушения. Поразительно, что все прошло, как по маслу! Ведь когда мы со Стасиком с разгону выскочили из грязи в князи, вокруг нашего маленького успеха поднялась такая волна зависти, что под ее напором мы вполне могли бы погибнуть в автомобильной катастрофе.
Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что все обошлось благодаря вмешательству моей старой доброй феи. На этот раз она вступила в игру не сразу, а дала мне годик-другой помучиться, – с воспитательной целью, небось, чтобы я не заносилась.
Ведь я вернулась в Израиль из Нью-Йорка, упоенная своим американским успехом, и мне казалось, что израильский театр только и ждет моего появления. Слегка оправившись от первоначального теплового удара, я нарядилась в здешние одежки, больше обнажавшие, чем скрывавшие, и храбро отправилась на завоевание израильского театрального мира. Дешевые одежки эти, на мой российский вкус весьма смелые и элегантные, я научилась покупать почти даром в захламленных лавочках на шуке Кармель – «шук» по-нашему «рынок», но словосочетание «рынок Кармель» безнадежно теряет всю экзотическую прелесть «шука Кармель», многоголосой, многоцветной клоакой бурлящего в центре Тель-Авива.
Вооруженная дерзостью, продиктованной моим иллюзорным «покорением» Америки, я ринулась на штурм израильского театра, гордо неся перед собой дурно оформленные копии английских переводов поставленных в Нью-Йорке пьес. Я так недавно вырвалась из объятий социалистического реализма, что понятия не имела, как важно внешнее оформление рукописи, представленной в театр. Тем более, что театров в Тель-Авиве оказалось немного, – «Габима» да «Камери», «Камери» да «Габима», ну и еще пара мелких театриков без труппы и бюджета.
В каждом из них, хоть в большом, хоть в маленьком, как паук в центре паутины, сидел полный самоуважения и неприязни главный режиссер. Добиться приема у любого наперед заданного главного режиссера было не просто, но я преодолела сопротивление их цепных секретарш и ворвалась к каждому из них в кабинет.
О том, чтобы связно говорить на иврите, не было и речи, так что я вынуждена была вести переговоры по-английски. Мой английский язык, отполированный круглосуточной двухмесячной практикой амерканского театра, оказался намного лучше английского любого из этих довольных собой жрецов искусства, и это отнюдь не добавило очков в мою пользу.
Скептически выслушав мой рассказ о нью-йоркских спектаклях, каждый из них милостиво позволил мне оставить у него на столе свои пьесы, хоть дурно скопированные и покрытые актерскими пометками, но зато снабженные пачкой газетных вырезок из американских газет. Возможно, обилие этих вырезок тоже не добавило очков в мою пользу. Во всяком случае, хоть каждый главный режиссер пообещал со временем мне позвонить, время это никогда не наступило.
Месяцы проходили даром, складываясь в годы, и было совершенно неясно, куда бежать и в кого стрелять. Вот тут-то в дело вмешалась моя фея. Впрочем, на этот раз она не афишировала свою благотворительность открыто, а приступила к ее осуществлению исподтишка и загодя.
Одним воскресным утром, еще в Нью-Йорке, когда я, лихорадочно опаздывая, собиралась на театральный ланч к театроведке Розетте Ламонт, мой телефон зазвонил. Чертыхаясь при взгляде на уносящие время часы, я сняла трубку с намерением побыстрей отделаться от неурочного абонента. Однако отделаться от него не удалось, и наш разговор продлился более часа, в результате чего, когда я появилась на пороге розеттиной квартиры, ланч был уже съеден и мои извинения отвергнуты – в Америке на ланч не опаздывают и нарушителей не прощают.
Учитывая мое российское происхождение, меня за час опоздания не отлучили от дома Розетты, а только перевели в другой разряд опекаемых, зато за этот час я приобрела нового – я бы сказала, друга, но ведь друзей не приобретают за час, да еще по телефону, и потому я затрудняюсь в определении роли этого удивительного человека в моей жизни. Лучше я о нем расскажу.
Напоминаю, я сушила волосы, опаздывая на ланч к Розетте, когда зазвонил телефон. Не выпуская из правой руки фен, я левой рукой схватила трубку и несколько раздраженно выкрикнула «Алло!» – сразу по пересечении советской границы я выбрала этот телефонный ответ за его интернациональное звучание. Хриплый мужской голос произнес по-русски с неуловимым акцентом: «Я говорю из Лондона. Это Нелли Воронель?»
«Да», – призналась я, отложив на время свое намерение тут же бросить трубку, все-таки человек звонил из Лондона! «Я прочел о тебе в Нью-Йорк Таймс, – продолжал голос из Лондона, с легкостью переходя на «ты». – Ты имеешь отношение к Володьке Воронелю? Мы с ним выросли в одном харьковском дворе». Я не сразу сообразила, что речь идет не о моем сыне Володе, а о Сашином отчиме, носящем в семье прозвище дед Володя и тоже выросшем в харьковском дворе на каких-нибудь пятьдесят лет раньше.
Через двадцать минут я уже знала не только имя своего собеседника – Эфраим Илин (не Ильин, а именно Илин, с ударением на первом слоге), но и разные пикантные подробности из жизни неизвестного мне до тех пор друга дедова детства. Из Лондона он звонил, потому что там у него была картинная галерея, где каждая картина оценивалась минимум в миллион долларов. Таких галерей у него было около дюжины – во всех крупных культурных центрах мира. А с нашим дедом Володей Эфраим дружил в детстве, потому что в начале двадцатого века отцы их были совладельцами фирмы «Воронель-Илин», – впрочем, Эфраим называл ее «Илин-Воронель», – изготовлявшей и продававшей несмыливающееся мыло, изобретенное нашим прадедом Моисеем Воронелем. Все было, как в романах: Воронель изобретал, Илин торговал, Илин богател, Воронель оставался бедняком.
Так все и осталось – Воронель, уже не Моисей, а Владимир Моисеевич, изобретал и оставался бедняком, Илин торговал и был миллионером. Однако торгуя и наживая миллионы, Эфраим Илин совершил столько нетривиальных поступков и занял столь особое место в портретной галерее выдающихся личностей Израиля, что я горжусь своим знакомством с ним и нашей долголетней дружбой.
Его увлечение коллекционированием картин началось где-то в двадцатых годах прошлого века, когда он, будучи студентом Льежского политехникума, купил у молодого голодного художника приглянувшийся ему рисунок. Этот рисунок, за который он заплатил 50 сантимов, по сей день висит на стене его гостиной, освещенный так, чтобы издалека видна была подпись художника Модильяни. Стены его дома в Хайфе украшали не только картины Модильяни, но и картины Бракка, Шагала и Сотто, украшали до тех пор, пока он не решил дом снести, а коллекцию пожертвовать городу.
Подарить коллекцию городу, это конечно красивый жест, но снесенный дом мне искренне жаль. Это был замечательный дом, – высоко на склоне горы Кармель, соединенный с домом сына Эфраима, Арнона, полнометражным плавательным бассейном, над которым громоздились поросшие декоративным лесом скалы. Мы с Сашей часто бывали там в гостях – Эфраим любил приглашать нас на свои рауты, пикники и приемы. Он всегда чувствовал себя молодым, даже и сейчас, перевалив за девяносто, он все еще напивается на своих праздниках и задорно поет скабрезные русские частушки. Наверно, он выбрал в родственники нас, а не своего друга детства, нашего деда Володю, потому что надеялся таким манером сдвинуть даты рождения и смерти.
Дом Эфраима был обставлен уникальной мебелью, которую он подарил теперь музею Хайфского университета – тоже красивый жест, ничего не скажешь. А раньше мы не раз обедали в огромной, увешанной драгоценными картинами гостиной, где за столом, сделанным лично для Эфраима по эскизу Макса Эрнста, свободно помещались тридцать человек. Стол Макса Эрнста заслуживает отдельного описания – он представляет собой овальную плиту из прочного, сантиметра в 4 толщиной, прозрачного стекла, покоящегося на трех бронзовых опорах, выполненных в виде крылатых гриффонов – если бы не громкое имя автора дизайна, я бы сочла эту комбинацию китчем.
Гости, собиравшиеся за этим столом, отлично вписывались в неповторимую картину, созданную хозяином из различных, хорошо продуманных элементов: из роскошных полотен кисти лучших мастеров мира на трех стенах гостиной и открывающимся за четвертой, сплошь стеклянной, стеной захватывающим дух видом на лазурный прямоугольник бассейна в оправе возносящихся к небу декоративных скал. Там я встречала знаменитых художников, пианистов и промышленников, а также нашего нынешнего премьера, а тогда еще просто прославленного генерала, Ариэля Шарона, первого начальника израильской разведки Биньямина Джибли и одного из основателей израильского морского флота Владимира Маринова.
Помню, как мы нарядной толпой, сплошь утыканной знаменитостями, шли по краю бассейна из дома Эфраима в дом его сына Арнона – пить предобеденные коктейли. Дамы были в вечерних платьях, мужчины в крахмальных рубашках под темными пиджаками, и только хозяин в шортах и красной жилетке шел вприсядку перед праздничной толпой, играя на красной – под цвет жилетки – гармошке и весело распевая:
«Калинка-малинка, малинка моя!»
Знаменитости собирались в доме Эфраима не случайно – он славился не столько своим хлебосольством, сколько неожиданными поступками, судьбоносными для истории страны. Когда в 1948 году во время войны за независимость Англия и Франция, желая удружить арабам, ввели эмбарго на ввоз в Израиль оружия, Эфраим подсчитал свои миллионы – их оказалось тогда не так уж много, меньше полутора. Но в те времена это были неплохие деньги, и Эфраим спросил свою жену Цфиру, можно ли пожертвовать их на спасение Родины. Цфира ответила так, как Мордехай ответил Эсфири: «Мы же не хотим остаться одни, когда все погибнут».
Услыхав эти слова, хитрый еврей Эфраим отправился в Чехословакию, где у него были деловые связи. Там он закупил огромную партию оружия, которую перевез в Италию, где у него тоже были связи. В Италии он договорился с контрабандистами, с которыми у него тоже были связи, и они тайно доставили оружие в Израиль, обеспечив таким образом нашу победу в нашей первой войне.
Созданное после победы правительство Бен Гуриона было так благодарно Эфраиму, что открыло зеленую улицу его деловым начинаниям, а идей у Эфраима было хоть отбавляй! Во-первых, он строил во всех городах жилые кварталы, во-вторых, возвел и содержал колоссальные дома-холодильники для хранения аргентинского мяса, в-третьих, создал израильскую автомобильную промышленность, производившую военные джипы. Было еще в-четвертых, в-пятых, в– шестых и далее, но для всех начинаний Эфраима не хватит места в моих воспоминаниях, так что я вернусь к своим проблемам и к новому вмешательству доброй феи в мою судьбу.
На этот раз она приняла облик невестки Эфраима, Нои, привлекательной молодой женщины, терзаемой каким-то внутренним несовершенством. Мы познакомились во время пикника на траве, устроенного Эфраимом для своих высокопоставленных друзей. Дамы и господа прибывали прямо в купальных костюмах и с ходу ныряли в бассейн, после чего с удовольствием вгрызались в ароматные стейки и шашлыки, в большом количестве испекаемые у всех на глазах на древесном угле. Мы с Сашей, чуждые, как марсиане, с отстраненным любопытством озирали веселую толпу гостей, знакомых друг с другом с детства, когда один еще не был хозяином банка Дисконт, другой – председателем Кнессета, а третий не владел еще половиной бензоколонок страны.
Их элегантные жены в умопомрачительных пляжных костюмах от Готтекса кружили вокруг празднично накрытых столов, уставленных разноцветными салатами и блюдами с паштетом из гусиной печенки, собственноручно изготовленным хозяином дома по собственному секретному рецепту. Эфраим, человек словоохотливый и открытый, щедро рассказывал многое из встреченного им и пережитого, но никогда ни с кем не поделился он секретным рецептом своего знаменитого паштета.
Именно там, неприкаянно слоняясь среди многоголосого ивритского говора, пересыпанного космическими именами из другого мира, вроде «Гуччи, Реканатти, Ив Сен-Лоран», мы набрели на Ною, которая смотрела на окружающее великолепие так же отчужденно, как и мы, хотя формально она, в отличие от нас, была там своей.
Своей, да не совсем. Похоже, привычное комфортабельное существование уже не наполняло ее жизни, ей хотелось чего-то большего, не столь материального. Она металась, маялась, пыталась писать прозу, но не очень успешно, и сразу потянулась к нам. Услышав о моих американских достижениях, она попросила привезти ей мои пьесы.
Пьесы ей понравились, и она взялась показать их своей подруге, которая была подружкой известного режиссера Одеда Котлера, хоть и молодого, но перспективного, уже намеченного на должность руководителя отдела драмы израильского телевидения, которое было еще моложе и оказалось еще перспективней.
Поверьте, к сердцу израильского режиссера нет пути вернее, чем этот, случайно предложенный мне Ноей, – через дружка или подружку этого режиссера, готовых подсунуть ему твои пьесы в интимный момент. Пьесы могут ему, конечно, не понравиться, но он наверняка их прочтет. Я восприняла это как чудо, ведь к тому времени я уже постигла главную проблему драматурга – заставить режиссера прочесть твои опусы.
Котлер мои пьесы не только прочел, но оценил и отверг, предложивши взамен найти тему, подходящую для израильской теледрамы. Я поняла, что это мой звездный час, и мысль моя заметалась в мучительных поисках – где и как следовало эту тему искать? В здешней жизни я не понимала ничего, писать об унылых бедствиях вновь прибывших не хотелось, и я решила обратиться к своему уникальному опыту борьбы с КГБ. Я знала эту борьбу в деталях, и нужно было только выбрать оригинальную форму, отличающую мою пьесу от десятков других.
Похоже, я в этом деле преуспела, и новую пьесу, написанную мною рассудочно, почти без любви, а может, именно поэтому, экранизировали дважды – первый раз на израильском, второй – на лондонском «Темз» – телевидении. Экранизовали на соответствующих языках – увы, ни один из них не был русским!
Осуществить русскую пьесу в виде израильской теледрамы – задача не из простых. Передо мной высились два непреодолимых камня преткновения: перевод на иврит, и режиссер, способный понять и передать зрителю мой замысел.
Единым ловким маневром я ухитрилась перескочить через оба камня одним прыжком – я вовлекла в этот проект своего старого московского друга, Стасика Чаплина, который к тому времени прибыл в наши палестины, и на безрыбье взялся руководить русским студенческим театром иерусалимского университета. Должность эту он получил почти чудом, когда прежний руководитель театра Зиновий Зиник закапризничал и пустился куда-то за моря в поисках счастья.
Стасик оглядел свою малочисленную труппу, – тогда русскоязычных студентов было вообще немного, а жаждущих играть в театре и того меньше, – грустно вздохнул и принялся искать решение неразрешимой задачи: как поставить профессиональный спектакль с такой разношерстной любительской труппой. И как ни удивительно, ему это удалось – он так изобретательно организовал сцены в «Женитьбе» Гоголя, что дефекты постановки можно было спокойно списать на ее модернизм.
В труппе Стасика оказались и настоящие таланты – Фира Кантор стала профессиональной характерной актрисой, она и по сей день играет в фильмах Стасика, а покойный Мирон Гордон проявил себя как блистательный переводчик на иврит. Он-то и перевел мою пьесу «Последние минуты», переименованную при экранизации в «Час из жизни профессора Крейна», причем на нашей первой встрече с Одедом Котлером он бегло декламировал ее на иврите, просто глядя на страницу русского текста. И несмотря на это, а может, благодаря этому, пьеса Котлеру понравилась.
«Но кто же сможет ее здесь поставить?» – спросил он. И тогда я выпустила на сцену Стасика, который был способен сказать на иврите только «спасибо» и «пожалуйста». К счастью, Котлер оказался человеком истинно театральным – посмотрев спектакль студенческого театра Стасика, в котором он даже «спасибо» и «пожалуйста» не мог вычленить из общего потока чужой речи, он оценил мастерство режиссера и заключил с ним контракт. А заодно и со мной.
В фильме «Час из жизни профессора Крейна» был представлен один час – непосредственно перед арестом – профессора-диссидента, разыгрываемый на двух игровых площадках: квартира диссидента и стоящий у подъезда автомобиль с оперативными работниками КГБ. В предвидении близкого ареста между обеими партиями соблюдается некое негласное соглашение жертвы с палачом, которое драматически нарушается ночным приходом бывшего любимого ученика профессора, покинувшего того полгода назад по взаимной договоренности. И все рушится – и хрупкий мир в семье, и уютный мир в теплой машине кэгэбэшников, и грядущая научная карьера любимого ученика.
Сценарий был готов очень быстро, перевод Мирона был завершен еще быстрей. Со страхом и восторгом мы принялись увлеченно стряпать русское блюдо на восточной кухне местного телевидения начала 80-х годов. И, как ни удивительно, преуспели!
Вдохновленные первым успехом, мы со Стасиком задумали новый проект, воображая, что мы на верном пути. Ах, какая это была иллюзия! Мы еще не осознали, как в этом мире все зыбко, как легко улетучивается успех, как «нестерпимо он зависим» от любых капризов судьбы.
Поначалу все шло отлично – худсовет принял мою заявку, переведенную Мироном, и я приступила к написанию сценария. Сюжет я придумала вполне действенный – замужняя молодая режиссерша из «наших» заводит роман с молодым красавцем-сефардом, который играет роль «сексуальной приманки» для мафиозной группы, зарабатывающей шантажом. Влюбленный в режиссершу красавец-сефард отказывается представить своим «браткам» материал на нее и пытается порвать с ними, но они ему этот бунт не прощают. Парень гибнет, а режиссерша, смахнув мимолетную слезу, отправляется на поиски новых приключений.
Пока я писала сценарий, в окружающем мире незаметно для меня произошли судьбоносные изменения: Одед Котлер, поднявшись выше по номенклатурной лестнице, отринул утлый челн теледрамы ради более надежного капитанского мостка на устойчивом судне одного из государственных театров.
И, как назло, одновременно верный Мирон вдруг стал неверным – покинув и Славу, и меня, он тоже начал взбираться по номенклатурной лестнице, но не в актерстве, а в дипломатии. Там он изрядно преуспел – сразу после перестройки он стал первым культурным атташе израильского посольства в Москве, потом был нашим послом в Польше, и только преждевременная смерть помешала ему стать послом Израиля в России.
С болью осознав, что наши мелкие телевизионные забавы ему теперь по колено, мы принялись искать нового переводчика. И нашли какую-то милую даму, начисто лишенную литературного умения. Она, бедняжка, перевела сценарий, как могла, а могла она очень немного, – весьма кстати для ревнивых преемников Котлера, старающихся стереть с лица отдела драмы все его следы. Они порадовались плохому переводу и дружно зарубили сценарий. Нам со Стасиком, правда, пообещали рассматривать наши новые предложения, причем время ожидания ответа постепенно переходило в бесконечность.
Что же нам было пока делать? Оставалось только вернуться на скудное поле русского студенческого театра, где Стасик начал репетировать мою пьесу «Змей едучий», ту самую, которую Михаил Шемякин напечатал в своем уникальном альбоме «Аполлон». Я рассказываю об этой постановке только для того, чтобы по мере своих скромных сил раскрыть перед читателем поразительное художественное дарование режиссера Станислава Чаплина – кто знает, может, это влияние фамилии, которая обязывает?
Действие пьесы происходит на дебаркадере – плавучей пристани на Волге, где четыре пьяных персонажа разыгрывают исключительно абсурдную драму, полностью основанную на истинных деталях истинной российской реальности. По ходу пьесы герои движутся по сцене, взбегают по мосткам и спускаются в каюты. Но Стасик рассудил иначе – он поставил всех четверых на колени и накрыл тяжелой рыболовной сетью крупной вязки, так что они не могли покинуть подмостки. Они ползали и копошились под сетью, ссорились, мирились, оскорбляли друг друга, даже совокуплялись, и все это не поднимаясь с колен, от чего их полувразумительный диалог неожиданно приобрел многоплановый глубинный смысл.
Думая о былом в ракурсе свершившегося настоящего, я не удивляюсь, что и Шемякин, и Чаплин выбрали именно эту мою пьесу. Кроме того, что драма в ней замаскирована в виде комедии, пьеса «Змей едучий» была предтечей всего того безобразия, которое пышно расцвело в сегодняшней российской литературе – за четверть века до Владимира Сорокина я построила драматический конфликт на выяснении вопроса «Кто в камбузе кучу наклал?», но, мне кажется, сделала это достаточно деликатно, не в пример нынешним.
Но Бог с ним, со «Змеем едучим», он тоже уплыл в прошлое, как и уютный иерусалимский театрик «Паргод», где шли наши спектакли с неизменным аншлагом. Вымуштрованный равнодушием израильской публики к искусствам хозяин «Паргода» был так потрясен энтузиазмом русского зрителя, что надолго сделал свою сцену убежищем для бездомных российских изгнанников.
Потом наши с Чаплиным пути на короткое время разошлись – ему все же выделили фильм на израильском телевидении, а меня вдруг занесло на другие берега, в другие дали.
В журнале «22» была опубликована та самая моя пьеса «Последние минуты», по которой Стасик поставил теледраму «Час из жизни профессора Крейна». Именно на эту, уже лишенную девственности, пьесу упал ищущий взгляд известного английского переводчика Майкла Гленни. Он быстренько настрочил заявку и представил ее лондонскому телевидению «Темз», одному из лучших в мире по производству теледрам.
Я жила, не подозревая не только о назревающем проекте, но даже о существовании Майкла Гленни, пока однажды очень вежливый и очень английский баритон не спросил меня по телефону, не возражаю ли я против постановки моей пьесы на «Темз-телевижн». Еще не оправившись от шока, я поспешно согласилась и только потом позволила себе роскошь забиться в истерике восторга. Значит, моя фея опять порхает надо мной, на этот раз в виде солидного лысого англичанина – ее причуд не счесть!
Меня пригласили на съемки в Лондон, где поселили в роскошном отеле в Ричмонд Парке, и я опять стала осторожно входить в образ уважаемого драматурга, пьесу которого ставят на одной из лучших телестудий мира. Это был уже не офф-офф-Бродвейский театр и не провинциальное израильское телевидение, да и актеры были в основном звезды с мировыми именами – Йон Хогг, Морин Липпман, Антони Хиггинс, которых я потом многократно видела на телеэкранах. И играли они соответственно.
Английская постановка так разительно отличалась от чаплинской, что я на миг почувствовала себя Шекспиром, инсценированном в двух противоречивых трактовках. Если у Чаплина все дышало тревогой, трепетало и тонуло в таинственном полумраке, в фильме Майкла Дарлоу были четко расставлены все точки над «И», экран был ярко освещен и ни в какой тени не прятались тайны или загадки.
Я не могу сказать, какой из двух вариантов лучше. А точнее – режиссерское решение несомненно лучше чаплинское, зато английское актерское исполнение на порядок выше израильского. Игра английских кинозвезд так естественна, так убедительна, что компенсирует стандартность режиссуры. Где-то в разгар съемок произошел забавный казус – увлекшись своей ролью оскорбленного мужа, Йон Хогг влепил Морин Липпман такую звонкую пощечину, что она отлетела в дальний угол, ударившись щекой о край кровати, в результате чего все последующие дни ее гримерша то и дело вынуждена была замазывать ей внушительный синяк под глазом.
Те дни в Лондоне вспоминаются мне каким-то сказочным сном, внутри которого точно известно – проснешься, и все вмиг рассеется. С одной стороны, я чувствовала себя Золушкой, на время обрученной с принцем – меня привозили на съемки в лимузине, знаменитые актеры наперебой приглашали меня кто на обед, кто на ланч, а, с другой стороны, я не обманывалась, понимая, насколько это все призрачно и мимолетно – и принц, и лимузин, и роскошный отель, и внимание актеров.
По вечерам, после съемок я бродила по лондонским улицам, наполняясь пронзительной ностальгией по сегодняшнему, еще не прошедшему, но уже уплывающему счастью. Я бы хотела, чтобы так было всегда – суетливые коридоры телевидения, обсуждение деталей сценария перед съемками, просмотр материала и обсуждение результатов в конце рабочего дня! И ясно понимала, что такие чудеса повторяются не часто, что вся эта благодать временная, преходящая, и что нужно просто благодарить за нее судьбу, а не желать невозможного. Как говорила одна из героинь моей пьесы «Майн либер кац»:
«Не надо требовать от жизни слишком многого. В лагере я всегда молила Господа, чтобы он дал мне кончить жизнь на нижних нарах».
Но ведь я была не в лагере, а в Лондоне, и меня ничуть не увлекала возможность кончить жизнь на нижних нарах. Как-то в за ланчем в роскошном кафе при роскошном универмаге «Фортнум» я покаялась Морин Липпман в своей тоске по невозвратности сегодняшнего дня. Прелестная еврейка Морин была выбрана на роль жены моего диссидента, по национальности чеченки, за свои выразительные еврейские глаза, – в те наивные времена чеченцы еще числились не мусульманскими террористами, а несчастными жертвами сталинского террора, которыми они в действительности и были. И потому еврейской актрисе вполне пристало играть роль гонимой чеченки, – ведь в те наивные времена евреи тоже числились не жестокими оккупантами на танках, а несчастными жертвами гитлеровского террора, которыми они в действительности и были.
Хоть говорят, сытый голодного не разумеет, Морин посочувствовала мне – неясно, как она, блистательная успешная актриса, жена блистательного успешного драматурга, могла влезть в мою сиротскую шкуру. Может, это просто была еврейская благотворительность.
Но как бы то ни было, она решила устроить прием в мою честь. Меня привезли в очаровательный английский дом, законно претендующий на роль крепости, усадили за нарядный стол, обильно уставленный английской едой, съедобной только на английский вкус, и начали развлекать на английский манер. Я была так напряжена от необходимости быстро понимать их шутки-скороговорки и смеяться в нужных местах, что из всех этих шуток запомнила только одну, зато шикарную.
Среди гостей был агент Морин и многих других известных актеров и актрис, старый польский еврей, удачно ставший евреем американским. Он рассказал, как его уволила одна его клиентка, очень красивая и знаменитая кинозвезда сорока трех лет, мать троих детей и скандальная героиня полдюжины разводов. Он имел неосторожность послать ей сценарий по дневнику Анны Франк, предполагая пригласить ее на роль матери – ему это казалось очевидным. Актриса прочла сценарий и сообщила ему, что согласна. Когда он приехал к ней обсуждать контракт, она спросила, кого планируют взять на роль матери.
«Как – кого? – удивился он, не сразу врубаясь. – Вас, конечно».
«Что? Меня на роль матери? – вне себя завопила сорокатрехлетняя мать троих детей и в ярости затопала ногами. – Вы осмелились предложить мне… мне? мне!.. роль матери?»
В этом месте она зарыдала и выкрикнула: «Вон отсюда! Вы уволены!»
Надеюсь, я не должна напоминать, что Анна Франк умерла пятнадцатилетней девственницей. Впрочем, может быть, напоминание и не повредит – если капризная кинозвезда средних лет об этом начисто забыла, и другие тоже могли позабыть.
Мы посмеялись и разошлись – актеры, режиссеры и агенты продолжать свою привычную жизнь в искусстве, я – оплакивать очередное возвращение в неопределенность. Вообще-то говоря, плакать было грех – в начале июля 1981 года моя пьеса появилась на английских экранах, ею открывалась серия несерийной теледрамы Независимого телевидения.
Мне конечно немедленно захотелось послать об этом весточку в Россию как друзьям, так и завистникам – не правда ли, хорошо бы выяснить, насколько эти множества пересекаются? Впрочем, я обратилась с этой идеей в русский отдел радио Би-Би-Си к своему хорошему приятелю Зиновию Зинику вовсе не с этой безрадостной целью. Но именно этой цели я достигла, хоть вовсе к ней не стремилась.
Зиник ответил мне, что был бы рад сообщить русским слушателям о постановке моей пьесы на лондонском телевидении, но передачи их отдела строго следуют за отзывами английской прессы, а о моем фильме в этой элитарной прессе не было ни слова. И я, дурочка, ему поверила!
Через пару недель я получила по почте большой коричневый конверт от своего английского агента. В конверте было больше дюжины вырезок из всех лондонских газет – ни одна не обошла мой дебют молчанием.
Я и по сей день храню эти вырезки – не столько для утешения, сколько для напоминания, что никогда не следует испытывать дружбу, чтобы не остаться с разбитым сердцем у разбитого корыта.
На этом мои отношения с английским телевидением не закончились. Дальнейшее их развитие напоминало психологический триллер. Жаль только, что главная роль в этом триллере досталась мне, а мой типаж – лирическая комедия. Но лучше по порядку.
Когда знаменитый кинорежиссер Криштоф Занусси, соскочив с пожарной тумбы, торчащей в центре зала прибытий Франкфуртского аэропорта, изящно склонился и поцеловал мне руку, я с трудом удержалась, чтобы не сказать ему:
«Польский офицер денег не берет!»
Хоть ничего остроумного в этой дурацкой шутке не было, я практически прикусила себе язык, чтобы она не вырвалась наружу, – наверное, вышеописанная рыцарская сцена из девятнадцатого века меня сильно смутила, иначе я не могу объяснить свое извращенное побуждение. А может, просто скрытая во мне героиня лирической комедии еще не смирилась с предназначенной ей ролью в психологическом триллере.
Обстоятельства нашей с Криштофом встречи были совершенно неправдоподобные – у меня во Франкфурте была пересадка по дороге из Америки в Тель-Авив, и знаменитый режиссер Занусси примчался из Варшавы специально для того, чтобы просидеть со мной пару часов в кафе аэропорта, обсуждая детали нашего совместного проекта – многосерийного телефильма о жизни Федора Достоевского, включенного в ближайший план телевидения Би-Би-Си. Мне предстояло выступать в этом проекте в роли сценариста, а Занусси в роли режиссера и моего соавтора по сценарию.
Во время той памятной встречи в кафе мы с Криштофом сверили свои взгляды на близнецовую связь творчества великого писателя с его биографией и вскорости приятно расстались, наслаждаясь радостью взаимного узнавания. Мы даже не подозревали, какие подводные рифы подстерегают нас на пути к осуществлению этого проекта.
Начался он за полгода до нашей встречи во Франкфуртском аэропорту, причем начался самым банальным образом, дающим результаты крайне редко, – под сильным впечатлением дневников Анны Григорьевны Достоевской я накатала заявку на многосерийный телефильм-биографию ее великого супруга и отправила эту заявку прямо в святилище теледрамы, на телестудию Би-Би-Си.
Для этого смелого поступка у меня была небольшая зацепка – с ведущим продюссером Би-Би-Си, Кеннетом Троддом, меня познакомил чешский киновед, профессор Антонин Лим, один из главных героев злополучной «пражской весны», один из соавторов печально известных «Двух тысяч слов», один из… – всего не перечислишь – забредший однажды на мой нью-йоркский спектакль и ставший на какое-то время поклонником моего творчества.
Именно Кеннету Тродду я и адресовала свою заявку. Проходили месяцы, ответа все не было, и я, потерявши надежду на великое, пошла размениваться на мелочи – положила копию заявки в картонную папку и отнесла в дружественную израильскую кинофирму «Беллбо-филмз». К тому времени я уже научилась заботиться о внешнем виде своих рукописей, и потому хозяйка фирмы Номи Шхори прочла мою заявку довольно быстро.
Израильских хозяев в «Беллбо-филмз» было двое – Номи и ее муж Катри. Полиглотка Номи, женщина исключительной интеллигентности и тонкого интеллекта, отвечала за художественную сторону дела, а Катри, мужик практический и хваткий, за производственную и финансовую. Основные хозяева фирмы – голландец Луди Бокен и англичанин Дэвид Конрой, успели прославиться производством нескольких выдающихся фильмов, в частности, биографическим сериалом «Винсент и Тео», срежиссированным самим великим Робертом Альтманом.
Прочитав мою заявку, Номи Шхори быстро переправила ее своим компаньонам, которые еще быстрей посоветовали ей: «Брать и подешевле!» Это их и подвело. Когда Катри сообщил мне радостную весть, я, немедленно потерявши соображение от восторга, согласилась на все его условия.
Составленный им контракт был ужасен – он за гроши лишал меня всех прав, нагружая невыносимым бременем обязанностей. Но для меня эти мелочи были несущественны – какая разница, если со мной хотят работать создатели знаменитого фильма о Ван-Гоге!
Я подписала этот чудовищный контракт, который завершался пунктом, обязывающим Катри заплатить мне 1200 шекелей до 1-го мая. Уверенный в том, что я у него в кармане, Катри предпочел, чтобы и 1200 шекелей тоже пока оставались у него в кармане, и 30 апреля укатил на фестиваль в Канны, «позабыв» оставить мне чек.
И тут фортуна решила сыграть с ним злую шутку – 2 мая мне позвонил Кеннет Тродд и сообщил, что телевидение Би-Би-Си готово заключить со мной контракт на написание сценария четырехсерийной драмы о Достоевском при условии, что я полажу с Криштофом Занусси, которому они хотят поручить режиссуру. Боюсь, в их английских головах не умещалось соображение, что Польша не совсем Россия, и даже немножечко наоборот, – все эти славяне, ютящиеся где-то на задворках Европы, казались им на одно лицо. Однако возражать я не смела, тем более, что названная Троддом сумма гонорара была настолько астрономической – по крайней мере, на мой эмигрантский слух, – что я и по сей день не решусь ее назвать.
Когда Катри, вернувшийся в середине мая из Канн, узнал, что я решительно расторгаю наш с ним контракт из-за незаплаченных мне вовремя 1200 шекелей, он не поверил своим ушам. Однако, услыхав о предложении Би-Би-Си, он эти уши навострил и прочно на них встал, а его английский партнер Дэвид Конрой вцепился в Тродда мертвой хваткой и висел на нем, как бульдог, пока его не взяли в коопродюсеры, что стоило ему немалых денег.
Пока тянулась зубодробительная комедия составления договора между Би-Би-Си и «Беллбо-филмз» – а количество страниц этого договора превысило количество страниц сценария первых двух серий, – я пережила не менее зубодробительную драму в своих отношениях с Криштофом Занусси.
Начиналось все идиллически, как в сказке. После недолгих телефонных переговоров выяснилась подходящая, хоть и весьма отдаленная точка нашей возможной первой встречи – Лос-Анжелес. Смешно, не правда ли, – пути Криштофа из Варшавы и моего из Тель-Авива смогли пересечься во времени только на противоположном берегу противоположного океана. Но таков, как видно, был замысел высших сил – Сашина конференция по физике низких температур в точности совпала по времени с местом работы Криштофа над очередным голливудским сценарием.
Так мы встретились впервые – за ланчем в увитом розами патио его отеля, под недремлющим шестиглазым надзором тройки его голливудских продюсеров, следящих за мной так неотступно, будто я собиралась умыкнуть их драгоценного принца. Высокий сероглазый Криштоф действительно выглядел, как сказочный принц, особенно на фоне своих хамоватых приземистых Церберов, выделивших для нашей беседы ровно один час – Криштоф признался, что чего-то им недодал, и они держат его под домашним арестом. Особенно не нравилось Церберам, что они не могут понять ни слова из нашей беседы – ведь мы весь подаренный нам час говорили по-русски.
За этот час я наскоро рассказала Криштофу основные пункты своего замысла и уехала в путешествие вдоль всего тихооканского побережья, окрыленная надеждой, что мы с ним поладили. Надежда эта подтвердилась самым фантастическим образом – в номере случайного мотеля в захолустном штате Орегон, где мы нечаянно задержались из-за Сашиной болезни, вдруг зазвонил телефон, и очень английский женский голос потребовал, чтобы я безотлагательно приступила к написанию сценария первой серии, предварительно и еще более безотлагательно выслав на Би-Би-Си подробный эскиз всех четырех серий. Голос настойчиво повторил, что и эскиз, и сценарий необходимо представить как можно скорей, лучше всего – вчера, так как они уже включили серию о Достоевском в ближайший план студии.
Я была так ошарашена этим требованием, обязывающим меня безотлагательно и срочно выполнить работу, рассчитанную на пару лет, да к тому же на английском языке, что даже не полюбопытствовала, как им удалось меня найти – ведь еще вчера я сама не знала, что судьба занесет нас в этот забытый Богом мотель на краю географии. Тут было из-за чего взволноваться – сидя в машине, застрявшей из-за болезни водителя в джунглях тихоокеанского побережья, можно было с грехом пополам шлифовать план предполагаемой серии, и только. Но оставалась неразрешимая проблема – как уточнить факты жизни писателя без книг и как записать придуманное без компьютера, которого в обозримом будущем у меня не предполагалось.
Однако по приезде в Сиэттл, куда Саша был приглашен на месяц, все быстро устроилось – нашелся хороший врач, быстро поставивший Сашу на ноги, нашелся компьютер, и в придачу к нему множество книг о Достоевском в богатейшей университетской библиотеке. Оставалось только продумать конструкцию предполагаемой серии.
Перелистав сотни страниц с подробностями жизни великого писателя, я постепенно начала понимать, в какую бездну я себя ввергла – его судьба представляла собой не что иное, как развернутую композицию всех его романов, вместе взятых. Демонические женщины Достоевского терзали его с тем же остервенением, с каким терзали они героев его романов, а кроткие девушки вздыхали о нем так, как он их описал – хотя, честно говоря, количество таких кротких воздыхательниц он в своих романах слегка преувеличил. А, может, он просто списал их всех с одной, настоящей?
И даже причиной убившего его горлового кровотечения послужила бесовщина, укором сошедшая с его страниц и возникшая в виде отражения заговорщиков в витрине книжного магазина, где он стоял, рассматривая обложки новых изданий. Он не разглядел лиц своих бесов, пристроившихся прямо за его спиной, но явственно расслышал их разговор о готовящемся покушении на царя. В отчаянии заметался он между двумя полюсами своей гипертрофированной совести – как быть, разоблачить или промолчать? Пристало ли доносить на революционеров ему, бывшему каторжнику, пережившему последние минуты перед казнью и едва не сошедшему от этого с ума? А, с другой стороны, имеет ли он, поборник христианской морали, право не доносить?
Но это были проблемы великого русского писателя, а мне, не великой и не русской, нужно было решать свою проблему – как втиснуть его супердраматическую судьбу в узкие рамки скромных четырех серий? Как расчленить его запутанную жизнь на простые формулы диалогов и сцен? В конце череды долгих безрезультатных дней и долгих бессонных ночей, когда я окончательно поняла, что поставила перед собой неразрешимую задачу, тьма моего отчаяния вдруг осветилась догадкой, пугающей своей простотой – вехами его жизненного пути должны служить его женщины!
Дрожащей рукой я набросала план серии:
1. Путешествие с Авдотьей.
2. Путешествие с Марией.
3. Путешествие с Полиной.
4. Путешествие с Анной.
Конечно, это было еще не окончательное решение, а только путь к нему, но путь этот был освещен четырьмя женскими лицами, восстанавливающими прерванную связь времен.
Теперь нужно было искать сквозной образ, объединяющий романы Достоевского с его судьбой – наверное, кто-нибудь другой не стал бы мучить себя этими поисками, а удовольствовался бы богатейшим материалом, предоставленным самой жизнью писателя. Но мне этого оказалось мало – именно там, в Сиэттле, я начала прозревать в себе непреодолимое стремление к композиционной стройности, из-за которого я в конце концов упустила возможность поработать с одним из лучших режиссеров нашего времени.
Нет, нет, «не поймите меня правильно», как говаривал зав. отдела кадров подмосковного Института стандартов, – я довольно долго и напряженно работала с Криштофом Занусси, но чем дольше и напряженней мы работали над сценарием, тем острее и напряженней становились наши разногласия, завершившиеся в один печальный день полным и окончательным разрывом.
Впрочем, тогда я бы этот день печальным не назвала – ведь он завершился видимостью моей победы над знаменитым режиссером, а я не сразу сообразила, что моя победа всего лишь видимость.
Началось с того, что после составления моего, одобренного советом продюссеров плана серии, мы с Криштофом не пришли к соглашению о ее названии. Я хотела назвать фильм о Достоевском «Вечный игрок», но Занусси настаивал на «Двух смертях Федора Достоевского», и, несмотря на мои возражения, начальством был принят его вариант.
Они это сделали, не подозревая, какую мину Криштоф заложил под это заглавие, а я, пусть и «скрипя сердцем», все же согласилась, исходя из принципа «хоть горшком назови, но впусти в кузов». Тем более, что по моему замыслу две смерти и впрямь должны были обрамлять фильм – первая серия начиналась сценой издевательской инсценировкой казни Достоевского и его друзей-петрашевцев, а последняя сцена последней завершалась смертью писателя.
Вдохновленная практично выбранной архитектурной конструкцией, я нашла тот лифт, который, с легкостью скользя между сериями-этажами, должен был облегчить мне непрерывность повествования. Для этого я придумала ловкий трюк, по тогдашним временам противозаконный, а по-сегодняшним почти необходимый, – предвосхитив таким образом уловки странного литературного явления, называемого ныне «постмодернизм».
Я ввела в сценарий новое действующее лицо, Николая Ставрогина, портретно снявши его со страниц романа «Бесы» и наделив чертами современника Достоевского, праотца терроризма, Михаила Бакунина, которого некоторые литературоведы и впрямь считают прототипом Ставрогина.
К этому меня побудило не стремление вовремя влиться в стремительно входящий в моду поток «постмодернизма», а удивительное совпадение географических и временных факторов в судьбах Достоевского и Бакунина. Вчитываясь в детали их биографий, я увидела некий мистический узор совпадений, словно чья-то прозорливая рука водила их обоих во времени и в пространстве странно согласованными кругами, не отдаляя друг от друга, но и не допуская встречи.
В молодости они, чуть-чуть не совпав во времени, были членами литературного сообщества, центром которого был Белинский. В ссылке оба они были в одно и то же время и в одних и тех же местах. За границей оба одновременно оказались в Швейцарии и посетили один и тот же конгресс, где Бакунин произнес речь, а Достоевский эту речь слушал, отсеивая из нее первые зерна замысла «Бесов».
Окрыленная своей непредвиденной придумкой, я с большим воодушевлением написала «Путешествие с Авдотьей», где светский красавец Ставрогин-Бакунин выступал в роли друга-соперника незадачливого, но талантливого дебютанта Феди, которого остальные завсегдатаи салона Авдотьи Панаевой прозвали прыщом.
В честь завершения сценария первой серии Кеннет Тродд прислал в Израиль Занусси, поместив его в роскошном номере отеля «Дан-Панорама». Партнеры из «Беллбо-филмз» закатили по этому поводу небольшой банкет, после которого отправили меня и Криштофа обсуждать мое любимое детище.
И тут к моему ужасу выяснилось, что Криштоф категорически не согласен ни с одним из основных пунктов моего ловкого еврейского замысла – в его сердце жил совсем другой замысел, по сути, римско-католический. Он требовал построить весь сценарий на раскрученной в четыре серии предсмертной исповеди Достоевского, совсем как в нашумевшем тогда фильме о Моцарте и Сальери, причем требовал выбросить из сценария все яркие неконвенциональные сцены.
Я ни за что не хотела принять его версию, утверждая, что такая исповедь – обычай отнюдь не православный, а римско-католический, но Криштоф так упорно стоял на своем, что заставил меня и впрямь поверить, будто польский офицер денег не берет. Отчаявшись, я обратилась за поддержкой к Номи Шхори. Услыхав ее разумные доводы в пользу моей версии, – как женщина интеллигентная, она пыталась убедить его, что православные перед смертью не исповедываются, а причащаются – Криштоф пришел в ярость и начал названивать Тродду в Лондон.
Звонил он из отеля, торговались мы с Троддом часами, и все это в страшные времена монополии телефонной компании «Безек», назначавшей монопольные цены на международные разговоры, – представляю, в какую копеечку влетели Би-Би-Си наши с Криштофом разногласия!
В конце концов, Тродд, полностью ставший на сторону своего любимого режиссера, объявил, что «Клиент» всегда прав, а я должна подчиниться и перестать морочить голову. Делать было нечего, – Криштоф уехал без того, чтобы поцеловать мне ручку на прощанье, и я, глотая слезы, принялась за кастрацию своего сценария. Через месяц, прочитав полученный результат, скучный и вялый, умная Номи пожала плечами и умыла руки, а я отправила свое изуродованное детище в Лондон на суд худсовета Би-Би-Си.
Ждать пришлось недолго – очень скоро прибыло сообщение, что худсовет мой сценарий отклонил, и Тродд намерен расторгнуть наш договор в связи с профессиональной несостоятельностью автора, то есть меня.
Вот тут в ярость пришла уже я. Заручившись поддержкой Номи и Дэвида Конроя, тоже возмущенного настояниями Криштофа, я ринулась в бой, потрясая первым, отвергнутым Криштофом вариантом сценария, и поэпизодным планом, одобренным тем же худсоветом.
Словно позабыв о наших душераздирающих телефонных спорах, Тродд спросил меня, почему я согласилась изувечить свой сценарий, а я с мудрой сдержанностью не стала напоминать ему о его роли в этой римско-католической кастрации. В результате худсовет сменил гнев на милость и принял мой сценарий, отказавшись от Занусси как в качестве моего соавтора, так и в роли режиссера.
В тот момент я обрадовалась, – во-первых, я была на Криштофа очень сердита, а во-вторых, после его отставки мне полагался весь гонорар сценариста, вполне мною заслуженный, так как там не было ни одной его строчки, ни одной его идеи. Но теперь я думаю, что деньги деньгами, а по существу для меня это была ужасная потеря. Ведь русских режиссеров, приемлемых для Би-Би-Си, тогда на рынке не было, а английского, способного справиться с расхристанностью страстей по Достоевскому, так и не нашлось.
Но это случилось не сразу – за год работы я написала сценарий «Путешествия с Марией», подробную разработку «Путешествия с Полиной» и «Путешествия с Аннной» и получила на все это утверждение худсовета. В какой-то момент я уже начала верить, что замысел мой осуществится, хоть из памяти не шел мой разговор с Дэвидом Конроем по пути на заседание худсовета Би-Би-Си. Все было так славно – в Лондоне стояла поздняя весна, на улицах еще не было пыльно и цвела сирень, мы с Дэвидом шли к зданию Би-Би-Си, болтая о пустяках, как вдруг он сказал:
«Вы должны иметь в виду, что у английских актеров возникнет много проблем при исполнении написанных вами диалогов. Ваши герои слишком далеки от всех правил английской жизненной манеры и английской театральной школы, они ведут себя так расхристанно, так безудержно, они не скупятся на жесты и истерики, – их попросту невозможно сыграть!»
«Но вся жизнь Достоевского построена на непрекращающейся истерике, так же, как и его романы, которыми все так восхищаются, – взмолилась я. – Не могу же я сделать его английским джентльменом, ведь он тогда перестанет быть Достоевским». «Конечно, не можете, – согласился Конрой. – И в этом ваша беда».
Тогда я не придала его словам особого значения, ведь я в который уже раз упивалась ролью уважаемого драматурга, по сценарию которого запланирован многосерийный фильм на самой престижной телестудии мира. Реальность подтверждала мою уверенность в успехе – я одержала верх над знаменитым Криштофом Занусси, в аэропорт за мной присылали лимузин, мои полеты в Лондон были оплачены телестудией, так же как и мои комфортабельные отели в лучших районах английской столицы. И даже известный продюсер Дэвид Конрой, создатель многосерийного бестселлера «Клавдий», несмотря на свои осторожные предостережения, клятвенно заверял меня, что в случае отказа Би-Би-Си от проекта, они с Луди Бокеном сделают фильм сами.
И я наивно верила его словам, – мне так приятно было им верить! Тем более, что никаких признаков отказа Би-Би-Си от проекта я не замечала, хоть внешние обстоятельства последнего действия этой драмы могли бы насторожить человека, более меня склонного к мистике.
В феврале 1991 года, в разгар войны в заливе, когда иракские скады шрапнелью падали вокруг нашего дома на севере Тель-Авива, меня срочно вызвали в Лондон для последней шлифовки сценария двух первых серий. Никакие мои отговорки не помогли – мне прислали билет и потребовали немедленной явки под угрозой отказа от всего сделанного мной и уже одобренного худсоветом.
Я вынуждена была согласиться, поставив Тродду единственное условие – чтобы номер в отеле был снят на двоих, так как я не могла уехать в мирный Лондон, оставив под скадами Сашу, то и дело норовящего забыть где-нибудь свой противогаз. Саша ехать решительно отказывался, ссылаясь на мужскую гордость, но я сломила ее потоками женских слез и клятвенным обещанием, что в Лондоне он целых десять дней не услышит надрывающего душу воя сирен воздушной тревоги.
Последняя сирена застала нас в аэропорту, где невозможно было уклониться от напяливания на лицо отвратительной противогазной маски. В тот вечер, на наше счастье, скады падали как раз вокруг аэропорта, и битых три часа толпы людей в масках с гофрированными хоботами шарахались из одного угла зала ожидания в другой, прислушиваясь к грохоту взрывов. Все вылеты были отложены, так что мы прибыли в Лондон далеко заполночь, даже не зная названия заказанного для нас отеля.
Однако у выхода из таможенного контроля меня поджидал водитель лимузина с именной биркой на шее, – он не только доставил нас в отель, но и сунул мне в руку конверт с толстой пачкой командировочных денег, пообещав назавтра приехать за мной к десяти утра. Измученные и голодные, мы легли спать где-то около четырех утра, но уже в шесть нас разбудил вой сирены.
«Воздушная тревога, – заорал раздраженный Саша, – а ты обещала!»
Подавленная острым чувством вины, я распахнула дверь номера – вся лестница была запружена заспанными босыми постояльцами в пижамах и ночных сорочках, остервенело рвущимися к выходу.
«Пожар! Пожар!» – расслышала я сквозь надсадный рев сирены, и, схватив Сашу за руку, поволокла его к двери. Он попробовал было упираться, ссылаясь на то, что я ему обещала, но я держала его мертвой хваткой, и мы в конце вывалились в общий кавардак на лестничной площадке. Пижаму Саша сроду не носил, и на английского джентльмена был похож не больше, чем Достоевский, но в испуганной толпе, давящей соседей по пути к спасению, никто не обратил на это внимания.
Мне показалось странным, что хоть все отчаянно вопят «Пожар! Пожар!», на лестнице нет никакого запаха дыма, но общая паника увлекла и нас тесниться вниз, в вестибюль. Не успели мы туда добраться, как вой умолк, и сдержанный мужчина в плаще, наброшенном поверх пижамы, сообщил в мегафон, что никакого пожара нет и не было, а просто испортилась пожарная сирена.
С огромным облегчением мы вернулись в свой номер, откуда даже не были украдены в переполохе мои кровные командировочные фунты.
«Вот видишь, – сказала я Саше, не понимая предупреждения, – все хорошо, никакой тревоги, как я и обещала!»
С утра начался мой каторжный труд по редактуре сценария объемом в 146 страниц убористого английского текста. Каждый день я восемь-десять часов проводила в обществе литературного сотрудника Кеннета Тродда, Джоша Голдмэна, который безжалостно вгрызался в мои диалоги с целью загладить их шероховатости и подшлифовать их под манеру английских леди и джентльменов. Хоть часто он бывал прав в критике оттенков моего английского, однако в общем вся процедура сильно смахивала на попытку надеть на Достоевского пижаму.
Сложность положения усугублялась тем, что я тогда работала на Макинтоше, а на Би-Би-Си пользовались вульгарным ПиСИ, так что мне пришлось приволочь в Лондон и таскать на спине в телестудию свой любимый компьютер, весивший вместе с сумкой и клавиатурой 11 килограммов. Каждый вечер я увозила компьютер обратно в отель, чтобы к утру внести в текст поправки, сделанные Джошем, ревностным поборником английского стиля в противовес русскому.
К счастью, поначалу все было хорошо – воздушных тревог больше не было, а меня и компьютер возили в лимузине, водитель которого любезно доносил 11 килограммов электронной премудрости до кабинета дотошного Джоша.
Правда, однажды, по дороге на Би-Би-Си, я услыхала по радио сообщение, что только что ирландские террористы обстреляли бюро премьер-министра Маргарет Тэтчер из подвезенного туда вплотную миномета, но мне и в голову не пришло, что этот обстрел может иметь какое-то отношение ко мне. Только вернувшись вечером в отель, я узнала, что Саша, изнывая от безделья в чужом городе, именно в то утро забрел на Даунинг-стрит и попал под этот самый проклятый обстрел. Он, правда, не пострадал, а только испугался и окончательно разуверился в моих обещаниях.
Я была так загружена работой, что и тут не вняла предостережению судьбы. Тогда некто, мудрый и высокий, повел против меня настоящую атаку, в надежде на мое прозрение. Для начала на Англию была послана небывалая снежная буря такой свирепости, какой бедные островитяне не видели предыдущие пятьдесят лет – так, по крайней мере, утверждало туземное телевидение.
Занесенные снегом дороги и улицы стали непроезжими, и мои уютные поездки в благословенном лимузине прекратились. Приходилось каждый день таскать в метро свой одиннадцатикилограммовый Макинтош туда и обратно – а входы и выходы лондонского метро сплошь состоят из длиннейших коридоров и крутых старинных лестниц. Вдобавок к этому я заболела тяжелым гриппом, и в один прекрасный снежный день, пока я, покачиваясь в забытье под тяжестью компьютера, то ли спускалась, то ли поднималась по бесконечным ступенькам, у меня из сумки украли пластиковый конверт с паспортом и деньгами.
Для получения нового паспорта необходимо было в тот же день лично заявить о пропаже старого в полицейский участок, который оказался где-то у черта на рогах, вдали от всех станций метро. Снегу намело видимо-невидимо, но это не остановило длящийся уже пару суток снегопад. Никакой транспорт не ходил, и на улицах не было ни автобусов, ни такси. Но у нас с Сашей не было выхода, – с трудом преодолевая сопротивление ветра, мы по колено в снегу побрели в полицейский участок, то и дело оскальзываясь и падая в сугробы. Почти не помню, как мы туда добрались, и еще меньше помню, как мы добрались оттуда до отеля.
Но это было только начало наших злоключений. На следующий день, отвезя в метро меня и комптьютер на Би-Би-Си, Саша отправился бродить по застывшему под снеговым покровом Лондону. Улицы были сумеречны и тихи – ни машин, ни автобусов, лишь ломкие цепочки немногочисленных пешеходов робко пробирались по лабиринтам прорытых в снегу узких дорожек. Затянувшие небо плотные тучи не пропускали даже крошечного светового луча, зато не скупились на непрерывное бесшумное кружение липких снежных хлопьев.
Нагулявшись по призрачным белым улицам, окончательно закоченевший Саша спустился в какой-то винный погребок, уютно освещенный ароматными розовыми свечами, где выпил для сугреву бокал старинного вина из девятнадцатого века. Не знаю, что подсыпали в это вино для вековой сохранности, но среди ночи у Саши открылся приступ невиданной аллергии – температура поднялась до сорока, а обе ноги от бедра до пальцев покрылись гнойными малиновыми волдырями.
На десятый день, мы, проявив исключительную живучесть, все же сумели выползти из отеля в свой последний лондонский путь – Саша с чемоданом в руке, я – с неразлучным компьютером в специальном рюкзаке за спиной. Хоть отдельные смелые таксисты уже появились на заснеженных улицах, мы, подавленные кражей почти всех наших денег, приняли мудрое решение ехать в аэропорт на метро с Пэддингтонского вокзала, расположенного в пяти минутах ходьбы от нашего отеля. Но страшная гриппозная слабость не позволила мне пройти это ничтожное расстояние с тяжелым компьютером за спиной – пришлось все же взять такси.
Тем временем на Пэддингтонском вокзале ирландские террористы взорвали бомбу, от взрыва которой погибло три человека и многие были ранены. Услышав об этом по дороге в аэропорт, Саша даже не повторил свое привычное: «Ты же обещала», так он обессилел от своей аллергии из прошлого века и начинающегося актуального гриппа. Мы кое-как прошли все досмотры и контроли и отправились домой – к своему израильскому солнцу и иракским скадам.
И все же, несмотря на все злоключения, в душе моей царило ликование – и Кеннет, и Джош были довольны результатами нашей совместной работы, мне выписали положенные мне 50 процентов гонорара, и главное, худсовет утвердил как сценарии первых двух серий, так и подробный план третьей и четвертой. Оставалось только ждать начала работы по подбору режиссера и актеров.
В довершение этих обнадеживающих признаков успеха Дэвид Конрой написал мне длинное письмо, в котором поздравлял меня с блестящим завершением большей части проекта и строил планы на будущее. Это письмо я храню как напоминание о зыбкости всех наших человеческих начинаний в свете беспощадной суровости руки Божьей.
Из Лондона я вернулась в середине февраля, а в конце марта мне позвонил Джош и будничным голосом сообщил, что главный контролер вычеркнул проект о жизни Достоевского из программы будущего года, поскольку им сейчас не по карману костюмная драма из прошлого века. Я опешила – какой еще к черту контролер – с ударением на втором слоге? Никто даже слова такого не упоминал ни в одном разговоре!
«Тот, кто распределяет время трансляции на год вперед. Он у нас царь и Бог».
«Ну, а на год после следующего есть надежда?»
«То, что контролер вычеркнул, уже невозможно вернуть обратно – это навсегда!»
«Но столько труда затрачено! – взвыла я. – И не только моего, ладно, до меня никому нет дела, но и вашего, и Кеннета!»
«Ничего не поделаешь! – спокойно возразил Джош. – Мы всегда рассчитываем, что определенный процент нашей работы пойдет под нож – таковы правила игры».
«А как же я?» – прорыдала я в трубку.
«А что вам? – усмехнулся на том конце провода Джош. – Деньги же вы получили!»
И отключился, поставив на мне окончательную и бесповоротную точку. Действительно, что ему – он ведь за свою работу получал зарплату и заранее рассчитывал, что определенный процент его работы пойдет под нож. Но я не желала смириться со смертным приговором. Почти три года напряженного поиска, провалов, взлетов, находок и потерь – и все это под хвост какому-то задолбанному контролеру с ударением на втором слоге, пожалевшему денег на костюмную драму?
Вне себя от горя я позвонила Дэвиду Конрою, чтобы напомнить ему о его обещаниях. Ему, конечно, уже сообщили замечательную новость, и он был полон сочувствия, но в голосе его я не услыхала свойственного нашим прежним беседам энтузиазма.
Хмуро объяснил он мне, что на Независимом телевидении, включающем в себя «Темз» и «Гранаду», только что прошел конкурс на получение лицензии, который проходит там каждые восемь лет. На мое счастье, нынешний восьмой год выпал именно на год Свирепого контролера, и в результате старое правление Независимого телевидения, сплошь сформированное из приятелей Конроя, проиграло новому, ему недружественному.
«Они просто предложили более высокую сумму за получение лицензии, – вздохнул он и тускло добавил, – а с новыми людьми у меня нет никаких отношений»…
Выводы были ясны без слов. Я положила трубку и удивилась, что еще жива. Впрочем, я доказала свою исключительную выносливость еще во время лондонских передряг, к тому же в середине марта на моем горизонте начал вырисовываться новый проект, весьма перспективный, хоть ни в коей мере не конкурирующий с тем, любимым и беспощадно вычеркнутым из списков живых.
Несколько лет назад мою пьесу «Майн либер кац», переделанную из «Первого апреля», поставленного в Нью-Йорке ради семи стариков на одной площадке, сыграли в концертном исполнении на сцене Камерного театра. После чего она привлекла внимание одного из ведущих израильских режиссеров, Шмулика Гаспари, и он в течение нескольких лет безуспешно предлагал ее для постановки разным театрам. Той злополучной весной он, наконец, дорвался до власти, – он был назначен директором фестиваля неконвенциального театра в Акко, и с ходу предложил директору Хайфского театра осуществить совместную постановку моей пьесы в рамках фестиваля.
Все складывалось отлично – директором Хайфского театра был тогда тот самый Одед Котлер, с которого началось мое кратковременное процветание в роли израильского драматурга. Мои доброжелатели быстро заключили договор между собой, а потом и со мной, после чего мне предложили выбрать режиссера по собственному вкусу.
Мне, естественно, хотелось найти кого-нибудь, понимающего оттенки российской жизни, но этот кто-нибудь должен был обладать статусом, приличествующим престижному фестивалю. Задача была равносильна попытке найти члена Академии наук пяти лет от роду. Мой любимый режиссер Стасик Чаплин, принятый к тому времени в штат израильского телевидения, был занят съемками какой-то очередной теледрамы, остальные не тянули на статус, да и уровень у них был невысокий. И я совершила роковую ошибку – я предложила Шмулику пригласить Евгения Арье, режиссера еще не вылупившегося тогда из яйца театра «Гешер». Это, конечно, была не единственная в моей жизни ошибка, но она врезалась мне в память особенно болезненно, потому что она окончательно подорвала мою и без того нетвердую веру в возможность отношений, не замаранных корыстью и предательством.
Я бы могла сказать, что создание театра «Гешер» прошло через мой дом и через мою жизнь так остро, «как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, его вели нарезом по сердцу моему».
Сегодня может показаться, что театр «Гешер» существовал всегда, особенно очевидным это должно представляться тем сотням тысяч выходцев из бывшего СССР, которые приехали в Израиль в 90-е годы. Но я отлично помню время, когда не было ни театра «Гешер», ни двух дюжин русских газет, и ни одна кассирша в супермаркете не говорила по-русски.
И потому, когда осенью 1989 года Натан Щаранский, бывший тогда председателем Всеизраильского сионистского Форума, предложил Саше, который был председателем тель-авивского отделения Форума, одобрить проект театра, прибывающего из России в полном составе, Саша счел эту идею абсолютно нереалистической. Сколько театров, газет и журналов возникло за эти годы на наших глазах! И все ушли в небытие, все до единого. Потому что не было главного – зрителя, любителя, читателя…
Кто в 1989 году мог предвидеть, что в Израиль ворвется миллионная русская алия, ломая плотины, меняя привычные стандарты, разрушая стереотипы и внедряя русский язык? Кто мог предвидеть, что мы, бедные и не очень любимые родственники израильской интеллигенции, создадим здесь свою культуру и свое самодостаточное общество, не очень страдающее от недостатка любви коренных носителей языка Библии? Похоже, что теперь они больше страдают от недостатка нашей любви к ним.
А тогда, переплетенная в зеленый пластик тоненькая папочка с программой грядущего великого безымянного театра, вызывала только недоумение – где взять сорок тысяч долларов, затребованных на первые шаги театра его напористым продюсером Славой Мальцевым, не готовым ни на какие компромиссы, вроде снижения требуемой суммы до тридцати тысяч.
И потому, перелистав эту тощую папочку, Саша спросил: «А вы верите, что в Израиле можно создать русский театр?»
«Во всяком случае стоит попробовать», – уклонился от ответа Щаранский.
«Но откуда взять сорок тысяч долларов?»
«Деньги я достану, – поспешно успокоил Сашу Щаранский, – вы только подпишите обязательство Тель-Авивского форума».
«Вы сперва достаньте деньги, тогда я подпишу», – заупрямился Саша.