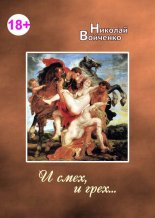Содом тех лет Воронель Нина
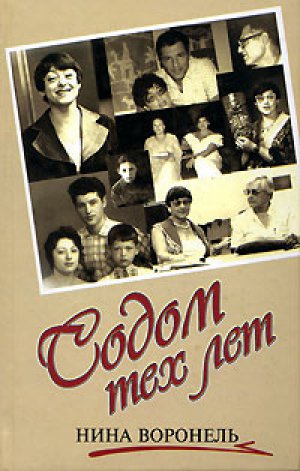
Сообразительный Щаранский смекнул, что обязательство без денег Саша не подпишет, и отступил, посоветовав на прощанье все же познакомиться с Мальцевым: «Вы на него только взгляните, а потом будете решать».
Свою первую встречу с четой Мальцевых – Славой и Катей – мы назначили в кафе «Осло», приятно расположенном на северном выезде из Тель-Авива над парком Яркон. Когда мы вошли в летний сад кафе, Мальцевы уже сидели за столом под полосатым зонтиком, отбрасывающим радужные тени на их повернутые к нам лица.
Преображенные игрой этих порхающих теней лица Мальцевых поражали своим странным несоответствием, вернее, даже противоречием друг другу. Стеклянная Катя, на бледном до прозрачности личике которой недостача губ компенсировалась избытком глаз, вся поросла колючками недоброжелательства, и сразу захотелось отодвинуться от нее подальше, чтобы не пораниться. В противовес ей Слава – округлый, розовый, толстый мужичок с маленькими глазками, прячущимися в зарослях рыжих кудрей и рыжей бороды, излучал такое мощное, я бы даже сказала, магнетическое, обаяние, что недостатки его внешности забывались почти мгновенно. С ним хотелось дружить, ему хотелось верить.
И мы с Сашей не удержались – поверили. Нам понадобилось несколько лет, чтобы распознать скрывающееся за этим обаянием коварство. Но, и распознав, мы не решились бы бросить в Славу камень – все, что он, хитря и лукавя, подгребал под себя, шло на пользу дела его жизни. А делом его жизни было насильственное внедрение чужеродного саженца театра «Гешер» в скудный оазис израильской культуры, где едва-едва хватало воды на свои три пальмы, а уж о четвертой и говорить не приходилось. Сколько ума, изобретательности, политической хитрожопости и эстетического жонглирования понадобилось ему для осуществления этой неосуществимой задачи!
Я знаю, что существует множество мнений о характере Славы Мальцева и о его роли, – в основном, недоброжелательных. Однако я, с первой минуты стоявшая в изголовье рождаемого им в муках дитяти, храню в душе совсем другой его образ и по сей день оплакиваю его крушение, почти как свое собственное. Причем оплакиваю совершенно бескорыстно, потому что мне от него не было никакой пользы, а, скорее, один сплошной вред.
Но я не могу не восхищаться такой преданностью делу, такой самоотдачей, таким мудрым государственным подходом. Мы, всю жизнь издавая в муках журнал «22», так и не научились доить вымя правильной партийной коровы, а Слава через полгода умудрился охмурить культурную верхушку рабочей партии и тут же начать снимать сливки с наспех надоенного молока. Причем, он проделал это без помощи своего первого покровителя – Щаранского, так как тот с рабочей партией вовсе не ладил.
Для начала он ввел в совет директоров «Гешера» основных распределителей партийных благ, которые, как ни странно, были этим польщены и споро принялись за дело. Не успел новоявленный театр выползти из пеленок, как Слава отхватил для него, причем даром, небывало роскошное помещение – не какой-нибудь заштатный клуб, а малый зал Габимы, «Мартеф». Ума не приложу, как он умудрился это сделать, – не иначе, как он всю дирекцию Габимы загипнотизировал поголовно, иначе бы они ни за что не предоставили столь престижную площадку своему грядущему конкуренту.
Кроме непостижимого психологического ключика, умело подобранного им к сердцам своих покровителей, Слава постоянно хвастался таинственным соблазном, уголком носового платочка, выглядывающим из его нагрудного кармана, – гениальным режиссером Евгением Арье, грядущим на наши пыльные нивы с нью-йоркских небес. Он старательно и умело готовил окружающих к явлению Арье народу.
Свою атаку Слава начал с нас, наверно, как говорится, «прицелявся для прахтики» – он регулярно приходил к нам домой, чтобы прокрутить очередную видеокасссету со спектаклем работы Арье. Не то, чтобы спектаклей было много, и были они в основном студенческие, но Слава всегда находил хвалебные слова для каждого актерского выхода и входа. Во время просмотра Катя то и дело закатывала глаза и кликушеским голосом восклицала что-нибудь вроде: «Гениальный проход!» или «Гениальная мизансцена!» После чего Слава прокручивал кассету назад и начинал сначала, чтобы мы могли собственными глазами убедиться в гениальности прохода или мизансцены. Под конец просмотра мы обычно так уставали, что готовы были признать чью угодно гениальность.
Однако только со временем я оценила гениальность Славы Мальцева, сумевшего склонить шею жестоковыйных израильских бюрократов так низко, что их глухое к просьбам ухо оказалось прямо напротив его шепчущих губ. Для того, чтобы добыть для театра первые здания, – заброшенный ангар в Яффо и старый полуразрушенный полудворец на улице Нахмани, – Славе понадобилось неустанно и умело крутить свое колесико, шаг за шагом взрыхляющее суровую израильскую почву. А ведь в придачу к даровым зданиям он умудрялся направлять в кассу театра неиссякающий поток финансовой поддержки. Если мне возразят, ссылаясь на исключительный талант Евгения Арье, я в ответ только напомню, что талант талантом, но судьбу театра решали партийные бонзы, а не трепетные любители искусств. И никто не убедит меня, будто главная забота партийных бонз – помощь талантам, причем талантам не местным и не американским, а возросшим в заваленной снегами варварской стране.
Где-то на спицах этого колесика, которое умело крутил гениальный Мальцев, остались капли и моей крови, пошедшие на пользу делу. Я не собираюсь воспроизводить на этих страницах историю восхождения театра «Гешер» к сияющим вершинам, она многократно описана в глянцевых брошюрах и документальных фильмах. Я сосредоточусь только на той части истории «Гешера», которая касается меня.
Попробую сделать это по порядку. Однажды Слава позвонил нам и загадочно настойчиво пригласил встретиться с ним и Катей в кафе «Тнува» на бульваре Бен-Гурион. Помню, когда мы подходили к кафе, над Тель-Авивом висел тяжелый черный хамсин, – хотелось лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. Сквозь стеклянную витрину кафе мы увидели, что в кондиционированном аквариуме «Тнувы» за столиком Мальцевых сидит кто-то третий, незнакомый, с огромными синими глазами на бородатом лице Карла Маркса.
Катя встретила нас как родных, сияя всеми стеклянными осколками своего хрупкого тельца. «Угадайте, кто это!» – воскликнула она.
Не столько по ее шумному сиянию, сколько по Славиной непривычной тихости я догадалась:
«Это Женя Арье, правда?»
«Он прилетел сегодня!» – взликовала Катя, и мы принялись разглядывать давно обещанного гостя, не забыв при этом заглянуть в меню. Помню, что каждый из нас заказал по чашке кофе с пирожным, а толстяк Слава потребовал себе не одно пирожное, а два – «по случаю праздника». Вечер и впрямь получился праздничный – Мальцевы и Арье наперебой расхваливали друг друга в самых экзальтированных тонах, объясняя нам, что друг без друга они и дня прожить не могут…
И только Саша ни с того ни с сего завершил этот праздник мрачным предсказанием в хорошо разработанном им к тому времени стиле Кассандры – к сожалению, высказываясь в стиле Кассандры, он оказывался прав чаще, чем мне бы хотелось.
«Вы хвалите друг друга так искренне, так горячо, а года через три один из вас выгонит другого, только я не знаю, кто кого», – со странной уверенностью заявил он, словно смотрел в хрустальный шар, показывающий будущее.
Я испуганно зашикала на него, а трое наших гостей дружно закричали, что это просто дурацкая шутка и ничего подобного не может у них случиться, ведь они полны взаимной любви, и опять повторили, как заклятие, что друг без друга и дня прожить не могут. Теперь, когда все уже свершилось, и Женя Арье, выставив Славу Мальцева за дверь, прекрасно живет без него не один день, а Катя, покинув его, изгнанного, вышла замуж за другого, и тоже, похоже, благоденствует, я вспоминаю предсказание Саши с затаенной печалью. Как это понять – он предусмотрел события или сам их накликал?
Но все же я не допускаю окончательно, что Слава Мальцев был наказан предательством лучших своих друзей именно за то, что он предал меня, хотя такая циничная мыслишка, нет да нет, а шевелится у меня на грани между сознанием и подсознанием. Кто я, чтобы за меня кого-то наказывать? И все же…
А случилось все из-за того, что я предложила дирекции театрального фестиваля, избравшего своим почетным гостем мою пьесу «Майн либер кац», пригласить Женю Арье в качестве режиссера. Женю тогда почти никто еще в Израиле не знал, хотя он уже успел поставить в «Габима-мартеф» «Розенкранца и Гильдестерна» Тома Стоппарда – именно там можно было увидеть воочию воспетые Катей «гениальные проходы и мизансцены». Они происходили на узком помосте, почти жердочке, проложенном по диагонали через всю сцену. Это было остроумное сценографическое решение, но я бы восхищалась им гораздо больше, если бы десять лет назад уже не видела такую же жердочку в нью-йоркском спектакле Йонаса Зянкявичуса.
Но жердочка жердочкой, а местная пресса, так же, как и местная культурная элита, мало интересовалась достижениями этнографического меньшинства, лопочущего на незнакомом языке. Однако мое предложение заставило Гаспари, а с ним и некоторых других небожителей спуститься с израильского Олимпа в габимовский подвал. Они в достаточной мере впечатлились «гениальными проходами и мизансценами», тем более, что о спектакле Зянкявичуса они понятия не имели и решили и впрямь пригласить на собеседование незнакомого русского режиссера, не знающего ни слова на иврите.
Приглашение приехать вместе с ними получила и я, но Слава тайком изменил дату встречи в Хайфе и «нечаянно» позабыл сообщить об этом мне. В результате они поехали без меня и переиграли первоначальный замысел руководства фестиваля, заменив мою пьесу на непотребный венигрет из московских студенческих постановок Арье. Как им это удалось, не знаю, – не исключено, что они оговорили меня и разругали пьесу последними словами, ссылаясь на свою способность прочесть ее в оригинале… Никакие мои заслуги не были приняты при этом в расчет, – ни то, что именно я приоткрыла им дверцу в израильский театральный истаблишмент, ни то, что я почти силой уговорила свою подругу Лину Чаплину сделать о них короткометражный фильм для местного телевидения. Это был первый фильм, сделанный о театре «Гешер» на израильском телевидении – кто знает, как сложилась бы судьба театра без него? Ведь недаром говорят, что почин дороже денег.
Все это было неважно – в деле избавления от моей пьесы сработал лагерный волчий принцип «Умри ты сегодня, а я завтра», и мне с любезной улыбкой указали на дверь. Официальная версия была неубедительной, но неоспоримой – мне объяснили, что в театре «Гешер» не нашлось достаточного количества стариков для постановки пьесы «Майн либер Кац». Правда, было не совсем ясно, при чем тут театр «Гешер» – ведь первоначально о нем не было и речи. Предполагалось всего лишь приглашение Евгения Арье для работы с израильскими актерами, но он посетовал, что не может с ними работать из-за незнания иврита, и свершилось очередное чудо – в мудрых руках кудесника Мальцева даже недостаток превратился в достоинство, что не помешало и Мальцеву вскоре пасть жертвой того же волчьего принципа…
Правда, вполне возможно, что, не говоря обо мне плохого, Слава тогда просто загипнотизировал двух наивных израильтян, не имеющих никакого понятия о черной русской магии. Тут естественно напрашивалось навязшее сочетание «не имеющих понятия о черной русской мафии», но я вовремя удержалась от искушения, понимая, что мафия тут все же ни при чем. Тем более, что, изгнавши Славу Мальцева с волчьим билетом, Женя Арье доказал свою непринадлежность к одной с ним мафии. Хотя я до сих пор не могу постигнуть, как Слава Мальцев, такой хитрец и умелец, оказался столь беззащитным перед враждебностью людей, судьбу которых он устроил.
С тех пор, как его выставили из «Гешера», он канул в небытие, сгинул, растаял, как утренний туман. А ведь он обладал не только неправдоподобным обаянием, но и множеством художественных талантов. Стоит только вспомнить созданную им лично первую афишу «Гешера» – блеск, да и только! Как-то во время одного из юбилейных капустников «Гешера» он сыграл в пародийном спектакле «Идиот» роль Парфена Рогожина и, на мой вкус, превзошел в актерском мастерстве всех остальных участников спектакля, тоже не последних молодцов. А в другой ситуации он, маятниковой траекторией бегая по залу «Мартефа», одновременно мастерил куклу, необходимую для какого-то эстрадного номера. Болванка куклы висела у него на шее, и, улаживая на бегу десятки организационных проблем, он методично прокалывал эту болванку большой иглой, сквозь ушко которой был продет шелковый шнурок, – и буквально у меня на глазах возникала чудо-кукла.
Поразительно, что я все время говорю о Славе в прошедшем времени – «был», «обладал», – а ведь он живет и здравствует где-то неподалеку на израильской земле. Однако потеря статуса проделала с ним злую шутку – он живет и даже работает, но очень немногие знают, где и над чем. А большинство даже не знает его имени и не подозревает о его роли в создании главного претендента на первое место в израильском театральном мире.
Изгнание Мальцева из «Гешера» было отлично оправдано одним из ведущих актеров театра, не посвященным в подробности вины Славы передо мной. Он объяснил это явление гораздо проще и реалистичней:
«Когда ракета-носитель выполняет свою функцию, ее выбрасывают с орбиты, чтобы она не отягощала спутник, а просто сгорела при входе в атмосферу». Я всей душой присоединилась к глубокой человечности такого объяснения, но почему-то постеснялась спросить этого актера, прикончил ли он уже свою маму, давным-давно выполнившую нужную ему функцию.
Каннская тусовка
- О море в Ницце, та-ра-ра-ри-ра рам!
- О небо в Ницце, та-ра-ра-ри-ра рам!»
Верила ли я в детстве, напевая это танго, что Ницца вообще существует? Вряд ли.
Удостовериться в реальности этого призрачного неба над призрачным морем в призрачной Ницце я так и не смогла: сразу по приезде надо было спешить в Канны, самолет прилетел почти в полночь. Я заметила только, что пространство французской Ривьеры сплошь заставлено человеческим жильем, как старинная бабушкина квартира добротной резной мебелью. Я имею в виду абстрактную, а не мою родную бабушку: у моей – убогая обстановка представляла собой сборную солянку, остро приправленную нищетой. Но вот в доме бабушкиной кузины, тети Бети, куда я любила ходить в гости, потому что там вкусно кормили, вещи теснились, как дома на узких улицах Канн. Огромный абрикосовый абажур колыхался над круглым столом, крытым плюшевой скатертью с бахромой, на скатерти симметрично поблескивали тонкие стаканы в серебряных подстаканниках, над распростертой на цветастом блюде медовой коврижкой курился тонкий аромат свежезаваренного чая, и плавно крутилось сиденье винтового стульчика перед распахнутым роялем. И струны в нем дрожали…
Таким представлялось мне недосягаемое сладкое благополучие в годы голодного военного детства, таким предстало оно мне сейчас в другом мире, под другим небом, над другим морем. Ноздри мои жадно ловили пряный запах молотого кофе и истомившихся в духовке круассанов. Над плавной дугой побережья уютно покачивался абажур медового солнца, обстоятельные каменные дома строем стояли вдоль узких тротуаров, как обтянутые чехлами кресла в гостиной у тети Бети.
Хотелось вернуться в детство.
Вообще вся эта затея была, по сути, моей запоздалой игрой в Золушку, этакой неразумной надеждой, что башмачок окажется волшебным. Я везла с собой фильм, сделанный режиссером Славой Чаплиным по моему сценарию на деньги худсовета при Сенате города Берлина. Фильм удалось завершить с превеликим трудом при участии множества необъяснимых чудесных совпадений, одним из которых была моя, оплаченная тем же Берлинским Сенатом, поездка на Каннский фестиваль. И потому хотелось вместо сказки «О рыбаке и рыбке» принять версию сказки о Золушке, так чтобы и последнее чудо – коммерческий успех – тоже свершилось. Название фильма – «Абортная палата», так же, как и его тема – абортная палата, находились в прямом противоречии с необходимым для успеха идиллическим хэппи-эндом, но я от этого противоречия отмахивалась: ведь весь настрой фестиваля был подчинен теме Золушки, теме неожиданного, неслыханного, головокружительного успеха. Все вокруг было как в сказке или как в кино!
«…Воскресный вечер на набережной Круазетт был заполнен черными галстуками-бабочками: англичане давали грандиозный банкет в честь просмотра своего конкурсного фильма «Возвращение солдата». Сначала банкет протекал довольно вяло, но к десерту все развеселились: пунш пылал во всех бокалах, а за окнами огромного обеденного зала отеля «Мартинез» в небе полыхал фейерверк».
«…Вечно юный Фредди Филдс до рассвета танцевал на банкете, который он давал в честь английского режиссера Аллена Паркера. В роскошной вилле Мегги Руф в Верхних Каннах, ныне принадлежащей князю и княгине Рено д’Арнкур, лучшие люди Фестиваля наслаждались омарами и шампанским во льду, а вдали переливались огни Карлтон-Отеля, и высоко в небе мерцали звезды. Воистину, магия в голливудском стиле! Единственная претензия – слишком много жратвы!»
«…Сегодня на вилле Кризалис в Антибах дверь открыта для всех. Не забудьте захватить купальные костюмы!»
«…Сегодня утром на террасе Карлтон-Отеля было зарегистрировано семь карманных краж. В этом году в Каннах карманников больше, чем журналистов! Будьте осторожны! Не носите с собой деньги!»
Десятки обнаженных девушек всех цветов и рас целыми днями сидели на продуваемом ветром пляже перед Пале Фестиваля в надежде, что волшебная палочка Феи коснется их худеньких плеч. Они не обращали внимания ни на липкие взгляды зевак, облепивших парапет пляжа, ни на поспешные весенние ливни, покрывавшие их спины брызгами и пупырышками гусиной кожи: каждая надеялась, что из толпы любопытных выбежит очарованный ее прелестями знаменитый режиссер и позовет за собой. И неважно, куда позовет: к себе в номер, на банкет в отель «Мартинез» или сразу на съемочную площадку, – главное, чтобы заметил и позвал. А там, по сказочным законам удачи все пойдет само собой: защелкают фотоаппараты, зажужжат кинокамеры, замельтешит реклама, и чудо свершится. Все будет, как в сказке или как в кино: обеды для избранных, цветы на миллион франков, прекрасные принцы на вертолетах!
«Хильда Арков истратила только на цветы миллион франков при подготовке знаменитого обеда для избранных, который ежегодно дает ее муж Сэм Арков журналистам в ресторане Отеля Дю-Кап».
«Весь пляж так и замер, когда знаменитый киноактер Роберт Джинти выскочил на берег из вертолета в сопровождении четырех красавиц в майках, заправленных в армейские бриджи, и с автоматами в руках…»
Первая осуществленная Золушка предстала передо мной в виде несколько экстравагантном, я бы сказала, даже непотребном: она перевоплотилась в толстого израильского воротилу по имени Менахем Голан. Крупнейший израильский кинопродюсер, создатель серии «Эскимо-лимон» и самого аутентичного фильма об операции Энтеббе, по праву мог бы считаться грубияном даже среди одесских биндюжников. Может, именно эта его особая (так и тянет по-антисемитски сказать «жидовская»), до высшего вдохновения доведенная наглая дерзость зашвырнула его так далеко вверх по головокружительной лестнице кинокарьеры, ведущей в пустоту небес?
«Все пятьсот самых близких друзей были в этот вечер в казино «Палм Бич» на банкете Менахема Голана и Йорама Глобуса из «Кеннон филмз!»
А кто знал Голана и Глобуса три года назад? Кто из «пятисот самых близких» потащился бы в полночь на самую дальнюю точку набережной Круазетт, где за Спорт-Клубом, за мариной, прячется среди пальм казино «Палм Бич»? А сегодня фронтон Карлтон-Отеля в межоконных просветах сплошь увешан огромными, в два этажа, черно-белыми портретами знаменитых киноактеров, и над знакомыми по множеству фильмов лицами зазывно нависает крикливая рекламная шапка, оповещая прохожих, что Голан и Глобус из «Кеннон филмз» приветствуют своих «звезд». Простенько, но мило: продюсеры приветствуют звезд. И только посвященные могут себе представить астрономические суммы, которые нужно было заплатить, чтобы покрыть рекламными щитами фасад Карлтон-Отеля в дни фестиваля.
Конечно, голановская вариация на тему Золушки выглядит модернизованной почти до неузнаваемости, и нет в ней волшебного касания палочки Феи, нет того трепета ожидания чуда перед балом, которым полны сердца продрогших на ветру голых девушек на прибрежном песке. Вариация эта пахнет мужицким потом тяжких усилий, и тяжесть эта вряд ли может быть сбалансирована радужными мыльными пузырями сомнительной саморекламы.
Но сказку нельзя убить – сказка всегда найдет способ прорасти сквозь путаницу житейских неурядиц. Для поддержания духа всех тех, кто, надрываясь, карабкается по неприветливым кинотропам над бездной банкротства и непризнания, она разыгрывает традиционную историю Золушки, выполненную согласно добрым старинным канонам.
Молоденькая девушка в клетчатой мини-юбке и в огромных солнечных очках, обрамленных оправой в клетку, бродит по дискотекам ночного Нью-Йорка в поисках счастья и наклеивает на все стены собственный портрет. Ее зовут Рэн, ее зовут Золушка, ее зовут Сьюзен Берман – она исполняет главную роль в фильме «Осколки» другой молодой нью-йоркской девушки по имени Сьюзен Сейделман. И все так перепутано: где жизнь, где вымысел, где какая Сьюзен и кто из них Золушка? Весь фильм Сьюзен Сейделман настолько дышит жизнью, так неотличим от нее, так завораживающе жизнеподобен, так точно сфокусирован, что порой трудно поверить в его принадлежность к категории кино художественного, а не документального. Актеры играют естественно, как дышат, а они за время съемок не получили ни копейки, камера скользит по нью-йоркским трущобам с той легкостью, какая дается только большим трудом и бескорыстным вдохновением – оператор тоже не получил за время съемок ни копейки.
За непритязательностью сюжета просматривается точно очерченное лицо «человека толпы» – Рэн ничего не умеет, ничего не делает, никого не уважает, но знает точно, чего хочет: славы, денег, сладкой жизни. Она жаждет встретить Фею, которая превратит ее – не кого-нибудь другого, а именно ее – в счастливую обладательницу всех благ, которые, – она в этом уверена абсолютно, – должны принадлежать ей по праву. На чем основано это право, ей неважно и неинтересно, – это право не связано в ее представлении ни с какими обязанностями, но она ни на секунду не позволяет себе в нем усомниться. Бездомная, голодная, давно не принимавшая душа, в рваных сетчатых чулках и серебряных пластиковых туфлях, сидит Рэн на пустыре и пишет красным спреем на обломках стены: «Рэн». Эту надпись она обводит жирной красной чертой и направляет на нее со всех сторон красные стрелы: вот он центр мира, центр Вселенной!
И все это снято в условиях почти фантастических: сегодня, когда бюджеты фильмов вздуты до десятков миллионов долларов, режиссеру удалось уложиться в смехотворную сумму – менее ста тысяч. Съемки производились в ночном метро по секрету от городских властей, так как нечем было заплатить за разрешение. Когда кто-то из организаторов фестиваля предложил Сьюзен представить фильм на внеконкурсный «выбор режиссеров», она не могла дать согласия: у нее не было денег ни на билет в Канны, ни на перевод фильма с узкой пленки на широкую.
Но это было уже неважно; с этого момента вступила в действие всесильная машина сказки. Пока Сьюзен объясняла озадаченному представителю конкурса режиссеров свое бедственное денежное положение, – в манхэттенском ресторане, где он платил за ее обед, – за соседним столиком угощала своих клиентов известная специалистка по продаже фильмов Джой Перес. Ей-то и выпала роль доброй Феи: случайно подслушав слова Сьюзен, она вмешалась в разговор и выразила желание посмотреть фильм. Дальше все покатилось легко и весело по накатанной многовековой сказочной практикой колее головокружительной удачи: очарованная фильмом Д. Перес дала денег на перевод его на широкую пленку, конкурсная комиссия приняла его к официальному просмотру, жадные распространители бросились на новинку, как мухи на торт.
Так в одночасье поворачивается колесо Фортуны, меняя судьбы всех действующих лиц, – и в надежде на нечто подобное суетятся вокруг заманчивого кинопирога тысячи неудачников.
Я тоже начинаю каждое утро с журнала «Международный экран»: лихорадочно листаю страницы, составляя программу дня. Ведь каждые полчаса начинается просмотр по крайней мере пяти-шести фильмов в разных залах. Какой из них выбрать, чтобы не пропустить чего-нибудь важного? Врываюсь в Пале Фестиваля, хватаю все возможные билеты на конкурсные фильмы, пересматриваю снова программу и начинаю марш-бросок по залам внеконкурсных просмотров.
В первом зале совершенно пусто, там нет никого кроме меня: идет советский фильм. Пытаюсь перетерпеть несколько минут: приятно все же, когда на экране звучит русская речь. Но какая игра! Боже, неужели я когда-то разделяла общепринятое мнение о преимуществах советской актерской школы? Ведь слова в простоте не скажут, каждую фразу выдавливают изо рта, словно зубную пасту из тюбика: «Г-спада, помилуйте, г-спада, да что же это?» – и закатывают глаза с драматическим придыханием. Дамы и господа из страны победившего хамства старательно разыгрывают предреволюционных дам и господ в фильме «Скачки».
Не выдерживаю, да и времени драгоценного жаль, выскакиваю из мерцающей пустоты зала, и скорей – в соседний. Там сегодня венгры. Там тесно сидят бородатые люди в очках. Нахожу место во втором ряду, протискиваюсь, оттаптывая ноги сидящим, – никто не реагирует, венгров здесь воспринимают с почти молитвенным восторгом. На экране много голого тела, в основном женского, все «топлесс», идет костюмированная драма из прошлого, что дает венграм повод выразить свой протест против ханжества социалистического реализма средствами интеллектуальной порнографии.
Охватив смысл происходящего на экране за десять минут, я спешу прочь. Вновь оттаптывая ноги слегка поредевшим отрядам бородатых в очках, я выбегаю на набережную Круазетт, мучительно раздваиваясь между острым чувством голода и столь же острым желанием успеть на японский фильм «Суть татуировки» – «выбор режиссеров». Пройти по набережной трудно, проехать невозможно – огромная толпа уже поджидает начала торжественного шествия «избранных» на вечерний сеанс в Пале Фестиваля.
Наверно, интересно увидеть на расстоянии вытянутой руки Альберто Сорди или Брижитт Бардо, наверно, увлекательно почти вплотную разглядывать на живых людях фантастические туалеты с Рю д’Антиб. Но парад приглашенных на вечерний конкурсный просмотр в Пале – это еще и парад удачи, и тем, кто его завороженно созерцает, хочется верить, что удача так же заразительна, как и несчастье: стоит лишь коснуться баловня судьбы, вдохнуть воздух, который он только что выдохнул, и ты, бедный и невезучий, тоже вознесешься туда, где только на цветы можно в один вечер истратить миллион франков!
Но мне стоять и глазеть некогда, а то не будет места в зале «Мирамар», где демонстрируется японский фильм. Место, однако, находится – между двумя бородатыми в очках. Кстати, ни одного бородатого в очках в толпе зевак на набережной я не заметила: те, что теснились перед входом в Пале, были, похоже, какой-то другой породы.
Говорят, что японец должен улыбаться, рассказывая посторонним о смерти матери или любимой жены, чтобы посторонние не подумали, будто он навязывает им свое горе. Говорят, что уважающий себя японец при малейшей обиде вспарывает себе живот особым ножом так, чтобы все кишки вывалились наружу, и испытывает при этом специфически японское удовольствие. И каждый японский фильм, который я вижу, снова и снова подтверждает этот поразительный миф о странностях японского национального характера, добавляя очередную каплю информации в непостижимое море этой странности.
Главной пружиной японского киноискусства я бы назвала уродливо-прекрасный симбиоз эротики и садизма, неразрывно связывающий наслаждение со страданием. Если знаменитый фильм «Империя чувств» потряс западного зрителя убедительным рассказом о силе женской любви, побудившей героиню отрезать гениталии своего возлюбленного в момент кульминации страсти, то фильм «Суть татуировки» обращается к проблеме искусства – но тоже через секс и страдание. Героиня фильма в доказательство своей любви желает покрыть собственную спину сложной многоцветной татуировкой, секретом которой обладает один-единственный мастер. Секрет этот заключается в том, что пока старик-мастер рассекает кожу клиентки и наполняет порезы едкой краской, она лежит в объятиях юного ученика, который непрерывно ласкает ее, чтобы отвлечь и возбудить сексуально. Старый мастер убежден, что только в момент высокого сексуального возбуждения татуировка получается воистину прекрасной. Ради этого убеждения, вернее, ради искусства, из него рожденного, пожертвовал он своей любимой женой и единственным сыном, – ибо чем больше страдания, тем выше искусство. Все это было для меня чудовищным и завораживающим, – и медленное, почти статичное повествование, и нерукотворной красоты кинокадры, и птичья японская речь, обрамляющая музыкально эту красоту, и научно-фантастический ультрасовременный пейзаж сегодняшнего японского социального быта, поразительно контрастирующий с традиционной консервативностью быта индивидуального.
Каннский фестиваль – одно из немногих мест в мире, где одинокая женщина может спокойно поужинать в самой захудалой забегаловке, не опасаясь ни хулиганов, ни назойливых приставаний. За хулиганами здесь зорко следит многочисленная полиция (третье место по численности, – после карманников и журналистов): ведь ей надо как-то оправдаться за нерасторопность в борьбе с ворами. А бородатые в очках, составляющие основную массу фестивальной публики, абсолютно замкнуты на себя через киноэкран. Жизнь на экране полностью заменяет для них жизнь реальную; каждый бородатый автоматически, не разбирая вкуса, подносит к мохнатому рту вилку с кусками аппетитного французского мяса, не отрывая глаз от разложенных веером программок, – каждый за своим отдельным столиком, каждый в своем мирке, прочно отгороженном программкой от всего остального мира. Время от времени один из них вскакивает из-за стола и, глядя в пространство невидящими глазами, устремляется на четвертый этаж Пале: там рядами стоят пишущие машинки с буквами всех возможных алфавитов и оттуда, денно и нощно раздавается пулеметное стрекотание рождающегося на глазах общественного мнения.
Всю ночь меня преследовали кошмары: давясь на бегу черствым бубликом, я вместе со стадом бородатых в очках металась по огромному сумрачному залу, где сотни пишущих машинок с алфавитами всех языков предавались лесбийской любви. Потому наутро, запивая головную боль кофе с круассаном, я приняла героическое решение не суетиться между осколками внеконкурсных просмотров, а сосредоточить все силы на добыче билетов в Большой зал Пале, где размеренно прокатывали конкурсные фильмы, – торжественно, без спешки, с обширными перерывами для ланча, коктейля, ужина.
Повесив на себя свои затянутые в целлофан пропуска, я отправилась за билетами. Пропусков было два, оба с фотографиями, сделанными в разных мгновенных фотомашинах: на одной я выглядела восторженной романтической дурой, на другой – прокисшей брюзгой неопределенного возраста. Фотографии распределили по пропускам без тени психологического подхода; романтической дурой украсили продолговатую карточку с черной надписью «Рынок», брюзгу налепили на квадратик, удостоверяющий мою принадлежность к суетливому братству бумагомарателей рыжим раскосым словом «Автор». Увы, по неопытности и недальновидности, я не обеспечила себе самую лучшую, сизую бирку с диагональной надписью красным «Пресса» – а именно это был «сезам», отворяющий любые двери!
Но и сочетание моей скромной пары «Автор-Рынок» оказалось вполне пробойным; к началу первого сеанса я держала в руках билеты на три конкурсных фильма этого дня. Фильмы были декорированы громкими именами, – это был товар без дураков, не какие-то жалкие Золушки с нью-йоркской свалки: каждое имя стоило добрый десяток миллионов, а то и больше. Микеланджело Антониони, Вернер Герцог, Жан-Люк Годар.
Я вышла на Круазетт, чтобы удостовериться, что это не сон: вокруг меня бурлили Канны, со стен Карлтон-Отеля дюжиной улыбок сверкали звезды Менахема Голана и Йорама Глобуса, голые девушки на пляже покрывались гусиной кожей на морском ветру, толпы любопытных глазели на счастливчиков, поднимающихся по лестнице Пале. А я шла среди этих счастливчиков, сжимая в руке драгоценные билеты и потряхивая своими удостоверительными волшебными бирками, – продолговатую я приколола к вырезу блузки, квадратную – на пояс.
В дверях меня охватил страх: сейчас не пустят! Ведь я-то знала, что все это сказка, что она каждую минуту может кончиться. Но никто ничего не заподозрил: служитель в отутюженном смокинге бегло глянул на мой билет, скользнул глазом по моим заветным биркам и вяло кивнул – и вот я уже внутри. Я опасливо оглянулась, – никто не гнался за мной, не требовал, чтобы я немедленно убиралась прочь с этого пира избранных. Я опустилась в уютное тепло кресла, свет погас, мелькали титры: Жан-Люк Годар, «Страсть».
Я была так возбуждена, так упоена уникальностью этого переживания, что поначалу не заметила, как скучно развивалось действие на экране. Я вспомнила, как один молодой советский сценарист утверждал, что о скучных событиях надо писать скучно, а никак не могла выяснить, чем может привлечь зрителя «скучное о скучном». Вероятно, жюри Каннского фестиваля поняло этот принцип лучше, чем я: многие конкурсные фильмы оказались, на мой взгляд, вполне совершенным его воплощением, – они были восхитительно скучны!
В конце концов я не вытерпела: по мере высокотехничного накручивания скучного на скучное у меня начался знакомый по прошлому дню нервный зуд, и я постепенно стала вспоминать обо всех других соблазнах, которые предлагал мне в этот день Каннский фестиваль. Под ложечкой у меня сосало, и я вовремя вспомнила, что через час кончается прием с коктейлями, даваемый в Яхт-клубе израильским культурным представительством.
Стесняясь самой себя, я выскользнула из полупустого зала, твердо выдержала взгляд билетера в смокинге и вернулась к действительности, которая была по-прежнему празднично многолюдна. Все столики дорогих кафе на набережной были заняты, веселые девушки в мини-юбочках торговали майками с разноцветным клеймом фестиваля, крикливые мальчики торговали засахаренными орешками по цене на вес золота, кавалькада автомобилей ползла черепашьим ходом вдоль прибрежных пальм. Я окончательно выбросила из головы скучное о скучном как только перешагнула порог внутреннего дворика роскошного Яхт-клуба, где гортанно переливалась ивритская речь.
Все было, как в кино: журчали фонтаны, качались цветы на газонах, искрилось вино в бокалах, заходящее солнце окрашивало пурпуром пустые блюда из-под бутербродов с икрой и пирожных. Мои прожорливые соотечественники съели все до крошки, так и не допив вино. Они стояли живописными группками среди плетеных диванчиков и цветочных клумб, держа в занемевших пальцах почти нетронутые бокалы. Мужчины были в джинсах и пестрых рубахах без галстуков, как и положено израильтянам, но дамы! Честно признаюсь: там было на что посмотреть. Я насчитала полдюжины модниц в кружевных шортах самых поразительных цветов, еще полдюжины – в развевающихся балахонах с золотыми прошивками, туалеты остальных были под стать кружевным шортам, цветочным клумбам, журчащим фонтанам и пестроте солнечных бликов.
Я не стала бы вспоминать об этом маленьком празднике красок, если б не случайная встреча, задевшая меня больнее, чем можно было ожидать. Из Яхт-клуба я опять поспешила в Пале, чтобы не опоздать на просмотр картины Антониони. До начала оставалось пятнадцать минут, времени прилично поужинать уже не было, а бокал вина, выпитый в Яхт-клубе, только распалил чувство голода. Я решила подняться в кафе прессы на четвертом этаже Пале в надежде схватить там хоть какой-никакой завалявшийся сэндвич.
В спешке я сбилась с дороги и поднялась наверх первым подвернувшимся лифтом, который неожиданно привез меня на самую крышу Пале, где я до сих пор ни разу не бывала. Сверху открывалась головокружительная благодать Каннской бухты, замыкающейся виллами Антибского мыса, от солнца остался в небе лишь сиреневый полукруг облаков, и в их переливчатом отблеске в двух шагах от меня, чуть в стороне от входа, толпилась небольшая группа людей, странно непохожая на все, к чему уже привык мой глаз. Все были серые: светло-серые, темно-серые, черно-серые, ни одного цветного пятна. Все мужчины были в галстуках, все женщины в строгих воротничках и одинаково удлиненных, чуть ниже колен, мешковатых юбках. И все говорили по-русски!
Никто не улыбался, все стояли чинно и переговаривались приглушенно, словно сообщали друг другу государственные тайны; на длинном пластиковом столе выстроились опустошенные бутылки, за ними – пара ящиков еще непочатых, закуски не было никакой. Я тоже взяла в руку бокал, чтоб не выделяться, и стала бродить среди этой унылой толпы – кого они мне напоминали? Ага, поймала: кадр из фильма «Ленин в Париже», из той его части, которая не в Париже, – самый скучный из всех фильмов фестиваля. Я, правда, смотреть его не стала, но никто другой тоже не пытался, – я специально заглянула в зал, чтобы проверить: там было абсолютно, восхитительно, стопроцентно пусто.
Я вспомнила разнообразие невыпитых бутылок на израильском приеме, чего только там не подавали: коньяк, джин, вермут, виски, разные соки, колу! А здесь был всего один сорт, кисловатое белое вино, то ли грузинское, то ли молдавское – привезли небось с собой для экономии из страны победившего социализма. Что с них взять – великая ядерная держава, у нее другие расходы!
Одна дама цветным пятном выделялась на общем фоне, плечи ее покрывала золотистая ажурная накидка из другого мира (позже оказалось, что она гостья из братской народной демократии – вот и весь секрет), и потому я осмелилась ее о чем-то спросить. Она так и вскинулась в изумлении: «Вы говорите по-русски!» Мне-то казалось, что я как все, раз я все по-ихнему понимаю, но тут я взглянула на себя со стороны, и стало мне смешно. Я уж не говорю о том, что форма моего носа и глаз сразу начисто исключала возможность моей принадлежности к советской делегации в любом качестве, но глаза эти и нос были к тому же украшены очками в золотой причудливой оправе вразлет от Кристиана Диора. Мой многолетний средиземноморский загар ничуть не скрывался экстравагантным – по меркам приема на крыше, хоть и сверхскромным с точки зрения приема в Яхт-клубе, – ансамблем из разнотонных лоскутков зеленой ткани, отороченных кружевами трех оттенков зеленого, который держался на голых плечах при помощи узеньких – не шире ботиночных – шелковых шнурков.
А я-то воображала, что могла бы сойти за свою, пока кружила среди их скудного застолья экзотической зеленой бабочкой! Я вдруг в ином свете увидела их постные лица без улыбок и неожиданно для себя пожалела их всех оптом – стукачей и отступников, тех, кто продает душу дьяволу, и тех, кто служит посредником при сделке. Пожалела, хоть знала, что они в своем кругу счастливчики, баловни судьбы. Потому что среди них я была удачница. Золушка на балу, с той только разницей, что мне не следовало бояться полночного боя часов.
Но посмотреть на часы было очень даже кстати – и я обнаружила, что до начала фильма Антониони «Поиски женщины» осталась одна минута. Так как я уже не доверяла предательскому лифту, который привозит невесть куда, я в течение этой минуты успела скатиться вниз по лестнице, проскочить мимо билетера в смокинге и найти пустое место в переполненном зале. Свет погас, и человек с чемоданом пошел по лестнице вверх.
Он шел очень долго – так долго, как может идти на шестой этаж не слишком юный человек с тяжелым чемоданом. Когда он останавливался, чтобы передохнуть, камера тоже останавливалась и любезно показывала нам все лепные завитушки лестничного пролета. Наконец он дошел до своей двери и долго рылся в карманах в поисках ключа. Пока он рылся, камера совершила назидательную экскурсию по крышам соседних домов и по завитушкам над старинным окном. Когда он открыл дверь, мы вместе с камерой долго изучали детали обстановки его квартиры, и в сердце мое начало закрадываться опасение, что и фильм Антониони окажется скучным.
И хоть он и впрямь оказался скучным, я с него не ушла – это было бы слишком, ведь в прошлой моей московской жизни я пожертвовала бы многим за возможность попасть на фестивальный просмотр Антониони. Но, выйдя из зала в толпе бородатых в очках, я мысленно взмолилась словами любовника мадам Коти, жены производителя лучших в мире духов, проведшего ночь в шкафу с образцами продукции ее мужа. Вывалившись оттуда в полуобмороке, он прошептал посиневшими губами: «Мадам, умоляю, – кусочек дерьма!»
Обескровленная обрушившимся на меня за один день водопадом скуки душа моя жаждала дерьма. Что ж, на фестивале с дерьмом все было в порядке: здесь его было сколько угодно, на любой вкус. Можно было посмотреть фильм ужаса, фильм про вампиров, сосущих кровь, как говорится, из горла, можно было забежать на садомазохистское или гомосексуальное порно, можно было насладиться развесистой клюквой про КГБ.
Обдумав все предложенные на полночный сеанс варианты, я выбрала комедию, успевшую уже приобрести скандальную известность в кругах бородатых в очках. Чтобы объяснить причину этой скандальности, я процитирую всеведущий «Международный экран»:
«Вообще-то это вовсе не про людоедство», – так режиссер Поль Бартель пытается защитить свой фильм «Поедая Рауля» и добавляет смущенно: «Впрочем, там в конце, и про это есть немножко, когда делового партнера угощают гуляшом из мяса другого делового партнера, Рауля».
Вкус этого гуляша из Рауля, политого пикантным соусом, все еще стоял у меня в горле, когда я в последнее свое каннское утро осознала, что время мое здесь истекло, а Французской Ривьеры я так и не повидала. Я не съездила на поезде в Сан-Тропе, не поглядела из окна автобуса на Антибский Мыс, не смоталась на катере в Жуан-Ле-Пэн. Я прокружилась неделю по залам фестиваля, полностью забыв о жизни реальной ради призрачного мелькания теней на экране. Но и тут я достигла немногого: почти всю дорогу в аэропорт я, загибая пальцы, считала фильмы, которые должна была посмотреть, но не успела.
Пальцев на руках явно не хватало, но я могла свободно использовать пальцы одной ноги, так как предусмотрительно оставила туфельку на пороге своего скромного отеля. Я все еще надеялась, что Принц пустится в путь вслед за мной. Для этой надежды у меня была маленькая зацепка: Фея, принявши облик солидного бородатого мужчины в очках, никому не представившись, явилась на просмотр моего со Славой Чаплиным фильма. Назавтра она в том же облике предстала перед моим продюсером и назвалась директором Международного фестиваля в Монреале Сержем Лазиком. Помахивая перед нашими очарованными глазами невидимой волшебной палочкой она (он) пригласила нас принять участие в фестивале, уже не на птичьих правах, а в официальных рамках.
В тот же день я нашла в «Международном экране» статью о Серже Лазике: не открывая широкой публике секрета его потусторонней сущности, журнал просто рассказывал читателю, что Лазик сделал себе имя в киномире, отыскивая никому до него не ведомые шедевры. Дальше шел перечень открытых Лазиком фильмов, которые впоследствии прославили себя и его фестиваль. Оставалось только проверить, не ошибся ли он в нашем случае. Что ж, я надела фартук, надвинула на сбившуюся прическу чепчик, вымазала щеки и кончик носа золой и приготовилась ждать августа, покормив на всякий случай мышей: а вдруг им придется тащить в Монреаль мой ящик с грязным бельем, наспех превращенный в карету?
А пока что мне предстоял вполне прозаический перелет над Средиземным морем без участия потусторонних сил. В зале ожидания я оказалась рядом с немолодой американской четой. Судя по всему, они владели небольшой кондитерской или фотографией в Бруклине или Квинзе. Растянув в улыбке отлично выстиранные в стиральной машине, но не отутюженные губы, моя соседка спросила, как я провела свой отпуск на Ривьере. Я ответила, что была не в отпуске, а в Каннах на фестивале. Щеки мои при этом вспыхнули, сердце заспешило, и я уже мысленно приготовила ответ на ее предполагаемый вопрос: так, скромно, без нажима – привозила фильм, ничего, спасибо, неплохо, приглашены на фестиваль в Монреаль. И тут она воскликнет: ах, как интересно!
Но ее вопрос прозвучал совершенно неожиданно:
– В Каннах? А что там за фестиваль?
Я опешила:
– Кинофестиваль… Знаменитый… Уже сорок лет…
Американка затрясла уложенными в парикмахерской крашенными волосами:
– Каннский кинофестиваль? Никогда не слышала! – и обратилась к мужу: – Исаак, ты слышишь, говорят, в Каннах был какой-то кинофестиваль!
Прошел год, и я с прискорбием убедилась, что Золушки из меня не вышло. На этот раз чемодан для поездки в Канны я складывала в соответствии со своим новым статусом современной деловой дамы (вот она – зрелость, увы!). Все строго практично: туалет официальный и туалет вечерний – две легких блузки из магазина «Маскит» – нашего израильского Диора, чтобы не ударить в грязь лицом и чтобы ничего лишнего с учетом пересадки в Риме – никаких хрустальных туфелек, Боже упаси!
Рим предстал передо мной прекрасный и неумытый, как может быть только вечный город, одолеваемый временными проблемами. Колизей хоть и стоял на своем привычном месте неподалеку от руин Форума, но роли в жизни города не играл никакой: он был лишь досадной помехой оглушительному всенощному триумфу – римская футбольная команда в этот день впервые за последние сорок лет выиграла национальный кубок. Ясно, что в свете этого жизнеутверждающего события вся римская история с ее Ромулом, Ремом и их матерью-волчицей, с тремя десятками цезарей и сотней разрушительных войн, с ее поздним эллинизмом, ранним христианством и вторжением варваров не стоила даже камеры футбольного мяча. Древний город затопили обезумевшие толпы, экзистенциально перебрасывая хлипкий временной мостик к эпохе вторжения варваров: до рассвета носились они на зловонных трескучих мотоциклах по отполированным веками плитам Аппиевой дороги, громыхали ревущими от восторга «фиатами» по булыжникам Палатинского холма, швыряли звонкие жестянки из-под кока-колы в уцелевшие портики колоннад на Форо Романо. Намек на варваров был чисто условный – у тех, бедняг, не было ни этой технической мощи, ни этого славного бензинного духа, ни этих слепящих синтетических красок – желтой и оранжевой, чтобы расписать лица, машины, волосы, платья, колеса и тротуары в цвета команды-победительницы.
Римский аэропорт был щемяще пустынен, носильщик на мой недоуменный вопрос печально отмахнулся: «Депрессия, никто к нам не едет» и потребовал добавочных чаевых. Но я в его правоте усомнилась: ночные ликующие толпы, по-моему, и слова такого не слышали – депрессия.
Над Ниццей громыхала гроза, и поезд в веерах брызг лихо проносился мимо желтых станционных зданий, осененных окоченевшими пальмами, похожими на взъерошенных птиц, одноного застывших на мокрых лужайках. Поезд был великолепно французский: никто не знал, в каком направлении он идет и где останавливается. Когда в радужном полумраке заоконного тумана мелькнул Антиб, я успокоилась насчет направления; оставалось только ждать, промчим ли мы на той же скорости и сквозь Канны. Выскочив из пропахшего знобкой сыростью туннеля, поезд пустился стремительно перелистывать блестящие от дождя улицы Канн, и я уже начала прикидывать, откуда придется сюда добраться – из Парижа или только из Лиона, как он с разгону притормозил у знакомой платформы.
С первого взгляда все выглядело как в прошлом году – те же очереди у дверей кинотеатров, те же фантастические наряды, те же голые девушки на мокром пляже. Впрочем, девушки скорей всего были другие: прошлогодние небось уже вымерли от разочарований и воспаления легких. Но отличить их от новых было бы невозможно: лиц они не имели, только тела – груди, бедра, животы, ключицы, щиколотки и ляжки. Всего этого так много, что каждое тело в отдельности теряло свой личностно-эротический смысл и становилось частью широкого ассортимента, приобретая тем самым марксово качество товара. Прошлогоднюю тему Золушки стремительно заменила тема максимальной прибыли.
Если раньше я видела в этих девушках Золушек, мечтающих превратиться в принцесс вместе с мышами, превращенными в коней, то сейчас мне бросилось в глаза только их стремление стать товаром. Казалось, этим стремлением были охвачены в Каннах все, – режиссеры и продюсеры надрывались, чтобы превратить свою продукцию в товар, причем некоторые делали это столь успешно, что миновали ставшую сомнительной на рынке стадию искусства, сразу придавая результатам своего труда товарный вид. И потому искусством фестиваль порадовать не мог.
Возможно, такое резкое изменение угла моего зрения объяснялось просто скверной погодой или отсутствием в моем чемодане хрустального башмачка, – уж не слишком ли поспешно я его оттуда выбросила, чтобы освободить место для двух элегантных блузок из магазина «Маскит», приличествующих облику деловой дамы, то есть, чтобы придать товарный вид и себе?
Вид был, похоже, вполне товарный – я удостоилась десятков вспышек и щелканья фотокамер у входа в Пале фестиваля перед началом вечернего просмотра: там загодя толпится стадо фотографов, снимающих всех, имеющих товарный вид. Ведь любой из них может оказаться Кем-Нибудь, если не сегодня, то завтра, и тогда публикация его портрета сразу окупит расходы на пленку, ужин и проезд в Канны.
Поток достойных фотографирования, шурша, вливался по дворцовой лестнице в новое здание Пале, где эскалаторов было не меньше, чем коридоров, а коридоров было столько, что никто никогда не мог бы дважды прийти в одну точку.
Здание это, похожее на аэропорт, нависающий над Средиземным морем, открыли в этом году, навек покончив с хваленым кофейно-круассанным уютом Каннского фестиваля. Архитектура Пале лишена всякого уюта в соответствии с мироощущением современного человека: участники фестиваля часами мечутся по его неоглядным просторам среди стерильно-белых, ослепляющих афишной пестротой стен в поисках входа, выхода, буфета, туалета, оргкомитета, пресс-центра, просмотрового зала, своих друзей и самих себя. Возникающее в результате душевное состояние очень способствует правильному восприятию последних достижений кинопромышленности.
Единственно, когда невозможно потеряться в лабиринтах нового Пале, это перед началом вечернего просмотра, который и есть ключевой момент фестивального дня, его апофеоз и его катарсис, его магнитный, электрический, эмоциональный и финансовый полюс. «Такседо, такседо и только такседо!» – предупреждают счастливца, допущенного на это таинство, все правила фестиваля, устные и письменные. Это замечательное слово, напоминающее по звучанию магическое заклинание, обозначает вовсе не актерский талант и не режиссерское умение, а всего лишь пиджак типа смокинга – с длинными фалдами и атласными отворотами, без которого особь мужского пола не может проникнуть в Большой зал Пале, даже обладай она сотней других, не менее важных достоинств.
Узкой извилистой лентой, строго очерченной сизой стеной полицейских мундиров, струится поток черных такседо по зелени дворцовой лужайки. Множество особей мужского пола в напряженном молчании медленно маршируют по направлению к полукруглому порталу, оправляя на ходу длинные фалды и атласные лацканы своих такседо, делающих их всех похожими на официантов ресторана «Карлтон-отеля». А, может, некоторые и впрямь официанты, получившие в свой отгульный вечер чаевые в виде заветных приглашений, – кто их знает, ведь не все же здесь Годары и Феллини.
Тут и там вкраплены в черное яркие блестки дамских вечерних туалетов, капризом моды разделенных на два типа – длинные до полу и короткие до причинного места. Я тоже медленно марширую вместе со всеми, оглаживая кружевные оборки блузки из магазина «Маскит», подавленная торжественностью молчания и пронзительной волной зависти, которая физически ощутимо исходит от глазеющей из-за полицейских спин толпы зевак, затопившей набережную Круазетт. Я всей кожей чувствую, как зависть эта касается моего лица, проникает за шиворот, вызывая по всему телу колючие мурашки, и с облегчением покидаю зеленую упругость лужайки, чтобы начать восхождение по лестнице, ведущей в зал.
В добрые патриархальные времена старого Пале восхождение это состояло из семи гранитных ступеней крыльца, плавно переходящих в короткий мраморный марш вестибюля. У крыльца плотным заслоном дежурили полицейские, вниз к морю еще плотней прессовались любители кино. Лестница нынешнего Пале пологой спиралью уходит вверх, создавая впечатление, что она завершится взлетной полосой – так и кажется, будто устремленная вверх стая черных такседо, обретя к концу пути подъемную силу, взмывает туда, где только небожители собеседуют с небожителями. А вслед за ними их дамы – те, что в длинных платьях, придерживая юбки, а тем, что в коротких, и придерживать нечего, – но зато какое удовольствие следить за ними снизу, пока сам еще не взлетел!
Я поднималась неспешно и чинно вместе со всеми, почти готовая вместе с ними взлететь, если понадобится, – стены лестничного марша, стерильно-белые, были плотно оклеены афишами предстоящего фильма. Они повторяли многократно в такт шагам одно и то же слово, зеленое по темно-коричневому полю:
«НОСТАЛЬГИЯ»
«НОСТАЛЬГИЯ»
«НОСТАЛЬГИЯ»
И так двадцать шесть раз, без перерыва. То есть я насчитала двадцать шесть ностальгий, но было их там намного больше, ведь я не сразу принялась считать. И под каждой ностальгией стояло имя режиссера – Андрей Тарковский, производство СССР-Италия.
Огни в зале были уже пригашены, создавая впечатление последних золотистых сумерек, в мерцающем полусвете которых особенно четко вырисовывалась огромная, как летное поле, сцена, опоясанная бессчетными глиняными горшочками с пенистыми розовыми цветами. Позади сцены круто взмывало под крышу неоглядное полотнище экрана – Экрана с большой буквы, – оно упруго трепетало под напором крылато нацеленных в него крупных и мелких тщеславий.
В центре сцены под сенью Экрана печальным ангелом стоял Андрей Тарковский. Бледное треугольное лицо его все время нервно подергивалось, вскидывая левый угол усатого рта к затравленному лермонтовскому глазу. Конечно, он стоял там не один, а окруженный суетливой сворой распорядителей, соучастников и переводчиков, но их присутствие нисколько не сглаживало и не смягчало того непроницаемого одиночества, которое досталось ему свыше в придачу к лермонтовским усам и строчке «выхожу один я на дорогу».
Андрей Тарковский не был моим приятелем и даже хорошим знакомым, но волею судеб мне случилось заглянуть в замочную скважину той наглухо запертой двери, за которой скрывалась тайна его душевного разлада. Мне довелось познакомиться и даже подружиться с его отцом, Арсением Тарковским, после того, как он неожиданно для всех написал не просто положительную, но прямо таки восторженную рецензию на мой перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Когда двухтомник Уайльда вышел в свет, Арсений, раскрепостившись от обязательств рецензента, отыскал меня и пригласил к себе – он хотел, чтобы я почитала ему свои стихи.
Я, разумеется, была в восторге, ведь А. А. был тогда уже широко известен в узких кругах – по литературным задворкам бродил неясно кем утвержденный Гамбургский счет, и он числился в нем одним из лучших несправедливо замолчанных поэтов.
Мне жилось тогда хоть и голодно, но молодо и головокружительно звонко. Очевидно поэтому стихи я писала исключительно мрачные и грустные. А. А. же писал мрачные и грустные стихи независимо от возраста, а согласно своей природе, так что мы сразу нашли общий язык. Мы встречались время от времени, читали друг другу что-нибудь из вновь написанного и обменивались мнениями о том, что происходило вокруг.
А. А., как и многие прекрасные поэты тех лет, был профессиональным переводчиком. То есть стихи он писал в стол, а на жизнь зарабатывал переводами разнообразного стихотворного мусора, неустанно производимого во всех дружных республиках великой советской державы. Стихов он переводил великое множество и страстно эту работу ненавидел. Ненавидел столь же страстно, сколь отчаянно боялся ее потерять, ибо была она его единственной кормилицей, и притом кормилицей весьма и весьма щедрой.
Ему было уже за пятьдесят, у него была репутация значительного поэта, но ему, как плохому мальчику для битья, все еще не позволили издать ни одной книги стихов. Появилась надежда, что вот-вот из печати выйдет первый его сборник – «Перед снегом», и он ждал выхода этого сборника с юношеским трепетом: ведь его столько раз задерживали и откладывали! Название сборника было выбрано А. А. не случайно – период перед снегом вызывал у него невыносимую боль в раненной во время войны ноге. Об этой боли напоминали ему страдания, которые он испытывал перед выходом в свет своей первой поэтической книги.
Оглядываясь на прошедшую жизнь, А. А. любил читать своим хорошо поставленным бархатным баритоном замечательные строки, потрясавшие меня тогда глубиной и верностью выраженного в них отчаяния:
- «Для чего я лучшие годы
- Погубил на чужие слова?
- Ах, восточные переводы,
- Как болит от вас голова!»
От этих слов хотелось плакать – и было от чего! Сердце мое надрывалось сочувствием. Впрочем, старинная мебель в благоустроенной квартире у метро Аэропортовская, как и картины в золоченых рамах, мягко поблескивавшие над мягкой пушистостью ковров, внятно отвечали на вопрос, для чего именно поэт погубил свои лучшие годы.
Что поделать – это были гримасы советской эпохи, о которой многие сегодня вспоминают с нежностью и тоской по утерянной благодати. Многие, но не я. Наверно потому, что я, не успевши тогда как следует зачерпнуть густого варева из соцреалистического котла, успела зато вовремя вырваться в другое пространство и вдохнуть разреженный воздух других высот.
Но я сейчас не об этом, а о сыне А. А., знаменитом режиссере Андрее Тарковском, который странным извилистым путем утвердил имя отца на положенном ему месте в русской поэзии.
Звезда Андрея начала быстро восходить где-то на второй-третий год моей дружбы с А. А. Сперва появилось «Иваново детство», и в литературных салонах заговорили о поразительном молодом режиссере, которому прочили большое будущее. К моменту появления слухов о гениальном, запрещенном, но кое-где кое-кем уже виденном фильме «Андрей Рублев» имя Тарковского-сына начало реверберировать в московских либеральных тусовках, заглушая все другие имена.
Естественно, что я жаждала воспользоваться своим привилегированным положением, чтобы познакомиться с прославленным сыном А. А. Но как я ни наводила на него разговор, А. А. не спешил его поддержать. И, бывая в доме, я никогда не видела там признаков присутствия неуютного молодого человека, взбудоражившего умы московской интеллигенции. А ведь это были времена, когда начинающие, пусть даже гениальные, кинорежиссеры вряд ли могли позволить себе роскошь выпорхнуть из родительского гнезда. В конце концов, я набралась смелости и спросила у жены А. А., переводчицы Татьяны Озерской, почему я никогда не встречаю у них Андрея.
Я не могла выбрать худшего адресата для своего вопроса. Лицо Татьяны застыло непроницаемой маской, и, наказавши меня ледяным взглядом, она ответила, что Андрей живет у своей матери и здесь не бывает. В результате чего мне открылись новые подробности жизни А. А., о которых я не подозревала – значит, до Татьяны у Арсения была другая жена, и Андрей не вхож в дом Татьяны-разлучницы!
И все же однажды я увидела их вместе – отца и сына, они сидели за столиком в ресторане Дома литераторов. То есть по первому впечатлению А. А. сидел неизвестно с кем лицом ко мне, за ресторанным столиком, и я привычно разлетелась к нему здороваться, а, может, и присоединиться. Мало что было тогда увлекательней экспромтных посиделок в ресторане Дома литераторов – можно было оказаться рядом с кем угодно, равно хорошим и плохим, но неизменно интересным!
Однако случилось небывалое – А. А. меня к себе не подпустил. Он предостерегающе поднял руку с заградительно растопыренными пальцами:
– Я занят! У меня родительский час!
И я поняла, что неприязненно повернутая ко мне спина собеседника А. А. принадлежит знаменитому Андрею, но познакомиться с ним мне не удастся. Мне даже не удалось увидеть его лицо – он так и не обернулся поглядеть, с кем говорил отец, и у меня осталось необъяснимое ощущение, что беседа их не была особенно дружеской.
Впрочем, еще через несколько лет, когда мне посчастливилось еженедельно видеть лицо Андрея крупным планом в двух шагах от себя, я усомнилась в своих умозаключениях и укрепилась в уверенности, что он вообще не склонен к дружеским проявлениям к кому бы то ни было.
Я тогда была слушательницей Высших сценарных курсов, где Андрей читал курс режиссуры. Он не столько читал курс, сколько показывал нам свои любимые фильмы, снабжая их краткими комментариями. С его подачи я впервые познакомилась с творчеством Луиса Бюнюэля, который в те годы был практически неизвестен в России. Один известный литератор даже с пеной на губах отрицал наличие в мировом киноискусстве какого-то Бюнюэля, ссылаясь на то, что он о нем никогда не слыхал.
Из уст Андрея Арсеньевича я впервые услышала не только имя Бюнюэля, но и обоснование его эстетики торжествующего уродства. Как Андрей любил смаковать изощренный садизм «Андалузского пса», как увлеченно посвящал он нас в интимные подробности режиссерской работы над оргией нищих в «Веридиане», с каким трепетом открывал нам секреты фрейдовских подтекстов «Дневной красавицы» и «Дневника горничной»! И неспроста – уж кому, как не ему надлежало быть знатоком фрейдовских подтекстов в жизни и в искусстве!
После его лекций мне открылась природа режиссерского восторга при съемках душераздирающих сцен из «Андрея Рублева», где щедро заливают расплавленную смолу в глотки и натурально выковыривают глаза из глазниц. И стало понятно, что душа человека и режиссера Андрея Тарковского раздираема вечной неизбывной мукой, от которой нет убежища, нет спасения. Эту муку, навеки запечатленную на его лице, не смягчало ни поклонение зрительного зала, ни сияние прожекторов над его головой.
«Понятие «ностальгия», – обратился Тарковский к залу по-русски, и переводчики торопливо залопотали в микрофоны по-своему, нисколько не нарушая этим его одиночества, – непереводимо ни на какой иностранный язык. Только по-русски оно означает так много, только по-русски оно так емко: здесь и тоска по родине, и тоска по утраченной молодости, и многое другое».
В зале захлопали, свет погас окончательно, и по экрану поползли титры.
Над мокрым, скудно освещенным полем клубился туман, его рваные клочья колыхались в почти полной тьме, то разрежаясь слегка, то сгущаясь в непроглядные комья. Где-то за туманом ехала машина, увидеть ее было невозможно, но сквозь туманную глухомань иногда пробивалось надсадное ворчание мотора. Туман клубился и полз, клубился и полз, клубился и полз, а машина тужилась прорвать его и выехать в поле зрения, но никак не могла. Это длилось так долго, что у меня даже зубы заныли; в зале перешептывались и кашляли. Наконец хлопнула дверца – похоже, машина осознала тщету своей борьбы с туманом и сдалась.
Женский голос приглушенно сказал по-русски с сильным акцентом:
– Вот и прыехальи!
А мужской ответил резко, на смеси русского и итальянского:
– Я ведь просил, парле итальяно, пожалуйста!
Но женский не унимался:
– Поглядьи, как красыво! – воскликнул он и тут же поспешно перевел восторг на итальянский, это уже на бегу, удаляясь в сопровождении чавкающего припева башмаков по жидкой грязи.
Сердитый мужчина за голосом в болото не последовал, он остался где-то поблизости, еще раз хлопнул в темноте дверцей и проворчал ненавистно по-русски:
– В гробу я видал ваши красоты, чтоб вы ими подавились!
И опять заклубился туман, наползая и отползая, сгущаясь и разрежаясь, пока в белесой его дымке не прорезалось светлое окошко; в окошке взбежали на пригорок деревянные дома русской деревни. Из туманных хлопьев вынырнуло мужское лицо на негативном отпечатке кинопленки, так что лицо выходило черным, а волосы белыми. Негативный мужчина тоскливо смотрел из тумана, как в далекой русской деревне маленький мальчик взбегает на пригорок, откуда машет ему женщина с венком кос вокруг головы. Тугие косы эти строго обвивали шелковистую округлость ее затылка и короной возвышались надо лбом, не в пример неорганизованной гриве обладательницы итальянского акцента, вынырнувшей со временем из туманной тьмы начальных кадров в дождливую полутьму последующих.
Символика «ностальгии» постепенно проступала сквозь мутную сетку дождя, заливающего экран: герой его, Андрей Горчаков (надо же, какая фамилия красивая, нет, чтобы Горшков или Торчков, как это в жизни бывает) помогал режиссеру Андрею Тарковскому преодолеть Эдипов комплекс его предыдущего фильма «Зеркало». В свете этого мучительного преодоления становилась понятной непреходящая черная меланхолия нашего двуликого Андрея, приехавшего из солнечной России в промозглую от вечной сырости Италию, чтобы увидеть наконец воочию те памятники средневековой архитектуры, о которых он в течение многих лет читал лекции студентам. Ведь его томит ностальгия по семейному уюту «Зеркала», где он был счастливо женат на собственной матери – как говорится, «и дома, и замужем».
Факт этого кровосмесительного брака удостоверяется в «Зеркале» не только тем, что режиссер поручил роль и матери, и жены героя одной и той же актрисе, не затрудняя ее даже переодеванием и гримом, созвучным эпохе, но и тем, что в глазах матери-жены сын-мальчик то и дело занимает место мужа-мальчика, так что к концу фильма вовсе непонятно, кто кому кем приходится. И последнюю точку над «i» ставит отсутствие в фильме отца, то ли арестованного, то ли погибшего на фронте, но в любом случае безжалостно удаленного режиссером из экранной жизни согласно канонам Эдипова комплекса, чтобы обеспечить себе ничем не замутненный союз с матерью.
В «Ностальгии» почти преодоленное стремление героя жениться на собственной матери прорывается только изредка, когда он в ностальгическом отчаянии пытается жену «уматерить» и когда сам не знает, кто же этот мальчик, взбегающий к дому на пригорке, – он сам или его сын. Зато проблему отца режиссер решил воистину мастерски: не впуская его на экран и таким образом увиливая от непосредственного общения с объектом слишком недавней и потому неостывшей еще ненависти, он часто и подолгу читает вслух его стихи. Тут уж вовсе смешались все сознательные и подсознательные потоки, обильно орошаемые потоками текущей по экрану воды: по фильму стихи принадлежат перу Андрея Горчакова, по жизни – перу Арсения Тарковского, отца Андрея Тарковского, того самого, который после успеха «Андрея (опять Андрей, что за наваждение! – а ведь это «муж» по-гречески) Рублева» говорил мне с горьковатой (горчаковатой) иронией: «Если раньше девушки спрашивали, кто этот вертлявый юнец, им отвечали: это сын знаменитого поэта Тарковского. Если теперь они спрашивают, кто этот хромой старик, им отвечают; это отец знаменитого режиссера Тарковского».
Тут уж весь фрейдовский расклад налицо: и соперничество поколений, и соперничество поэзии с кино, и соперничество мужское – за благосклонность прекрасных дам. Но за годы, протекшие (ведь у Тарковского все именно течет, а не передвигается каким-либо иным способом, – и время, и стихи, и судьбы) между «Зеркалом» и «Ностальгией», юношеское неприятие отца у Андрея, постепенно остывая, переплавилось в форму идеологического к нему почтения, свойственного зрелости. Враждебность, правда, еще не остыла настолько, чтобы допустить физическое присутствие отца в кинопространстве, но голос его поэзии уже заполняет все эмоциональное пространство фильма, преображаясь там в некое видимое Божество, витающее над водами. Этот образ вовсе не условный, ибо многие кадры «Ностальгии» представляют собой разнообразные эффектные сцены «из жизни воды» – потоки, заливающие нижние этажи заброшенных зданий; хлюпающие мокротой болотистые луга; радужный пар над горячими источниками; прозрачные струи, омывающие позеленевшие от времени скульптуры, и т. д. – озвученные пространным чтением стихов Арсения Тарковского.
Пригасив свою неприязнь к отцу, Андрей одновременно уже не с прежним пылом стремится к союзу с матерью, и потому намеки на ее отождествление с женой Горчакова не так прозрачны, как в «Зеркале», зато жена все еще олицетворяет собой покинутую героем мать-Родину.
Вот тут-то и начинаются загадки. Сюжетно все вроде бы просто: Андрей Горчаков, специалист по итальянской архитектуре эпохи Возрождения, приезжает в Италию пощупать собственными руками старинные камни, которым отдано его сердце. Казалось бы – щупай и радуйся, что добрался, так нет: наш Андрей сразу по приезде оказывается во власти неодолимой тоски по собственному детству с домом на пригорке (или он только в Италии осознал, что уже не мальчик?), по оставленной в России жене, той, что с венком кос надо лбом, по сыну, взбегающему на пригорок, который сливается в его сердце с памятью о себе, взбегающем на пригорок; и по Родине, сливающейся в его сердце с образом жены. Тоска эта столь же неизбывна, сколь необъяснима, и потому хочется спросить у самого Тарковского, отчего это его герою так плохо.
Просматривая беседу Тарковского с каким-то дотошным итальянским журналистом, прорвавшимся к режиссеру перед самым началом съемок, натыкаюсь на провокационный вопрос: как режиссер думает увязать свое пессимистическое восприятие мира с оптимистическим образом жизни Италии? Режиссер отвечает уклончиво и невнятно: «Пессимизм его продиктован глубоким беспокойством за человечество и потому не может быть преодолен просто при помощи жизнеутверждающих склонностей итальянского обывателя». Раскрыв таким образом свою задачу не допустить победы бездумного оптимизма над обоснованным пессимизмом, режиссер честно сделал все возможное, чтобы эту задачу выполнить. Италия «Ностальгии» – это мрачная страна безлюдных руин, неосвещенных колоннад, заболоченных полей, полузатопленных домов, замусоренных улиц. Смотришь – и диву даешься: и как они там живут, бедняги? Так и хочется спросить участливо, как спросила внучка Корнея Чуковского, услышав, что дед жил при царе: «Бедненький, как же ты выжил?»
Вялую покорность, с которой итальянцы принимают свое беспросветное существование, можно оправдать разве что умственным и духовным их убожеством: как бессловесные призрачные тени, бродят они по мрачным храмам, ютятся в затопленных подвалах разрушенных городов среди свалок и болот, часами мокнут в водах горячих источников, сливаясь постепенно с радужными парами, клубящимися над их безвольными головами.
Единственный человек, который «звучит гордо» и потому удостаивается чести быть допущенным в собеседники возвышенного героя Тарковского, это сумасшедший профессор математики Доменико, разделяющий пессимизм Горчакова и дополняющий его по противоположности. Сам Тарковский так характеризует Доменико: «Он, подобно беззащитному ребенку, действует безотчетно и безрассудно, восполняя таким образом то, чего недостает Андрею».
Пока безутешный Андрей медленно и со вкусом переливал свою тоску из одного мокрого кадра редкой красоты в следующий не менее мокрый и не менее прекрасный кадр, большая часть зрителей успела разбежаться: вокруг меня то и дело слышались мягкие щелчки покинутых кресел и поспешные шаги беглецов. Непереводимая русская ностальгия никак не укладывалась в рамки «простой любовной истории», обещанной Тарковским, ни в глазах заскучавших зрителей, ни в душе пышноволосой переводчицы Горчакова Евгении, в которую он, по замыслу автора, влюблен.
Любовь Андрея к переводчице – это специфически российская любовь, описанная во многих романах и анекдотах: влюбленный герой, не соглашаясь на приятную интрижку, требует от легкомысленной итальянки только полной отдачи, полного взаимопонимания и преображения ее в привычную ему Мать с большой буквы, ибо ищет не радости, а страдания.
Вслушиваясь в сердитое итальянское стрекотание Евгении, я разделяла ее недоумение: чего ему надо? Почему он отказывается с ней переспать? Почему он требует от нее того душевного слияния, которое сам признал невозможным? Для чего он ставит перед собой неразрешимые задачи?
Пока я пыталась ответить на эти вопросы, Андрей тихо лежал на кровати в затемненной комнате с одним-единственным окном, выходящим в залитый слезами дождя сад. Он лежал тихо и неподвижно, как мертвый, силуэт его был едва различим в мутной полутьме комнаты. Секунды стекали по стеклу дождевыми каплями, перерастая в минуты – бегство из зала приняло повальный характер, так что топот многих ног заглушал иногда шорох дождя. К исходу третьей минуты в глубине комнаты появился едва различимый силуэт собаки, собака вскочила на кровать рядом с неподвижно распростертым Андреем, слилась с темнотой и тоже замерла.
Секунды потекли еще медленней, наполняя зал ощущением отчаяния, невыносимого до боли в суставах, а к концу пятой минуты полной неподвижности и тишины в комнате слегка прояснилось и оказалось, что на кровати рядом с Андреем лежит женщина с венком кос вокруг головы, беременная – где-то на последнем месяце. При виде ее огромного, чуть не до потолка вздутого живота Андрей вскакивает, как ужаленный, и выбегает из комнаты, чтобы увидеть, как маленький мальчик взбегает по залитой солнцем дороге к дому на пригорке, откуда машет ему все та же вездесущая обобщенная Мать в венке кос, на этот раз уже не беременная ни им, ни его сыном.
Вот тут-то и пришлись кстати стихи обобщенного отца, Арсения Тарковского, в изобилии прочитанные голосом Горчакова над стоячими, текучими, летучими и прочими водами, – похоже, они помогали ему избавиться от тяжкого комплекса вины. Вины перед кем? Вины за что?
Ведь Горчаков, безвольно скользя по течению фильма, не совершает ни одного поступка, ни хорошего, ни плохого, так что ему нечего стыдиться, как, впрочем, нечем и гордиться. И даже когда его единственный друг, безумный Доменико, выходит на площадь, чтобы совершить тщательно подготовленное самосожжение, цель которого – доказать миру, что безумен мир, а не Доменико, Андрей не пытается предотвратить самоубийство и остановить друга. Он только, уподобляясь белому медведю в зоопарке, долго-долго бегает по пояс в воде по затопленному залу какого-то дворца, прикрывая полой пальто крохотное дрожащее пламя зажженной им в знак солидарности с Доменико свечи, и шепчет при этом голосами всех трех чеховских сестер: «В Москву! В Москву! В Москву!»
Я вышла из зала, пытаясь убедить себя, что Андрей Тарковский, создатель «Андрея Рублева» и «Сталкера», искренне полагает, будто только «в Москве» существует истинная любовь (с венком кос надо лбом), истинная высокая духовность (давно утерянная растленным капиталистическим обществом) и истинная связь человека с природой (давно прерванная обывательским образом жизни Запада, ценящего комфорт превыше всего). Впрочем, насчет комфорта я сразу с ним согласилась; ведь я еще не совсем забыла прелести русского комфорта, приближающего к природе особенно хорошо при помощи зимнего сортира на улице без слива и отопления.
Я переворачивала детали фильма и так, и этак, пытаясь прочесть замаскированную художественную весть его автора, но ничего путного не выходило. Я чувствовала себя как традиционный сыщик из детективного романа, каждое хитроумное построение которого разваливается из-за какого-нибудь очередного несоответствия. Недостающую деталь мне подкинули непредвиденные события следующего дня.
Рано утром меня разбудил телефонный звонок: группа голландских тележурналистов умоляла меня помочь им взять интервью у Тарковского, который отказывал им, ссылаясь на отсутствие его англо-русского переводчика. Я немедленно согласилась, подогреваемая нестерпимым любопытством. Услышав, что переводчик есть, Тарковский пообещал выделить голландским ребятам пятнадцать минут через полчаса, так что они еле-еле успели за оставшееся время дотащить до «Карлтон-отеля» тяжелую аппаратуру. Впрочем, они были так счастливы своим успехом, что аппаратура не казалась им тяжелой.
Из вестибюля они позвонили в номер Тарковского, как было договорено. Телефон не отвечал. Я, конечно, сразу учуяла недоброе, но наивные голландцы, все еще ликуя, поволокли свои камеры и прожекторы на третий этаж, к дверям номера Тарковского. На стук никто не ответил. Я молчала, предвидя знакомый исход. Мальчики продолжали стучать все настойчивей, не понимая, что могло случиться: ведь Тарковский полчаса назад пообещал, что будет ждать их в номере. Вдруг дверь соседнего номера распахнулась, на пороге возник средних лет сухощавый молодец, на лице которого стояла несмываемая печать той организации, которой он служил в чине не ниже майора.
– В чем дело? – спросил он по-английски со следами русского акцента.
– Мы от голландского телевидения… господин Тарковский… интервью… – залопотали наперебой неподготовленные к подобным инцидентам мальчики. Я не вмешивалась, понимая, что могу только навредить.
– Господин Тарковский не может дать интервью, у него нет переводчика, – отрубил майор непререкаемо.
– А у нас есть. Вот переводчица… она согласна… и господин Тарковский тоже…
Наметанным профессиональным взглядом майор охватил все детали моей семитской внешности, быстро и умело пропустил их сквозь личный черепной компьютер и выдал отрицательный ответ:
– А мы не пользуемся переводчиками со стороны. Если надо, приглашаем своих, – и приготовился захлопнуть дверь.
Оператор, которому пришлось нести особо тяжелые части оборудования, ухватился за ручку двери, как за последнюю соломинку, и потащил дверь на себя.
– Но господин Тарковский нам обещал! Он обещал нам! – кричал оператор так отчаянно, словно приглашал самого Господа Бога в свидетели творящейся несправедливости.
Майор опять быстро пропустил нужные данные через черепной компьютер – на этот раз ответ был положительный: он бросил взгляд через плечо внутрь комнаты, застывшей в напряженной тишине. Оттуда, словно марионетка на ниточке, быстро выбежал взъерошенный Тарковский, повторяя на бегу одну и ту же фразу-заклинание, будто она была запрограммирована в нем, как в шарманке:
– Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал!
– Вот видите, господин Тарковский никому ничего не обещал, – проворковал майор с отеческим укором, но ласково, очевидно прощая глупым мальчикам их ребяческую ложь, и на этот раз закрыл дверь беспрепятственно, одним движением смахнув при этом Тарковского внутрь комнаты.
Мальчики уныло поволокли свое оборудование по коридору к лестнице, а я осталась стоять перед закрытой дверью, отмеченной лишь обычной гостиничной табличкой с номером, пригвожденная к месту внезапным прозрением. Несовпадающие детали загадочного фильма «Ностальгия» производства СССР-Италия вдруг встали на свои места, словно в детской картинке-лабиринте «найдите зайчика». Я ясно увидела зайчика, затаившегося в сложном переплетении маскировочных линий, и теперь уже не могла понять, как это я не замечала его раньше, – ведь он просто бросался в глаза!
Не в силах совладать с темной волей своего подсознания, режиссер попытался раскрыть трагедию советского человека в заграничной командировке, который страстно мечтает остаться на Западе и никогда-никогда-никогда не возвращаться в родную тюрьму. Стоит только поднять этот скрытый от прямого взгляда подтекст, и немедленно исчезают все неясности, все смутные места, все доселе не поддающиеся объяснению метафоры фильма. Вот женщина в полутьме храма открывает крышку огромной плетеной корзины, висящей на стене, и оттуда вылетают десятки птиц, они взмывают в светлый простор небес, поток их бесконечен, и нельзя представить, как они все могли уместиться в корзине. Ах, как душа просится на волю, из плетеной клетки корзины, из замкнутого пространства в простор неба! Как же тут не затосковать, не заболеть черной меланхолией, не упасть ничком на темную кровать, затиснутую в угол продрогшей от сырости комнаты. А женщина с венком кос надо лбом уже тут как тут, сторожит, намекает на кровное родство, не отпускает из плена, то заманивает памятью детства, то голосом отца, то суровым приказом Родины. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит.
Что же сделать, чтоб не так хотелось, чтоб не так кололось, чтоб мама не сердилась?
Лучшее средство – зажмурить глаза, заткнуть уши и громко кричать: «Чур меня! Чур!»
Для этого Италию следует представить мрачной страной полузатопленных домов и замусоренных улиц, по которым бродят призрачные тени неудачников. И повторять, как заклинание:
– В Италии никогда не светит солнце! В Италии всегда идет дождь! В Италии только безумцы еще не потеряли связи с природой, не погрязли окончательно в болоте буржуазного комфорта! В Италии невозможно жить!
Главное – повторять это так долго и настойчиво, чтобы самому в это поверить. А на случай, если поверить до конца все же не удастся, следует пустить в ход более сильные средства.
Простейшее из этих средств сводится к унылому припеву, подхваченному у двух загулявших купчиков, пытавшихся помочиться на роскошное зеркало в фойе парижского ресторана: «Все равно, они нас не поймут!»
А раз они нас не поймут, то и нам понять их невозможно, да и стоит ли их понимать? От природы они оторвались, погрязли в буржуазном комфорте, статуи эпохи Возрождения захламили обертками от мороженого и апельсинными корками, памятники старины запустили до непотребной зелени – деньги на чистку жалеют, и главное – ничего не хотят сделать ради собственного спасения.
Только и остается зажечь свечу негасимого духа, прикрыть ее полой пиджака, чувствуя себя при этом спасителем человечества, и метаться по пояс в воде, заклиная голосами всех трех чеховских сестер:
– В Москву! В Москву! Чур меня, чур! Я никому ничего не обещал!
Впрочем, никакие заклинания не помогут – потому что обещал: майору из соседнего номера, замаскированному то под мальчика, взбегающего на пригорок, то под большеглазую женщину с короной кос надо лбом, да еще к тому же беременную на последнем месяце.
Обещал хранить верность до гроба.
Обещал не хотеть жить на свободе, а рваться назад, в Москву, где все презирают буржуазный комфорт, где обертки от мороженого и апельсинные корки (если таковые есть с чего счистить) бросают строго в урны, где все памятники старины надраивают до блеска медных пуговиц и где всегда будет солнце, где всегда будет небо, где всегда будет Мама, где всегда буду Я!
И от этого «всегда» развивается ностальгия, истинно русская, многозначная, непереводимая на другие языки. Обоюдоострая ностальгия – по навеки недоступному манящему Западу и по России, покинутой в мечтах, но неотторжимой, как родовое проклятие.
Коричнево-зеленая ностальгия, мутная, как стоячая вода, как непролазный туман, как непреходящий дождь, доведенная до такой концентрации страдания, из которой возможен только один выход – в искусство.
Вот вам и парадокс: в искусство, а не в товар.
Да здравствует Ностальгия!
Прошло пару лет. Доброхоты сообщили мне, что Андрей Тарковский страшно на меня обиделся. Может быть, он был прав – мою статью вряд ли можно было считать комплиментарной, а того, что я назвала его фильм единственным произведением искусства на Каннском фестивале, он или не заметил или не счел важным.
К тому времени он уже успел преодолеть свою ностальгию и попросить политического убежища на бездуховном Западе, а вскорости тяжело и безнадежно заболеть. И я приложила все усилия, чтобы как-то смягчить обидные суждения своего эссе – я писала ему письмо за письмом, но никогда не получила ни строчки в ответ.
Так он и умер, оставив меня непрощенной. Владимир Максимов рассказал мне, что писем моих он не читал, а сразу выбрасывал, не распечатав.
Прошло еще несколько лет. Как-то летом, когда мы жили «на даче» в глухой немецкой деревне, к нам в гости приехал Георгий Владимов с женой Наташей, ныне покойной. Наташа была женщина вострая и стремительная, она была знакома со «всеми» в русском зарубежье и вела дневник, куда каждый день вписывала детали всех встреч и разговоров, грозясь однажды их опубликовать. «Ох, они взвоют!» – ликовала она, предвкушая. Но умерла, так, к сожалению, и не предъявив миру свой приговор.
А тогда, под деревьями уютного немецкого сада с фаянсовыми гномиками на грядках, речь зашла о Тарковском. Прищурясь на недопитую рюмку водки, Владимов упрекнул меня:
– Вы в своей статье очень обидели Андрея. Ну зачем вы написали, что он выпивал с кэгэбэшником?